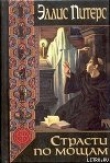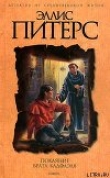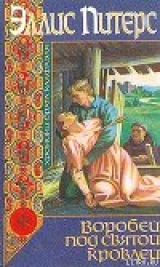
Текст книги "Воробей под святой кровлей"
Автор книги: Эллис Питерс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Скажи-ка мне, что же ты такое нашел? – дружелюбно поинтересовался Кадфаэль. – И где только ты откопал такую занятную штуковину?
Мальчик небрежно махнул рукой назад, в сторону деревьев, заслонявших Гайю.
– Там она валялась, брошенная в холщовом мешке; мешок я оставил где-то на берегу. Не знаю, что это за вещь. Я никогда таких не видал. По-моему, она ни на что не годится.
– А не нашел ли ты там еще тоненькую палочку с натянутыми вдоль нее волосками? – спросил Кадфаэль, разглядывая обломки скрипки.
Мальчик зевнул, остановился и разжал руку. Игрушка выскользнула у него из пальцев и осталась лежать в пыли.
– Дэви стал топить меня, и я хлопнул его той палкой по башке, она переломилась, и я ее выбросил.
А как же иначе он мог поступить с бесполезной вещью! Точно так же он выбросил сейчас и сломанную скрипку, оставив ее лежать на земле, и пошел своей дорогой, потирая слипающиеся глаза грязным кулачком.
Брат Кадфаэль подобрал с земли жалкие обломки и только вздохнул, увидя спутанные обрывки струн. Скрипка хоть и нашлась, но от нее мало было проку. Он понес скрипку в монастырь, слишком хорошо понимая, какое горе причинит ее вид незадачливому хозяину. Допустим, Лиливин выйдет живым из этой переделки, однако он выйдет из нее нищим, без единого гроша, лишившись даже своего главного средства к существованию. Все это брат Кадфаэль понял, прежде чем вручил Лиливину сломанный инструмент, а теперь мог воочию наблюдать его ужас – горе и отчаяние отразились на побледневшем лице, которое стало тоскливым, как осенние сумерки. Приняв из рук Кадфаэля инструмент, юноша стал ласкать его, качая, словно младенца, и, склонившись над разбитым инструментом, залился слезами. Так горюют не о погубленной вещи – так оплакивают смерть возлюбленной.
Кадфаэль, не желая быть навязчивым, оставил его одного и, удалившись в одну из кабинок скриптория, стал выжидать, когда первая волна горя и боли уляжется в душе юноши. Наконец Лиливин в изнеможении затих. Он сидел нахохлившись, сжимая в объятиях свое погибшее сокровище, как бы защищая его своим телом от безжалостного мира.
Кадфаэль негромко заговорил:
– Есть люди, которые знают, как восстанавливать музыкальные инструменты. Я не владею этим искусством, зато это умеет брат Ансельм, регент нашего хора. Давай попросим его взглянуть на твою скрипочку! Может быть, в его руках она опять запоет?
– Вот это – и запоет? – страстно вскинулся Лиливин, протягивая к нему останки скрипки. – Посмотрите же! Эти щепки годятся только на то, чтобы бросить в печку! Тут уж никто ничего не починит!
– Откуда тебе знать? Да и мне тоже! Что мы теряем, если спросим знающего человека? А если окажется, что эту скрипку нельзя починить, брат Ансельм сделает тебе новую.
Ответом было выражение горестного недоверия на лице Лиливина. Да и как ему было надеяться, что кто-то захочет утруждать себя ради того, чтобы помочь ему – такому убогому созданию, с которого нечего взять за труды? Обитатели монастыря считают себя обязанными давать ему кров и пищу, но и только! Да и это делают потому, что так велит им долг. А в миру самая большая милость, какую оказывали ему люди, состояла разве лишь в том, что кто-нибудь кинет корку хлеба.
– Да разве же я смогу заплатить за новую скрипку? Не смейтесь надо мной!
– Ты забываешь – мы не занимаемся куплей и продажей, и деньги нам не нужны. А вот брату Ансельму достаточно поглядеть на сломанный инструмент, как он загорается желанием его исправить. А когда он увидит хорошего музыканта, который пропадает без инструмента, он тут же захочет подарить ему новый голос. А ты хороший музыкант?
– Да! – сразу ответил Лиливин с горделивым воодушевлением. Уж в этом он знал себе цену.
– Тогда докажи ему это, и он оценит тебя по достоинству.
– Вы и правда так думаете? – спросил Лиливин, не зная, верить ему или не верить. – Вы правда его попросите? Если бы он взял меня в ученики, я, может быть, и сам научился бы его искусству! – воскликнул он, но тут же запнулся и сник; мимолетная радость сменилась на его лице слишком красноречивой печалью. Стоило ему почувствовать какую-то надежду, как новый прилив отчаяния гасил этот проблеск. Кадфаэль торопливо перебирал в уме разные способы отвлечь юношу от мрачных мыслей.
– Никогда не думай, что у тебя не осталось друзей! Это была бы черная неблагодарность, если вспомнить, что у тебя есть сорок дней передышки, что дело твое расследует такой справедливый человек, как Хью Берингар, а кроме того, есть по крайней мере одно существо, которое непоколебимо держит твою сторону и не желает слышать против тебя ни одного слова. – Лиливин немного приободрился, и, хотя смотрел по-прежнему недоверчиво, это все же отвлекло его ненадолго от мыслей о петле и виселице. – Наверно, ты вспомнишь ее – это девушка по имени Раннильт.
Лицо Лиливина одновременно и побледнело, и просветлело. Кадфаэль впервые увидел на нем улыбку, но даже сейчас она была такой робкой и нерешительной, как будто бы он боялся прикоснуться к чему-то милому и желанному из страха, что оно испарится, как растаявшая снежинка.
– Вы видели ее? Говорили с ней? И она не верит тому, что обо мне говорят?
– Не верит ни единому слову! Она утверждает, что знает – ты ни на кого не нападал и ничего не крал в том доме. И даже если все языки в Шрусбери будут тебя обвинять, она будет стоять на своем и защищать тебя.
Лиливин все еще сидел, обнимая свою сломанную скрипку, и баюкал ее нежно и бережно, словно возлюбленную. Лицо его светилось тихой улыбкой.
– Это первая девушка, когда-либо ласково взглянувшая на меня. Вы, наверно, не слышали, как она поет, – таким нежным тоненьким голоском, как будто играет свирель. Мы вместе ужинали на кухне. Это был самый прекрасный час в моей жизни. Я-то и не думал… Так это действительно правда? Раннильт верит мне?
Глава четвертая
Воскресенье
В этот священный день отдохновения перед заутреней Лиливин аккуратно сложил одеяла и привел себя в приличный вид, стараясь по возможности ничем не нарушить монастырский уклад. Бродячая жизнь не дала ему случая хорошо познакомиться с церковными обрядами и порядком богослужения, а латынь была для него книгой за семью печатями, но он собирался слушать и молиться с должным благоговением, чтобы хоть этим заслужить снисхождение хозяев.
После завтрака Кадфаэль вновь перевязал рваную рану на руке Лиливина и снял повязку с его головы.
– Твоя ссадина хорошо заживает, – сказал он удовлетворенно. – Лучше оставить ее теперь открытой, чтобы кожа могла дышать. У тебя хорошее, здоровое тело, сынок; вот только очень уж ты худощав. Я вижу, ты уже не хромаешь и не кособочишься при ходьбе. Так как там твои болячки?
Лиливин и сам удивился, осознав, что у него уже ничего не болит и не ноет, и, чтобы показать свое хорошее самочувствие, проделал несколько упражнений, изгибаясь и принимая самые невероятные позы. Тело не разучилось его слушаться. У него так и чесались руки покидать разноцветные кольца и шарики, которыми он пользовался при жонглировании, но юноша не стал вынимать из-под тюфяка узелок со своими жонглерскими принадлежностями, чтобы ненароком не рассердить монахов. Поломанная скрипка тоже покоилась в уголке возле двери. Вернувшись к себе после завтрака, Лиливин застал там брата Ансельма, тот задумчиво вертел в руках останки пострадавшего инструмента, ощупывал кончиками пальцев самые глубокие трещины.
Регенту было пятьдесят с лишним лет. Это был худощавый человек с неухоженной тонзурой в кудлатых волосах, с рассеянным взглядом близоруких глаз, дружелюбно и ободряюще смотревших из-под мохнатых бровей на владельца искалеченной скрипки.
– Так это твоя вещь? Брат Кадфаэль рассказал мне, как она пострадала. А был отличный инструмент! Ты не сам его сделал?
– Нет. Я получил его от старичка, который меня научил играть. Он отдал мне ее перед смертью, – сказал Лиливин. – А сам я не умею их делать.
Брат Ансельм услышал голос юноши впервые после его шумного появления, сопровождавшегося оголтелыми криками и воплями. Он сразу насторожился и прислушался, склонив голову набок.
– У тебя высокий голос, очень чистый и верный. Если ты поешь, ты мог бы мне пригодиться. Ведь ты же наверняка поешь! Ты не подумываешь о том, чтобы остаться у нас и принять монашество? – Но тут брат Ансельм вспомнил, что в сложившихся обстоятельствах это маловероятно. – Что и говорить, эта бедная скрипочка подверглась зверскому обращению, но все-таки она не безнадежно испорчена. Можно попытаться помочь ей. И смычок от нее, как ты говоришь, пропал.
Лиливин ничего такого не говорил, поэтому он промолчал и только про себя удивлялся. По-видимому, брат Кадфаэль сообщил подробные сведения брату Ансельму, и тот ничего не забыл из его рассказа.
– Надо тебе сказать, что создать хороший смычок едва ли не труднее, чем саму скрипку. Но у меня уже есть удачный опыт. А ты умеешь играть на других инструментах?
– Я почти из всякого могу извлечь мелодию, – сказал Лиливин, невольно заразившись увлеченностью своего собеседника.
– Тогда пойдем! – сказал брат Ансельм, решительно беря его под локоть. – Я покажу тебе мою мастерскую, после мессы мы с тобой на пару попробуем сделать что возможно, чтобы поправить твою скрипку. Мне понадобится помощник для приготовления лаков и клея. Но предстоит долгая и кропотливая работа, за которую надо взяться с молитвой, и тут спешить – только делу вредить. Музыке надо учиться всю жизнь, сынок, сколько бы ты ни прожил.
От брата Ансельма на Лиливина точно повеяло теплым ветром, и он, как во сне, побрел за своим новым наставником, не думая больше о том, что жизнь иной раз может оборваться очень рано.
Уолтер Аурифабер проснулся утром с гудящей головой и ужасной тяжестью во всем теле, но также с отчетливым желанием размять закостеневшие суставы. Он чувствовал, что ожил, и ему захотелось поскорее встать, потянуться, размяться хорошенько, чтобы стряхнуть с себя сонную одурь и ощутить прилив бодрости. Поворчав на дочь, которая выслушала его терпеливо и молча, он спросил у нее, куда подевался работник. Оказалось, что тот ушел и, чтобы его в воскресный день не засадили за работу, вообще смылся куда-то за город, подальше от мастерской. Услышав это, мастер Уолтер сел за стол, чтобы плотно позавтракать и заодно подсчитать свои потери.
Как в тумане, он начал вспоминать все случившееся, включая и один эпизод, о котором ему не хотелось бы докладывать матушке. Деньги есть деньги, с этим никто не спорит, и старушка имела полное право поступать так, как она поступила, но ведь, в конце концов, не каждый день празднуешь женитьбу родного сына, да такую женитьбу, которая приносит в дом знатную прибыль. Так что можно, наверное, по такому случаю простить человека, если он расщедрился по отношению к убогому оборванцу. Но посмотрит ли на это дело матушка, как он? Уолтер теперь и сам жалел, что поступил так в порыве великодушия, памятуя об его печальных последствиях. Нет, матушка не должна об этом узнать! Так мучился Уолтер, терзаемый головной болью и запоздалым раскаянием. Он немного утешился, провожая сына с невесткой в церковь Святой Девы Марии, куда они, одетые в лучшее платье, шли чинно, как муж и жена. Марджери чопорно, одними пальчиками, опиралась на руку Даниэля. Деньги, принесенные невестой в приданое, значили сейчас очень много для семьи, пока не были найдены выкраденные из кованого сундука драгоценности. Голова Уолтера начинала раскалываться от боли при одной мысли об этом несчастье. Тот, кто причинил такой урон дому Аурифаберов, во что бы то ни стало должен быть повешен, и это так и будет, если на свете еще жива справедливость!
Когда к Уолтеру явился сопровождаемый сержантом Хью Берингар, чтобы самолично выслушать печальную повесть пострадавшего, тот приготовился к пространным излияниям. Однако он совсем не обрадовался, когда оказалось, что его матушка, ожидавшая посещения брата Кадфаэля, в предвидении новых наставлений относительно того, как ей следует себя вести, если она еще хочет подольше жить, не придумала ничего лучше, как встретить строгого лекаря в холле. Стуча палкой и браня Сюзанну, которая пыталась ее удержать, Джулиана спустилась с лестницы.
Старушка прочно расположилась в своем углу на лавке с подушками, и, когда вошел Кадфаэль, она вызывающе устремила на него дерзкий, немигающий взгляд. Кадфаэль не стал читать старухе нотации, решив, что не доставит ей такого удовольствия. Без лишних слов он вручил приготовленную мазь, проверил, ровно ли бьется сердце и в порядке ли дыхание, а затем обернулся к Уолтеру, который вдруг онемел, точно у него иссякли все слова.
– Рад видеть, что вы поправились. Люди наговорили про вас всяких страстей, но, как вижу, они явно поторопились. Позвольте выразить вам сочувствие по поводу понесенного ущерба. Надеюсь, что все еще отыщется.
– Да уж действительно! Остается только надеяться, – уныло отозвался Уолтер. – Вы сказали, что бродяга, который нашел у вас укрытие, ничего из пропавшего не имел при себе и, покуда он у вас живет и никуда не выходит, он не сможет достать припрятанное и куда-нибудь сплавить. Ведь где-то же оно должно лежать, и я надеюсь, что люди шерифа разыщут пропавшие вещи.
– Так вы, значит, совершенно уверены в том, что именно он это сделал? – Хью успел выслушать его рассказ до того момента, когда Уолтер взял драгоценности и понес их в мастерскую, чтобы спрятать в сундук, но, дойдя до этого места, мастер Аурифабер отчего-то утратил свою словоохотливость. – Ведь, как я слышал, вы прогнали его гораздо раньше, и никто не говорил, что его заметили потом слоняющимся возле дома.
Уолтер бросил беглый взгляд на мать, которая слушала, напрягая свой старческий слух, и увидел, что в тусклых от старости глазах мелькнул живой блеск.
– Да, но ведь он мог где-то затаиться. Дело было ночью, кто бы его заметил в темноте?
– Мог, конечно, – сухо согласился Хью. – Однако никто не сообщал, что видел его. Разве что вы вспомнили что-то такое, чего никто не знает? А вы сами не видали его после того, как он был выгнан?
Уолтер смущенно заерзал и, казалось, готов был уже выпалить обвинение против жонглера, но вовремя спохватился: ему мешало присутствие Джулианы. Брат Кадфаэль сжалился над ним.
– Не лучше ли нам сейчас, – предложил он простодушно, – пойти и взглянуть на место, где было совершено нападение. Я думаю, мастер Уолтер не откажется показать нам свою мастерскую.
Уолтер обрадовался этому предложению и охотно повел их в мастерскую. Дверь на улицу была заперта по случаю воскресенья. Впустив посетителей, он тщательно закрыл за собой дверь и с облегчением перевел дух.
– Не подумайте, что я от вас что-то скрываю, милорд, но мне не хотелось лишний раз волновать матушку, ей и без того досталось. – Так вывернулся Уолтер, чтобы не показать перед людьми, что он до сих пор ходит на цыпочках перед своей родительницей. – С порога, как вы можете убедиться, хорошо виден сундук в углу напротив. Я был возле сундука, ключ торчал в замке, крышка была откинута, а рядом на полке горела свеча. Она освещала и содержимое сундука. Вот так, видите? И все было на виду. Вдруг я услышал за спиной какой-то шум, глядь, а там в дверях притаился жонглер, тот самый Лиливин.
– У него был угрожающий вид? – спросил Хью и кинул выразительный взгляд в сторону Кадфаэля, но тому много сказала красноречиво поднятая бровь. – В руке он держал дубинку?
– Нет, – сознался Уолтер, – вид у него был довольно смирный. Но ведь я его уже заметил и обернулся. Он стоял на самом пороге, так что мог бросить оружие за дверью, когда понял, что я его обнаружил.
– Однако вы не слышали, как оно упало? И ничего такого не видели?
– Честно говоря, нет.
– Так что же он вам тогда сказал?
– Он стал меня упрашивать, чтобы я заплатил ему как положено, потому что ему не додали две трети условленной платы. Он говорил, что нельзя так жестоко поступать с бедным человеком – сваливать на него чужую вину, а потом урезать плату – и умолял меня возместить ему разницу и расплатиться, как договаривались.
– И вы ему заплатили? – спросил Хью.
– Честно говоря, милорд, я бы не сказал, что с ним так уж несправедливо обошлись, кувшин-то был дорогой, но я пожалел его и подумал, что с него возьмешь! Виноват он или не виноват, а жить-то ему на что-то надо! Ну вот я и дал ему второй пенни, хорошую серебряную монету, отчеканенную в нашем городе. Только, прошу вас, ни слова об этом моей матушке! Теперь-то уж, раз я все вспомнил, она, хочешь не хочешь, узнает, что он потихоньку приходил в мастерскую и просил у меня денег, но про то, что я ему дал пенни, ей вовсе не обязательно знать. Иначе ей будет обидно, ведь она ему отказала.
– Вы очень достойно поступаете, заботясь о спокойствии вашей матушки, – с невозмутимой серьезностью сказал Хью. – А что же было дальше? Вы хотите сказать, что он взял ваши сокровища и улизнул с ними?
– Вот именно! И я уверен, что он вам ни слова не сказал про то, как приходил в мастерскую клянчить у меня денег. Хорошо же он отблагодарил меня за мою доброту! – Уолтер был чрезвычайно зол на обидчика.
– А тут вы как раз ошибаетесь! Он все рассказал, и его рассказ совершенно сходится с вашим. Две монетки по одному пенни, которые он принес с собой, он отдал на хранение в аббатстве на то время, что будет там находиться. Скажите мне, закрыли ли вы крышку сундука, как только поняли, что за вами кто-то следит?
– А как же! – с горячностью воскликнул Уолтер. – Сразу закрыл! Но он уже все видел. Тогда я не придал этому значения, но понимаете, милорд, я вам сейчас скажу, что было дальше. Как только он ушел – я-то, во всяком случае, думал, что он ушел, – я снова открыл сундук и наклонился над ним, чтобы прибрать приданое Марджери. Тут-то меня и стукнул кто-то сзади по голове, а дальше я уже ничего не помню, очнулся я спустя несколько часов в своей постели. Между тем, как убрался этот молодчик и меня оглоушили, прошло каких-нибудь две минуты, не больше. Так кто же это мог быть, как не он?
– Но вы все-таки не видели, кто вас ударил? – настойчиво продолжал добиваться Хью. – Даже мельком? Не заметили хотя бы тень, по которой можно угадать рост и сложение человека? У вас не было такого чувства, что кто-то стоит у вас за спиной?
– Нет. Когда же мне было успеть?! – Хотя у Уолтера и был мстительный нрав, однако он был, несомненно, очень честен. – Ведь понимаете, я же стоял склонившись над сундуком, и тут на меня точно стена рухнула, я и бухнулся головой в сундук и точно куда-то провалился. Я ничего не слышал и ничего не видел, даже тени, впрочем, нет – последнее, что я увидел, это как замигала свеча. Но что тут такого особенного? Нет уж, будьте спокойны! Этот бродяга успел рассмотреть, что у меня лежит в сундуке, перед тем как я захлопнул крышку. С какой стати ему было смиренно уходить, получив один пенни, когда можно было огрести столько денег? Уж будьте уверены, он не из таковских! И никого другого я в ту ночь здесь не видел, и ничьей ноги здесь не было. Можете не сомневаться, что это сделал жонглер!
– И, однако, можно допустить, что все могло быть именно так, – сказал Хью минут через двадцать, прежде чем они с Кадфаэлем расстались на мосту. – Искушение было достаточно велико для бедняка, у которого всех денег-то – два несчастных пенни. И неважно, обдумал он это заранее или такие мысли появились у него под влиянием соблазна. С другой стороны, я допускаю, что у парнишки даже не мелькнула мысль о богатстве, которое само плыло ему в руки, и что он думал только о своих пустых карманах и просто надеялся встретить у золотых дел мастера более ласковый прием, чем у его скряги-маменьки. Возможно, что он смиренно ушел, благодаря Бога за полученный пенни, не помышляя ни о каком злодействе. А может статься, подобрал на дороге камень или палку и вернулся в мастерскую.
Приблизительно в то же время на улице перед церковью Святой Девы Марии, где в погожие дни горожане обыкновенно задерживались, прежде чем разойтись после воскресной службы, чтобы обменяться друг с другом любезностями и поглазеть на чужие наряды, Даниэль и Марджери Аурифабер, совершавшие свой первый торжественный выход в свет, принимали от каждого встречного поздравления и соболезнования – свадьбы и ограбления принадлежали к числу самых излюбленных и обсуждаемых тем в городе Шрусбери – и в конце концов очутились лицом к лицу с мастером Эйлвином Кордом, торговцем шерстью, и его женой Сесили. По взаимному желанию обе пары остановились, чтобы приятно побеседовать, как то приличествует добрым соседям.
Миссис Сесили была похожа скорее на дочку или даже внучку торговца, чем на его жену: ей было всего двадцать три года при том, что ему стукнуло шестьдесят. Эта хрупкая, изящная женщина блистала такой яркой красотой, была так пленительна и лицом, и фигуркой, что всюду, где она появлялась, на нее смотрели снизу вверх, а она царила над всеми, точно некая богиня. Престарелый супруг обожал наряжать свое сокровище в богатые платья из дорогих тканей, не понимая, что лучше было бы упрятать ее в простенькую холщовую одежонку немудрящего просторного покроя. Волосы ее были убраны в золотую сеточку, а громоздкая цепь, украшенная эмалью и драгоценными каменьями, сверкала, притягивая взоры к пышной груди красавицы.
Рядом с таким богатством Марджери сразу поблекла и сама это почувствовала. Лицо ее с застывшей искусственной улыбкой стало похоже на маску, а голос сделался пронзительным. Она крепко сжала руку Даниэля, но впечатление было такое, словно она пытается удержать скользкую рыбу, которая, как крепко ее ни держи, сама собой выскальзывает из пальцев.
Мастер Корд участливо справился о здоровье Уолтера, порадовался за него, услышав, что дело идет на поправку, и с опечаленным видом принял известие о том, что подлое воровство не раскрыто и ничего из украденного до сих пор так и не найдено. Купец просил передать пострадавшему свои соболезнования и сказал, что он благодарит Бога за то, что мастер Уолтер вышел из переделки живым и здоровым. Жена, скромно потупив глазки, вторила мужу нежным, воркующим голоском кроткой горлицы.
Почти не замечая обрюзгшего самодовольного лица своего собеседника и то и дело поглядывая на свежее, кровь с молоком, личико миссис Сесили, Даниэль от всей души попросил мастера Корда доставить ему такое удовольствие и, как только будет возможно, прийти вместе с женой в гости, чтобы откушать в доме Аурифаберов. Купец поблагодарил за приглашение, но ответил, что рад бы его принять, да только вынужден отложить приятную встречу на недельку или две, и, попросив передать от себя поклон всем домашним, сказал, что будет молиться за их благополучие.
– Вы и не знаете, как вам повезло, что ремесло вашего супруга не требует разъездов, – пожаловалась миссис Сесили, доверительно прикасаясь пальчиками к руке Марджери. – А вот мой муженек, не успеешь оглянуться, как опять уже велит запрягать мулов, садится в повозку и поминай как звали – отправился со своими людьми то в Уэльс, то, наоборот, на восток, все-то ему надо куда-нибудь то за шерстью, то ткани продавать, а я сиди дома одна-одинешенька. Вот и завтра он чуть свет опять отправляется в путь, а меня бросает одну на три или четыре дня.
Дважды во время своего жалобного рассказа она вскидывала свои длинные ресницы – сначала на мужа, а потом с непостижимой быстротой стрельнула глазами на Даниэля; ее взгляд мгновенно сверкнул ослепительной вспышкой и тотчас же потух и стал безмятежным, как прежде, но Марджери его перехватила.
– Будет тебе печалиться, моя радость, – снисходительно успокоил жену торговец шерстью. – Не успеешь оглянуться, я уже примчусь обратно.
– Да, хорошо вам говорить, а мне так долго ждать! – ответила та, надув губки. – Три или четыре ночи я буду одна. Так что уж смотрите, муженек, не забудьте привезти мне гостинец: когда вернетесь, меня нужно будет задобрить.
Он и сам отлично знал, что привезет. Старый купец никогда не возвращался из поездок без подарка. Эйлвин Корд приобрел жену не задаром, но несмотря на слепое обожание, он был достаточно рассудителен и понимал, что за эту покупку ему придется платить снова и снова, чтобы ее сохранить. С того дня, когда он, сам себе в этом признавшись, сделает соответствующие выводы, ей предстоит жить в непрестанном страхе за свою нежную шейку, ибо он был человек властный и самолюбивый.
– Вы совершенно правы, – сказала Марджери, с трудом разомкнув непослушные губы, сведенные судорогой. – Я вполне понимаю, как мне повезло.
Она даже слишком хорошо это понимала! Но всякая удача в жизни мужчины или женщины может смениться неудачей, особенно если кто-нибудь об этом позаботится. Для этого нужны только хитрость и немного настойчивости.
Для Лиливина весь день прошел в таких непривычно приятных занятиях, что порой он по часу и дольше не вспоминал о нависшей над ним угрозе. Как только закончилась месса, регент, не дав ему опомниться, увел его с собой в дальний уголок монастырского двора, где он уже начал работать над сломанной скрипкой. Точными и решительными движениями хирурга он разбирал ее на составные части, раскладывал на столе отдельные детали. Работа требовала от ученика пристального внимания, ему нельзя было отвлекаться ни на секунду, если он хотел принять участие в воскрешении инструмента. Это было превосходное средство против мыслей о смерти.
– Мы снова соберем и склеим все обломки, – говорил брат Ансельм, увлеченно продолжая работать. – Это я могу тебе обещать. Не беда, если в конце концов окажется, что у нас что-то не совсем получилось, во всяком случае у скрипки опять будет голос. Если она не будет петь чисто, мы сделаем новую. У людей тоже на смену ушедшим поколениям приходят новые и подхватывают прерванную песню. Утрата никогда не бывает непоправимой. Подай-ка мне вон тот листок пергамента, сынок, и отмечай, в каком порядке я кладу отдельные куски.
Часть из них представляли собой совсем мелкие щепки, но брат Ансельм аккуратно составлял их вместе, и они принимали нужную форму.
– Ты веришь, что еще будешь играть на этом инструменте?
– Да! – отвечал восхищенный Лиливин. – Верю!
– Вот и хорошо. Вера нужна обязательно. Без веры ни одно дело не спорится – Это священное слово брат Ансельм произнес таким же обыкновенным голосом, как если бы речь шла о любом из разложенных на столе орудий труда. Отдельно он положил искусно вырезанную кобылку.
– Добротная работа, и притом старинная! У этой скрипки сменилось много хозяев, прежде чем она попала к тебе. Молчание для нее хуже всякого наказания.
Казалось, то же самое можно было отнести и к брату Ансельму. Бодрый, приветливый голос его журчал, как ручей, в то время как он работал, и, как ручей, убаюкивал слушателя. А разобрав на части скрипку и разложив в строгом порядке все детали, он завернул их вместе с листком пергамента в чистый полотняный платок и спрятал все это в углу, отложив работу до утра, когда будет светло, а сам тотчас же усадил Лиливина за маленький переносный органчик, предложив на нем поиграть. Ему не пришлось объяснять Лиливину, как обращаться с этим инструментом, потому что тот уже видел, как на нем играют, хотя сам он еще ни разу не пробовал.
Сначала он довольно бегло пробежался пальцами по клавишам, а затем так увлекся мелодией, которую играл, что совсем позабыл качать левой рукой миниатюрные мехи: они выпустили остатки воздуха, и органчик со вздохом умолк. Тут Лиливин опомнился и, рассмеявшись от неожиданности, принялся качать с удвоенной энергией, так что правая рука не поспевала нажимать на клавиши. С третьей попытки у него получилось. Он наслаждался. Сам очарованный своей игрой и чувствуя все больше уверенности, юноша наигрывал одну за другой разные мелодии; руки его стали работать слаженно, и, уже не довольствуясь простыми мелодиями, он начал вставлять в них замысловатые пассажи. Но, играя одной рукой, особенно не разгуляешься.
Брат Ансельм развернул перед ним пергамент, на котором начертаны были странные значки, сливавшиеся в причудливую вязь, под ними были вписаны другие, которые, как уже знал Лиливин, обозначали слова. Лиливин не мог их прочесть, потому что вообще не умел читать ни на одном языке. Его глазам все это представлялось замысловатым узором, вроде тех, какими женщины украшают свои вышивки.
– Ты не научен этой премудрости? А я думаю, ты схватил бы ее и на лету. Так записывают музыку, чтобы можно было не только слышать ее, но и читать глазами. Видишь этот ряд закорючек? Подай-ка мне органчик!
Он взял инструмент и проиграл на нем мелодию.
– Вот то, что ты сейчас слышал, как раз записано здесь. Послушай еще раз! – И он снова повторил на органе ликующую мелодию. – Ну, а теперь спой мне это!
Лиливин тряхнул головой и пропел ту же музыкальную фразу.
– А теперь слушай, что я играю, и повторяй за мной.
Пьянящая радость охватила Лиливина. Какой восторг было слушать орган и повторять голосом музыкальные фразы! Спустя несколько минут Лиливин уже начал украшать и варьировать мелодию, петь в более высоком регистре, так что голоса певца и органа составляли гармоничное двухголосие.
– Из тебя я мог бы сделать певца, – с величайшим удовольствием сказал брат Ансельм, закончив играть, и отодвинулся от органа.
– Я и так певец! – отозвался Лиливин. Он еще никогда не испытывал такой гордости за свое умение, которое давало ему право так ответить брату Ансельму.
– Я думаю, что ты прав. Твоя музыка и моя различны, но и ту и другую можно записать одними и теми же значками, которые ты здесь видишь, обе состоят из одних и тех же звуков, которые ими обозначаются. Если ты побудешь у нас подольше, я научу тебя читать эти значки, – пообещал Ансельм, очень довольный своим учеником. – А теперь садись за орган, подбери на нем какую-нибудь из своих песен, а затем спой мне ее.
Мысленно перебрав свои песни, Лиливин был несколько смущен, обнаружив, что многие из них слишком уж откровенны и прозвучали бы здесь неприлично. Но все же не все они таковы! Была у него одна самая любимая песня, в которой пелось о верной любви, и, вспомнив ее сейчас, он вспомнил и Раннильт – такую же нищую и никому не нужную, как он сам. Он увидел ее мысленным взором, одетую в грубое платье, посреди закоптелой кухни, увидел нежный овал ее бледного личика, окруженного облаком густых черных волос, и лучистые, сияющие глаза. Лиливин начал подбирать на органчике мелодию, неторопливо нащупывая нужные клавиши, левая рука теперь уже привычно и уверенно качала мехи. Он так увлекся песней, что даже не заметил, как брат Ансельм в это время, взяв пергамент, торопливо записывал на нем непонятные значки.