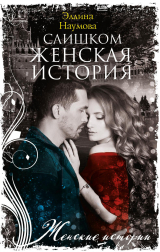
Текст книги "Слишком женская история"
Автор книги: Эллина Наумова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
– Вы не люди, потому что не добываете хлеб насущный, – мрачно сообщила она двум бунтарям. – Живете на содержании и терзаете человека, который вас содержит. Да еще рассуждаете о каком-то ином смысле. Не стыдно попрошайничать у судьбы? Не совестно навязываться высшим силам с ерундой? Вот делать им нечего, кроме как взрослым людям, не инвалидам, не безумцам души настраивать. Сами, милые, все сами, за тем и родились.
Выговаривая, она сгребла в кучу первую зарплату каждого. Пересчитали. Ахнули хором. Бабуля вдруг встала, кряхтя с непривычки, оделась и, как лунатик, поплыла в универсам за батоном и топленым молоком. После этого невероятного события все принялись азартно трудиться. Но денег в казавшиеся уже мозолистыми и умелыми руки не получили. Разве что старухе на вкусное добавилось. Жестоко экономя, Алена собирала на доплату за квадратные метры. Две их комнаты в коммуналке вмещали одну металлическую кровать, продавленную тахту, кушетку, стол, пять венских стульев, маленький черно-белый телевизор и громоздкий древний радиоприемник с отодранной задней панелью.
Через четыре года в результате запутанного обмена со множеством участников появилась небольшая, но в кирпичном доме и с балконом трехкомнатная квартира. Ее мило, неприхотливо и дешево обставили. В изувеченных безысходной нищетой старухе и Юре новое жилище как-то не вязалось с дворницкой лопатой, пластмассовыми голышами, курсами машинописи и черпаком для каши в рабочей столовой. Даже замордованная Алевтина считала его чудом и стучала по дереву, упоминая и при посторонних, и при своих. Было видно, что все заметно устали. Алена объявила время мотовства при условии, что семейство продолжит работать, уже не надрываясь.
Они согласились без особой радости. Но вскоре повеселели. Алевтина съездила в Болгарию по турпутевке. Вернулась коричневой и загадочно улыбчивой. Бабуля после хорошего ужина под любимый «Турецкий марш» заснула так крепко и сладко, что ее не добудились утром.
– Никогда бы не поверила, что мама умрет довольной, – вздохнула Алевтина. – Давайте ее норму пупсиков вместе по вечерам раскрашивать, что ли.
– А, давайте я один, – проявил благородство Юра.
Он бросил пить с незнакомцами, зачастил на Горбушку, хвастался своими книгами и пластинками, стал ненасытным любовником и легким собеседником. Игра в дворника-интеллектуала ему нравилась. В память о бабушке он честно занимался куклятами, но был уволен за то, что вместо точек рисовал на лицах выражение.
– Признайся, ты ведь надеялась, что из меня выйдет актер или поэт, – сказал он жене.
– Тебе надо учиться, а там посмотрим, – ответила она.
– Но ты меня любишь и дворником?
– Ты не стал бы дворником, если бы не любила.
Алена окончила институт с красным дипломом и поступила в аспирантуру. Победа над нищетой свела ее со множеством новых людей. Они жаждали советов и консультаций. Юра, впрочем, клялся, что ученики предпочли бы толику наличных. Но его циничные насмешки лишь подстегивали Аленино красноречие. Она была так увлечена и занята, что проглядела Алевтину.
Отъевшись, наплескавшись в ванне и приодевшись, та быстро возобновила все свои знакомства. У нее оказалось множество подруг разных комплекций, возрастов и уровней интеллекта. Впрочем, подругами их называла она. Они же определяли ее словом Алевтина, которое произносили с нарочитой ленцой, будто оно не являлось именем. Алевтина доставала для Маши какую-то серую шерсть с лавсаном у Иры, Иру водила на обследование в клинику к Ане, Аню устраивала стричься к Любе и так без конца. Теперь Алена понимала, почему неделями жила у Алевтины, когда Ольга с театром отбывала на гастроли. И почему Алевтина, а не мама целый год таскала ее к ортопеду-стоматологу исправлять прикус.
– Она позволяет на себе ездить! – возмущалась Алена.
– Альтруистка по натуре, – объяснял Юра. – И одинока, время есть.
– Они в большинстве своем неблагодарные твари. Они ее не любят.
– Почему? Поможет, обрадует, тогда любят. И не забывай, она тоже шьет, лечится и достает билеты, хоть в театр, хоть на поезд и самолет, у них.
– Она им платит! – кричала Алена. – А сама за перепечатанные по три раза диссертации их сыночков ни копейки никогда не видела.
– Ты же знаешь, и она, и я не в ладах с арифметикой. Бабуля вообще гордилась своим невежеством в точных науках.
– Это не аргумент, – вздыхала Алена.
Юра умел отвлечь ее от переживаний не только ласками. Зубы заговаривал не менее ловко и страстно. Он развлекался Алевтиниными приятельницами и развлекал ими жену.
– Ты их как безделушки перебираешь, – то ли укоряла, то ли хвалила она.
– Как картошку весной, – смеялся он.
У Алевтины на попечении были еще четвероюродные старые тетки и несколько одноклассниц матери. Надоевший когда-то Юре поэт встречал ее после работы. Жевал испеченные для него пирожки, опорожнял термос с кофе и читал в сквере Блока. Сбежавшая от Юры женщина звонила и пользовалась Алевтиниными знакомствами без удержу.
Свою кандидатскую Алена принципиально выколачивала из машинки сама. Защитилась. Преподавать на кафедре не осталась. Надо было устраиваться на работу. Нацелилась на одно перспективное место. Но без протекции занять его не удалось. Алевтина могла посодействовать. Аня, та самая любительница больничной еды, стала доцентом и обросла восхитительными связями. У ее студентов была завидная успеваемость. Окончивший курс староста всегда предупреждал начинающую группу о цене «экзамена у Аннушки». А излеченные сановные больные, кроме подарков, оставляли «доктору волшебнице» номера телефонов. Та не стеснялась звонить.
Алена помнила, что бедовая врачиха числила ее свекровь в уродках и неудачницах. Стеснялась ходить с ней в кино. Утверждала, что невезение – заразная болезнь. И отваживалась встречаться с Алевтиной лишь после прививки собственными неприятностями. Тут она переставала ругать ее за готовность расшибиться в лепешку ради любого встречного и требовала участия. Но чаще помощи – сбегать куда-то, договориться с кем-то, отстоять очередь, а то и пол в квартире вымыть.
Алена представила, как Алевтина расхваливает сноху и просит за нее эту дрянь. Именно дрянь: уверения свекрови, будто «Анюточка ранимая, хорошая и вынуждена приспосабливаться к общей жизни», только злили. Чем Алевтина могла расплатиться с Аней? Посулить услуги новой маникюрши? Обои собственноручно переклеить? Так она делала это для всех, не обременяя их судьбоносными просьбами.
– Не смей никого умолять меня пристраивать. Я сама, – заявила Алена.
Она понимала, что рискует. Перенеси ее Аня через этот невысокий, но коварный барьер, и Алена могла бы резво демонстрировать способности. Упоенно много работать. Творить себя и других. Как легко ей давалось все, что она умела. Как обаятельна она была в этой легкости и в этом умении.
Алена отказалась от Аниного благодеяния не только из презрения к хапугам. Она верила, что сама сможет все. Училась так, что ее не получилось завалить на вступительных экзаменах в университет, а потом не взять в аспирантуру. Да, блат повелевал людьми, они, как Аня, истово ему служили. И Алене уже довелось морщиться от горечи, когда ее сначала обнадежили, а потом забыли сообщить, что предпочли неожиданно возникшего сына какой-то шишки. Но это было что-то вроде закаливания или прививки. Она потеряет год-другой, зато разберется, как верховодить в коллективе, где все мнят себя умниками. Сделает задание на черновик, но только первое и единственное. Именно тогда она осознала, что живет лидерством. Карьера прилагалась к нему, как нечто само собой разумеющееся. Она докажет, что пробиться, куда хочется, можно и нужно самой. Пусть прекратят валяться в толстых старых ногах всяких Ань. Пусть честно борются. И красиво побеждают. Алене тогда было двадцать четыре года. Восемнадцать из них она набивалась знаниями. И полагала, что обрекает лидера в себе на испытание. О его гибели она и думать не думала.
Через месяц после Алениного решения взрывать несправедливость талантом и обаянием Алевтина собралась умирать. Ни с того ни с сего. Она родила Юру в тридцать три года, значит, ей было всего шестьдесят два. Внешне она изменилась мало: старости нечего было портить в ней. Работала, эксплуатируя суставы, удивительным образом восстановившие гибкость, когда их избавили от хронической перегрузки, и отличное зрение. Секретарь экстра-класса. Кажется, уже третий малограмотный начальник поражал высокие инстанции безупречным стилем деловых бумаг. А опытные кадровички повадились спрашивать у девочек с курсов машинописи, кто их учил. Питомиц Алевтины брали без лишних вопросов. Свалила ее пневмония. Едва не сгорев в жару, выкупавшись в поту, охрипнув от бреда и лишившись живого места на исколотой коже ягодиц, она призвала Алену.
– Я умру. Не возражай. Это как-то странно и непривычно. Зудит, но не болит, правда. Только что будет с моими подругами? И я тебе не говорила, с одним пожилым, не очень здоровым, но славным мужчиной?
Ее голос был таким, что казалось, будто перо медленно скребет шершавую бумагу и ты просто читаешь с трудом написанное. Алена ощутила холод и жесткость чужого смертного одра и выбрала правду:
– Ничего с ними не случится. Приспособятся, не беспокойся, не трать силы.
– А я хотела завещать их тебе. Уговорить поддерживать, ведь они почти старухи.
Алена растерялась, что случалось не часто. Промямлила:
– Ты пока выздоравливай, а я все обдумаю. Так неожиданно… Такая ответственность… Это же переворот в моей жизни…
Свекровь тускло и долго вглядывалась в нее, будто пыталась узнать. И на следующий день начала поправляться.
Испуганная же Алена надумала вот что. Алевтина, приметив ее увлечение людьми, неверно его истолковала. Да, водилось за ней с детства – смотрела не на товар, а на продавца. Зелень и цветы покупала у бабулек, казавшихся особенно жалкими и нищими. Всегда норовила помочь донести тяжесть. Легко срывалась в магазин или аптеку по просьбе больных. Терпеливо выслушивала жалобы и умела подбодрить, распахнув дверь там, где несчастные месяцами ощупывали глухую стену. Да еще и смеялась: «Все преодолимо, если не отчаиваться».
Но для постоянного общения любые люди ей нужны не были. Проблемы большинства оказывались скучными и не решались только из-за тупости и лени. Проблемы меньшинства были неразрешимы, но тогда, по Алене, считать их проблемами могли только дураки. Кто же еще будет клясть данность вместо того, чтобы жить в ней? При неизбывной готовности помочь она не жаловала тех, кто требовал помощи, не разбив лба в битве с судьбой.
Алевтина хотела пристроить избалованный ее деятельной заботой народ, чтобы умереть спокойно. Она тоже изучила сноху. Восприняв просьбу как волю умирающей, Алена ни за что не бросила бы траченных годами и недугами, добрых и злых, умных и глупых женщин. И даже одного мужчину. Но служить им, как Алевтина, она не могла. Та вкладывала в своих подопечных душу. Алена же полагала, что люди обойдутся без чужой души. У каждого своя есть. Времени, сил и денег им не хватает. Она не прочь была безвозмездно отдавать свои. При условии, что обделенные жаждут независимости и быстро добьются самостоятельности. Алена научила бы их, как это сделать, повозилась бы с каждым в отдельности. Но вряд ли такая преемница безотказной Алевтины им была нужна. И не Алена от них, они от нее отказались бы наверняка. Доводить дело жизни свекрови до такого конца было нельзя.
Она попыталась объяснить это выписавшейся из больницы Алевтине, которая легкомысленно прерывала разговор. А тут еще с работой не ладилось – устроилась в тухлую контору, обманувшись свежей репутацией директора. Люди из ее отдела умели дружно квасить в предпраздничные вечера. В рабочее же время халтурили и сочиняли липовые отчеты, кто во что горазд. Причем, чем больше этим занимались, тем наглее интриговали друг против друга и тем громче кричали на профсоюзных собраниях об адских условиях своего труда. Алена пока наблюдала, прислушивалась и молчала, скорее от изумления, чем из робости. Происходящее все сильнее бесило. Она была готова не искать единомышленников – кому-то перемены всегда кстати, – а безрассудно восстать в одиночку. Потом Юра изменил ей с какой-то юной идиоткой. Девица являлась скандалить, твердила, что беременна, грозилась то любовника убить, то с собой покончить.
– Я решу и дам вам знать, – устало сказала Алена. – Впрочем, уже решила. Вы свободны.
Она собрала вещи и ушла к Варваре. Павел тогда был на трехмесячных сборах.
Муж и свекровь приняли ее уход. Разменяли квартиру на две однокомнатные. Оформили развод. Алевтина плакала и извинялась за сына. Убивалась, мол, пропадет, точно пропадет. Алену так и тянуло ей открыться. Юрка стал предлогом, ничего страшного, с ее точки зрения, он не натворил. Обидно, но переносимо. В сущности, Алена развелась с Алевтиной. «Если я сама не пришла к возне с ее бабами, нечего меня подталкивать. Это нечестно – взваливать на человека обязательства, собравшись улечься в гроб», – травила себя Алена, чтобы не вернуться.
О том, что Алевтина умерла, она узнала от Юры, нечаянно столкнувшись с ним в переходе. Ее как раз особенно нагло обходили. Выяснилось, что прирожденным лидером себя считал каждый. Алена хотела собрать команду, они – банду. Она жаждала честности, когда главенствует лучший, они грезили властью. Она предпочитала диалог, они – донос. Но, главное, бунтарка поняла, что массовка перекатывается то на одну, то на другую сторону из шкурного интереса. В пользу дела никто не верит. Ей впервые в жизни было страшно.
Юра давно расстался с любовницей и по-прежнему существовал вольным книгочеем и меломаном. Он откровенно изумился ее неухоженности, вялости, даже на чай не пригласил. «Никогда не пытался целенаправленно двигаться, но тоже обошел», – думала Алена. И уже бесполезно было говорить ему правду: она мечтала стать его женой лет с четырнадцати. Их первая ночь не была случайностью. Просто после визитов и жалоб Алевтины Ольга подолгу обсуждала ее непутевого чокнутого сыночка. Да цветисто так расписывала изъяны в назидание подраставшей дочери. Ведала бы мать, что творила! Алена кивала ей и представляла, как однажды встретится с Юркой. Он в нее безумно влюбится, уж она-то сможет постараться и добиться своего. Тогда Алена создаст из доброго шалопая оригинального, выносливого, трудолюбивого человека. Себе под стать.
Глава 5. Девочки
Выходной, как положенное в блюдце и опасное для детского горла эскимо, таял слишком медленно. Алена давно сняла бигуди и убрала квартиру. Читать не хотелось, стирать не моглось. Чтобы не затосковать, она решила пойти гулять.
Алена открыла для себя бесцельные прогулки задолго до старческой никчемности. Раньше удивлялась, как взрослый занятой человек может все бросить, одеться, выйти и побрести сначала невесть куда, потом обратно. Она приписывала убивающие время шатания эре коммуналок. Хотелось, конечно, людям одиночества и тишины. Отдыхали друг от друга и тот, кто ушел, и те, кто остались дома. Только ей не удавалось вообразить ситуацию, когда она сама заявила о желании пройтись, и никто не встрепенулся и не увязался, на ходу придумывая маршрут.
Но как-то Алена оказалась по делам в малознакомом районе. Нужный ей человек совещался с тем, кто был нужен ему. Сидеть в приемной и заставлять себя не вслушиваться в примитивный телефонный треп секретарши было невмоготу. Алена вышла на улицу и побрела к маячившему впереди газетному киоску. В рабочее утро тротуар уже почти избавился от прохожих. И безумное ощущение личного владения неровным асфальтовым пространством снизошло на девушку. Оно будто опадало с верхушек юных тополей и старых лип, просачивалось сквозь кожу и медленно наполняло и душу, и тело. Первые метров сто Алена шла привычно быстро, словно намеченный ориентир, не дождавшись ее, мог убежать. Она еще не умела идти без цели и не исключала, что купит газету. И вдруг, забыв о новостях, легко миновала то, что, в сущности, было препятствием.
Впервые улица вела ее в неизвестность, но тактично, даруя свободу выбора, – остановиться, свернуть в переулок, развернуться и зашагать назад. Улица заботилась о ней, щедро предлагая дворы с чахлыми кустами, нищие витрины, безликие столовки и кафешки, даже разнообразную музыку из открытых форточек. Это можно было принять за издевательство, но ничего другого вокруг не было. Улица загадывала простенькие загадки и не настаивала на их отгадках: в телефонной будке стояла бутылка с еще подвижными дорожками кефира на стенках, на низком подоконнике алел неведомый цветок. Душа расправилась, будто с нее стянули нечто тугое и тесное. Алена задумалась, что именно можно напялить на душу, но тут же перестала. Мысли сделались необязательными, как заболевание гриппом в эпидемию. Она чувствовала себя здоровой и беззаботной.
Через час она вернулась в приемную, блаженно улыбаясь. И стереть неподходящую мимику не удалось ни заносчивой секретарше, ни ее обиженному на планерке директору.
На сей раз Алена пути не разбирала. Ноги пользовались тем, что голова была занята мыслями, и шагали себе, шагали. Идеальная, в сущности, прогулка. «Я взяла себя в руки после развода и начинаю преуспевать на службе, – думала Алена. – Нет, руки тут ни при чем. Времена меняются. Инициатива почти не наказуема. Нет нужды выдумывать, будто тебя непорочно оплодотворил идеей развитой социализм, потому что ему не терпится стать коммунизмом. Если так пойдет дальше, я еще успею реализоваться, как одержимая бесом трудолюбия профессионалка. Да, за последние год-два я усвоила, что человеку нравится та работа, которая у него получается. Вернее, призналась себе в этом. Кстати, еще кое-что о человеке… Больше нечего… Ужас какой, я повадилась терять мысли».
И как она раньше смела быть уверена, что легко и умно закончит не только каждую свою, но любую чужую фразу? А потом еще красиво ее растолкует часа за три непрерывной говорильни? Теперь приходилось считать, что все это было от неуважения к людям, от неумения различать в толпе лица тех, кто сам умеет и думать, и говорить, и растолковывать. Впрочем, она была лидером и редко оглядывалась, а на спине глаз нет. Память немедленно подсуетилась: Загорск, толпа перед храмом валится на колени. И становится видно, кто на площади турист. Худой бородатый юноша, голова которого во время молебна возвышалась над Алениной и вдруг оказалась на уровне ее левого бедра. Он как-то непостижимо изогнул руку, указал пальцем на оставшуюся стоять компанию своих ровесников во главе с Аленой и громко сказал: «Недолюди, недочеловеки, быдло». Она, не задумываясь, бросила в ответ: «Провокатор, карьерист от воздержания, злыдень». Сейчас промолчала бы. Зато те, кто тогда беззвучно задохнулся от возмущения или смутился, обличили бы обличителя за милую душу.
«Опять начинается», – тоскливо догадалась Алена. Последствия утреннего налета Варвары уже не могли быть иными. Предстояло ощутить себя самозванкой в мире, испытать ужас перед так и не познанными людьми. Наверное, нечто подобное случалось с древним человеком во время грозы. И впервые в жизни в ней зашевелился стыд перед теми, кого она наставляла когда-то. Алена даже покраснела на ходу, вспомнив, как учила Юрку быть идеальным дворником. Ему вменялось в неодолимую потребность разбить во дворе сад и клумбы. Не вызывало сомнений то, что он захочет украсить балконы цветочными композициями. Да не простыми, а соответствующими личностям жильцов, которые надо было упорно изучать. Осмысление результата, по Алене, гарантировало мужу наслаждение профессией. Господи, и ведь Юрка серьезно обсуждал ее бред. Они спорили, надо ли наказывать мусорящих или ворующих цветы…
Ей хотелось перестать вспоминать то, что еще недавно было ее гордостью, а потом оказалось глупостью. Но чем яростней она запрещала себе думать, тем наглее своевольничали мысли. Это было почти невыносимо. Мыслительница и не заметила, как очутилась в своем старом дворе. «Что мне здесь понадобилось? – удивилась она. – Еще одно чаепитие с Валентиной я физически не переживу». Тут из подъезда вышла девочка, которую Алена видела ночью в окне. Она покачивала в руке папку с нотами и хмурилась. Ох уж это ненавистное пианино из детства! Эти мамины вздохи: «Доченька, когда-нибудь в приличной компании сядешь за инструмент и начнешь играть. Все столпятся вокруг и замрут. А ты почувствуешь себя королевой. Тогда и скажешь мне спасибо».
Доченьке ни разу не удалось проделать этот фокус даже назло орущему на вечеринках магнитофону, и благодарности Ольга не услышала. Зато при виде синей картонной папки Алену осенило. Квартира, двор, школа, даже музыкальная студия в ближайшем ДК у них с девочкой общие. Значит, они похожи. Значит, малышке живется несладко. Сама Алена в ее возрасте часто мечтала, чтобы какая-нибудь красивая и добрая тетя, антипод вечно растрепанной, сердитой, щедрой на пощечины Ольги, улыбнулась ей. Выслушала, пожалела, рассказала смешную историю. Сводила бы в зоопарк, а потом вдруг да и позвала бы жить в свой уютный, чистый, с ванной и туалетом дом. Алена обставляла воображаемое жилье лучшей мебелью из Ольгиного театра, заваливала стеллажи книгами, на которые в школьной библиотеке была нескончаемая очередь, развешивала в шкафу лучшие чужие платья. А еще унизывала кольцами пальцы феи. Ей казалось, что в таком виде они не сожмутся в кулак и не треснут ее между лопаток, чтобы не горбилась.
«Хватит! Расчувствовалась! – осадила себя Алена. – Вдруг у девочки нормальная, способная выразить свою любовь мать?» Но остановиться ей сегодня не удавалось. Как-то отлежала руку, та на минуту перестала слушаться, и эта беспомощность испугала по-настоящему. И вот, пожалуйста, непослушная голова оказалась гораздо страшнее. Она упрямо гнула свое: откуда можно перебраться в эту квартиру, где настоящими хозяевами вечно будут тараканы? Только из такой же на соседней улице, из комнатушки или из общежития. И почему ребенок идет «на музыку» один в воскресенье? Нет, ничем существенным мать девочки не отличается от Ольги. Вкалывает, бедствует, горько жалеет, что родила, и теперь не конкурентка подругам «без хвостов». Алена не знала, чего хочет больше. Смягчить участь девочки? Или вглядеться в похожее на свое детство – только ли задатками лидерства одаривает оно?
Из темного подъезда выбежал мальчишка с фонариком. «Какого цвета огонек?» – ехидно спросила Алену память. На ярком свету огонек показался ей белым. Лет десять назад на улице ее встретила однокурсница Таня и, не здороваясь, спросила:
– Какого цвета огонек? Отвечай быстрее, раз, два…
– Голубой, – мрачно сказала Алена.
Она уже открыла рот, чтобы выругать советскую эстраду, но Таня завопила:
– Умница! А то все заладили – желтый, желтый, желтый. Опросила по просьбе папы двадцать человек. Ты первая, кто мыслит нестандартно.
– Слушай, а замешательство окружающих действительно может развлекать? – полюбопытствовала Алена.
– Ого! Это еще более непредсказуемая реакция! – захохотала Таня. – Обязательно обрадую ею папу. Ну, пока.
Многократно упомянутый отец популяризировал что-то научное. Он любил нестандартных и непредсказуемых приятелей дочери. Товарищ вел себя как господин, и приятели его тоже любили. В его доме привечали тех, кто умел нарисовать на салфетке шарж, напеть слова лирической песни на мотив патриотической, выдать экспромтом пару не слишком заезженных рифм. Алену, отличившуюся с огоньком, позвали в гости в ближайшую субботу.
Она без натуги поострила. Чистенько выбила из пианино нечто не очень сложное, но классическое. Поделилась невоплотимым в съедобное блюдо индийским рецептом. Все бы кончилось мирно. Но хозяин заговорил про свой тест. Дескать, вот Алена умница, избранница.
– Чья? Ваша? – взъерепенилась она.
Папа решил, что гостья кокетничает.
– Ну, коли тест мой… – протянул он и сделал строгие глаза. Надо полагать, так определялись границы дозволенного юношеству.
– Ничего не имею против теста, – заявила Алена. – Но не советовала бы вам пускать людей в дом по его результатам. Ведь со стандартным желтым огоньком у человека может ассоциироваться настольная лампа и вдохновение над листом бумаги. С менее частым зеленым – такси и исчезновение с места преступления. А с черным – верх оригинальности – наркотический кошмар. Сегодня вы не ошиблись в избраннице. Но когда-нибудь проведете вечер, которого заслуживаете своим легкомыслием.
– Мне приятна твоя забота, – усмехнулся он. – Но не настолько уж я доверчив…
– Все непредсказуемые очень предсказуемы, да? Вы упомянули Хармса, мы начали демонстрировать чувство юмора. Сказали о Моцарте, двое, включая меня, ринулись к пианино. Ну а после намека на Рерихов понеслось: йога, индийская кухня… Я уже пыталась выяснить у Тани. Ваша семья таким образом развлекается?
Он поступил так же, как его дочь. Расхохотался. Бунтарка независимо пожала плечами, вернулась к людям и самозабвенно трепалась до конца вечеринки.
«С чего я тогда нахамила? Обиделась, что раньше не выделяли, не приглашали? Ну да, была умная-преумная, а в Танином обществе не котировалась. Злилась, наверное, – подумала Алена, впервые обнаруживая, что уже не все про себя помнит. – Интересно, как моя девочка ладит с людьми? И кто учит ее музыке? Уж не Паола ли Алексеевна?»
Сама она музыкой занималась недолго. Когда учительница, Паола Алексеевна, начинала отбивать такт карандашом по крышке рояля и сквозь зубы бормотать: «Резче, тише, громче, быстрее», Алена терялась. Пальцы ее деревенели и лупили по клавишам, игнорируя нужные. Приказы и ноты не совмещались ни в голове, ни в душе. «Никакого слуха», – мрачно констатировала измученная учительница. Когда в университете преподаватель английского сообщил Алене, что ее идеальное произношение обусловлено идеальным же слухом, та удивилась.
Чем труднее Алене было выполнять требования Паолы Алексеевны, тем ненавистнее становилась музыка. Чем чаще в пику ей хвалили никогда не сбивающуюся ровесницу, тем яростнее она ошибалась. А экзамен за третий год занятий приближался, как грузовик. С кромки тротуара кажется, что он маленький и далеко. Шагнешь на дорогу – громадный, близко и готов переехать. В девять лет испытывать такое очень страшно. Ольга же считала неизбежную аварию праздником. Стеклянно накрахмалила дочке фартук и так туго заплела волосы, что разболелась голова. Обещала купить цветы, забрать из продленки в четыре и торжественно бросить под машину. Но явилась в шесть.
– Паола Алексеевна заболела, отменили экзамен, – сказала она.
– Снова все повторять, ничего не разучивать! – ужаснулась Алена.
– Что делать, малышка. Прежде чем предъявить начальству и родителям, вас нужно натаскать хорошенько. Люди отдают пятнадцать рублей в месяц за удовольствие видеть своего гениального ребенка на сцене. И за наслаждение сравнивать его с чужими бездарями, – растолковала Ольга.
В дверях подъезда она заплакала:
– Прости меня, доченька, прости. Другие дети сейчас играют, млеют от аплодисментов, кланяются. Я тебя обманула. Ко мне пришли друзья из театра. Ты не знаешь… Тетя Света, балерина, дядя Коля, режиссер… Там много народу… Как-то нагрянули вдруг… Не могла я тебя повести…
– Ура! – завопила Алена и рванула вверх по лестнице, подбрасывая папку.
Часа через три она засыпала под столом в кухне, в своем «домике», обняв плюшевого медведя. В комнате чудный баритон выводил: «Поле, русское по-о-ле…» Девочка радовалась и завидовала не боящейся учителей и плюющей на экзаменационную показуху маме. И еще смутная мысль, что Паолу Алексеевну почему-то не взяли в оркестр Ольгиного театра, что она даже незнакома с людьми, рассевшимися на ковре за стенкой, некоторое время одиноко бродила в голове. Утром Алена проснулась от холода под тем же столом. Вылезла и заглянула в комнату. Гости спали кто на чем, но все были укрыты хоть скатертью, хоть пальто. Про Алену вчера забыли. «Ладно же, мамочка», – обиделась она и перестала ходить в студию.
Полгода Алена занималась дома по три часа в день, увлеченно разучивая довольно сложные пьесы. Изумленная мать боялась сглазить такое прилежание и хвалила дочь нечасто. Зато ее счастливое лицо договаривало все до конца. Однако сколько веревочке ни виться… Ольга встретила Паолу Алексеевну на остановке и узнала правду. А дома отлупила Алену первым, что попалось под руку. Карающим орудием стала лыжная палка.
– Ты сама не повела меня на экзамен! – вопила девочка.
– Мерзавка, я три года голодала, чтобы купить пианино, – шипела женщина.
– Ты забыла меня на полу в кухне!
– Лгунья! Лучше бы я тебя в роддоме забыла. Где деньги за занятия?
Алена запихивала их обратно в Ольгин кошелек и подделывала прошлогодние квитанции, о чем и сообщила с гордостью. Мать не поверила. Она не считала свои рубли после оплаты квартиры, студии и долгов.
В разгар допроса с битьем пришли Стас и Алевтина.
– Чем занимаетесь, девушки? – полюбопытствовал Стас, косясь на лыжную палку.
– Дурь из Алены выбиваю, – призналась Ольга.
И, давясь горькими слезами, рассказала о вероломстве дочери.
– Вся дурь от души, – простонал Стас и разоружил ее.
– Алена, ты обязана извиниться перед учительницей, – решила Алевтина, вкладывая в ладонь малолетней преступницы шоколадку.
– И попроситься обратно в студию, иначе ты мне не дочь, – пригрозила Ольга.
Стас обнял обеих за талию и увлек в кухню, подмигнув через плечо Алене. Ей стало так легко и весело, будто и не пороли.
На следующий день она поплелась в ДК. Чтобы не натереть пятки новыми туфлями, Ольга велела надеть подследники. Разумеется, выйдя из дома, Алена стянула их и положила в карман. Из вредности. Ей хотелось, чтобы Паола Алексеевна умерла или хотя бы заболела. Но нет, та стояла в дверях актового зала и болтала с двумя какими-то женщинами. Тяжело уставилась на Алену, отрывисто спросила:
– Ну что?
Девочка покраснела и забормотала извинения. Наверное, Паола Алексеевна выдыхала определенное количество презрения, которое разъедало слизистую оболочку Алениного носа и вызывало хлюпающие звуки. Учительница наслушалась их вволю, махнула рукой и объяснила женщинам:
– Это та самая фокусница.
Впервые в жизни у Алены заполыхали не щеки, а уши. Надо было проситься назад. Она всхлипнула и попросилась.
– Не знаю, не знаю… После того, что ты учудила…
Алена боялась, что Ольга откажется от нее, как пообещала.
– Пожалуйста, я буду очень стараться…








