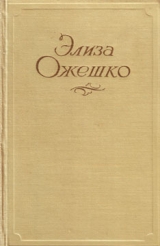
Текст книги "Добрая пани"
Автор книги: Элиза Ожешко
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Черницкая уже надевала на нее мягкое, как пух, теплое пальто, но Хелька вырвалась из ее рук.
– Ай! – воскликнула она. – Как я долго не видела пани, пойду к ней! Adieu, тетя!
И, послав Яновой воздушный поцелуй, девочка вприпрыжку выбежала из комнаты, звонко напевая:
– Пойду к пани… к моей дорогой… к моей золотой… к моей любимой…
– Как она любит свою благодетельницу! – сказала Янова, обращаясь к Черницкой.
В тот же вечер Эвелина, утопая в пышных складках белого пенюара, сидела у туалетного столика, печальная и озабоченная. Хелька вся в кружевах и батисте уже спала глубоким сном в своей резной кроватке. На туалете догорали две свечи в высоких подсвечниках. За креслом Эвелины стояла Черницкая, расчесывая и заплетая на ночь ее все еще черные, длинные волосы. Помолчав с минуту, Эвелина заговорила:
– Знаешь, Чернися, мне становится трудно…
– Трудно? – участливо спросила кастелянша.
Поколебавшись, пани Эвелина чуть слышно ответила:
– С Хелей.
Затем обе довольно долго молчали. Черницкая медленно, едва касаясь, водила щеткой по черным шелковистым волосам своей хозяйки. Лицо ее, отражавшееся в зеркале туалета, выражало задумчивость. Минуту спустя она проговорила:
– Паненка растет…
– Растет, Чернися… и пора уже подумать об ее образовании. Гувернантку я в дом ни за что не возьму. Терпеть не могу в доме посторонних… Не знаю, что и делать.
Черницкая снова помолчала. Потом со вздохом проговорила:
– Как жаль, что паненка уже не та маленькая девочка, какой она пришла к нам…
Эвелина тоже вздохнула.
– Это правда, дорогая Чернися, только маленькие дети по-настоящему милы и доставляют чистую радость. Хеля уже вышла из того чудесного детского возраста. Ее нужно учить, читать ей наставления…
– Я заметила, что с некоторых пор вам очень часто приходится наказывать паненку…
– Да, у нее очень изменился характер. Она стала капризной… вечно дуется на меня за что-то…
– Паненка привыкла к вашей необычайной доброте.
– Это правда! Я избаловала ее. Но нельзя же большую девочку баловать так, будто она все еще прелестная крошка… изящная… ласковая…
– Паненке стало трудно угодить… Сегодня она рассердилась на меня за то, что, причесывая ее, я чуть сильнее потянула прядку волос…
– Правда? Рассердилась на тебя? Я помню, что и раньше она часто сердилась и вертелась на стуле, когда ты ее причесывала… Но пока она была маленькой, это было забавно и придавало ей очарование… Теперь же становится невыносимым… Хорошо было бы, если бы я ошиблась, но мне кажется, что она превращается в злюку…
– Вы приучили… Паненка привыкла к тому, что вы необычайно добры, – повторила Черницкая.
Обе замолчали. Черницкая кончила расчесывать волосы. Потом, склонившись над головой своей госпожи, чтобы надеть на нее легкий ночной чепчик, она совсем тихо и неуверенно сказала:
– Может быть, к вам на днях приедут гости…
– Гости? Какие же, дорогая Чернися? Кто?..
– Может, приедет тот пан, на концерте которого вы были во Флоренции и который потом несколько раз так изумительно играл у вас…
Легкий румянец появился на щеках Эвелины. В этот поздний час после долгого путешествия ее лицо напоминало увядший цветок.
– Он прекрасно играет, правда, Чернися? Он настоящий, великий артист.
Она оживилась, голос ее стал звонче, угасшие было глаза засверкали.
– А какой он красивый! – прошептала Черницкая.
– Не правда ли? О, эти итальянцы! Если уж кто-нибудь из них красив, так красив, как мечта…
Эвелина медленно прошла от туалетного столика до кровати и, когда она уже разделась, а Черницкая уложила пышное одеяло в красивые складки, мечтательно сказала:
– Чернися, милая, будь добра, последи, чтобы в доме все было хорошо и красиво… Гостиную убери… так, как ты умеешь… ведь у тебя столько вкуса и сноровки… Может случиться… кто-нибудь приедет к нам…
И в последующие вечера пани Эвелина и Черницкая вели за туалетом такие же короткие и отрывистые беседы:
– Чернися, ты заметила, как Хеля дурнеет?
– Да, мне кажется, паненка уже не такая складная, как раньше…
– Она становится совсем нескладной… Не пойму, отчего у нее такие длинные ноги… И подбородок как-то странно вытянулся…
– Все же паненка очаровательна…
– Нет, она не будет такой красивой, как можно было предположить несколько лет назад… О боже! Как время летит! Летит и летит и уносит с собой все наши надежды…
Однако на следующий день на лице Эвелины засияла блаженная надежда. На туалетном столике лежало надушенное письмецо, присланное из Италии.
– Чернися, у нас будут гости…
– Слава богу! Вы хоть немножко развеселитесь. С тех пор как мы вернулись из-за границы, вы все время грустите…
– О Чернися, как я могу быть веселой! Мир так печально устроен! Избранные души, которые ищут идеала, совершенства, вечно только ошибаются…
Помолчав с минуту, она добавила:
– Взять к примеру Хелю… Какая была прелестная, милая, забавная девочка… а теперь…
– С тех пор как мы вернулись из-за границы, паненка все дуется или грустит..
– Какая там грусть! Чего ей грустить? Дуется на меня за то, что я занимаюсь ею меньше, чем раньше… О боже! Но разве я могу всю жизнь ничем иным не интересоваться, кроме этого ребенка!..
– Паненка привыкла к вашей необычайной доброте, – твердила свое Черницкая.
И в самом деле, Хеля грустила и непрерывно капризничала. У избалованной девочки, привыкшей только к приятным впечатлениям, нервы расстроились под влиянием обиды, в причине которой она не в состоянии была разобраться, и чувства ее находили выход то в слезах, то в бурных вспышках гнева. Когда ее причесывали или одевали, она во весь голос кричала, топала ногами, сжимала кулачки и чуть не била Черницкую. Когда Эвелина в ответ на ее нежное воркование молчала, отделывалась небрежным замечанием или вовсе запиралась от нее в своей спальне, девочка садилась в углу гостиной на низенькую скамеечку и, съежившись, надув губы, бормотала себе под нос сердитые тирады, заливаясь слезами. А Эвелина, глядя на ее распухшие и покрасневшие глаза, окончательно склонялась к убеждению, что Хеля злючка и заметно дурнеет. Иногда девочке приходило в голову сделать что-нибудь назло охладевшей к ней опекунше – кто знает, может быть, таким путем она вновь привлечет к себе ее внимание? Когда Эвелина, увлеченная чтением, погружалась в глубокое раздумье, Хелька по-кошачьи подкрадывалась к фортепьяно, искоса поглядывая на пани Эвелину, и изо всей силы обеими руками ударяла по клавишам. В былые дни такая какофония вызвала бы у Эвелины веселый смех и на ребенка посыпался бы град поцелуев. Но ведь теперь Хелька была совсем не такой забавной, как прежде, а Эвелина часто грустила. Поэтому она всякий раз вскакивала, подбегала к своевольной девочке и сурово корила ее, а иногда даже ударяла по рукам. Тогда Хелька, плача и дрожа всем телом, падала перед ней на колени, целовала ее ноги и долго, страстно, как молитву, шептала самые нежные и ласковые слова.
– Моя дорогая, – говорила она, – моя золотая… моя милая… пожалуйста… пожалуйста…
И она умолкала, продолжая стоять на коленях перед своей благодетельницей с молитвенно сложенными руками и устремленными вверх глазами. Девочка чувствовала глубоко и мучительно, что ей хочется о чем-то попросить свою пани, но о чем, она не знала.
Однажды, во время такой сцены, лакей, появившийся в дверях гостиной, доложил о приезде гостя с итальянской фамилией. Эвелина, по свойственной ей чувствительности и доброте, уже готова была растрогаться, глядя на смиренную и полную очарования позу девочки, готова была заключить ее в свои объятия. Но, услышав, чью фамилию назвал лакей, она вздрогнула, выпрямилась и поспешила навстречу входившему в гостиную прекрасному итальянцу. Когда Эвелина приветствовала прославленного музыканта, улыбка и румянец, озарившие ее лицо, сделали ее похожей на пышно расцветшую розу.
Визит продолжался долго, до позднего вечера. Хозяйка дома и гость оживленно беседовали по-итальянски, каждый из них, видимо, стремился, чтобы время, проведенное вместе, было по возможности приятным. Принесли виолончель. Пани Эвелина села за рояль и аккомпанировала знаменитому виолончелисту. Во время одной из пауз они начали разговаривать между собой тише, чем раньше, – быть может, они хотели сказать друг другу нечто интимное; их головы сблизились, и итальянец потянулся к белой руке, небрежно покоившейся на клавишах. Но в тот же миг Эвелина отодвинулась, отдернула руку, гневно сдвинула брови и, нетерпеливо закусив губы, начала громко говорить о музыке. Причиной этого внезапного раздражения было то, что взор ее встретился с устремленными на нее синими, как итальянское небо, глазами девочки. Хеля, сжавшись в комочек, притихшая, словно раненая птица, сидела на низенькой скамеечке неподалеку, в тени, падавшей на нее от рояля, и пристально всматривалась в свою опекуншу. В неподвижном взгляде ребенка была и тоска, и тревога, и мольба… В последующие дни Эвелина и ее гость тоже не могли сказать друг другу ничего интимного, сокровенного; разговор касался лишь избитых салонных тем, так как Хеля, ни на минуту не покидавшая гостиной, прекрасно все понимала, и сама неплохо говорила по-итальянски.
Несколько дней спустя Эвелина, поджидая дорогого гостя, сидела на диване, подперев рукой голову, погруженная в грустное и вместе с тем блаженное раздумье. О чем она думала? Вероятно, о том, что господь бог в безграничной доброте своей озарил сумрачный и холодный путь ее жизни теплым и светлым лучом солнца. Таким лучом стал теперь для нее гениальный, обворожительный итальянец, которого она случайно встретила в огромном мире и теперь называла избранником своего сердца и души. О, какую огромную роль призван он сыграть в ее жизни! Все говорит об этом – и учащенное дыхание, и внезапно нахлынувшая волна жизни и молодости, которая вдруг захлестнула ее всю целиком и заставила сильнее забиться сердце. Раньше ее окружала такая тоска и скука. Она была так одинока, во всем разочарована. Если бы так продолжалось еще немного, она быстро состарилась бы, впала в апатию или черную меланхолию. Но провидение еще раз доказало ей, что оно не оставляет ее своим попечением и что даже в минуту самого глубокого горя не следует терять веры. Ах, скорей бы пришел ее гениальный, прекрасный, дорогой друг!..
Тут размышления Эвелины были прерваны: две маленькие ручонки упали на черное кружево ее платья, будто две снежинки, и робко, умоляюще потянулись к ее шее. Очнувшись, Эвелина вздрогнула и, подавляя досаду, легко оттолкнула Хелю. Девочка попыталась все обратить в веселую шутку. Видно, слишком долго она была любимицей и не так-то легко могла поверить, что теперь отвергнута. Она тихо и ласково засмеялась, и снова ее ручонки, утопая в черном кружеве, робко потянулись к шее опекунши, порываясь обнять ее. На этот раз Эвелина вскочила с дивана и позвонила:
– Панну Черницкую!
Черницкая вбежала, тяжело дыша, сильно разрумянившись, с куском шелковой материи в руках. Полоска шелка была перекинута через плечо, множество булавок воткнуто в лиф. Уже целую неделю она руководила мастерской новых платьев и всевозможных нарядов, оборудованной в гардеробной.
– Чернися, милая, возьми Хелю, и пусть она побудет там у тебя, пока у меня гости. Она мешает разговаривать… Пристает..
– Паненка дурно ведет себя!
С этими словами кастелянша наклонилась к девочке. По губам ее скользнула знакомая улыбка – чуть-чуть ироническая, чуть-чуть печальная; а грудь ее, стянутая узким лифом, дрогнула не то от сдерживаемого смеха, не то от подавляемой злобы. Взяв за руку остолбеневшую, смертельно бледную Хельку, Черницкая на мгновенье остановила пристальный взгляд на лице своей хозяйки.
– Паненка изменилась… – медленно проговорила она.
– Изменилась, – повторила пани Эвелина и, вздохнув, добавила с гримасой величайшего отвращения: – Понять не могу, как я могла полюбить такого несносного ребенка!
– О! Она когда-то была совсем другой…
– Не правда ли, Чернися? Совсем другой… Когда-то она была очаровательна… а теперь…
– Теперь стала несносной…
– Ужасно несносной… Возьми ее, Чернися, и пусть она уже навсегда останется у тебя…
Черницкая, ведя за руку потрясенную, бледную как полотно Хельку, услышала уже в дверях:
– Чернися!
Она быстро обернулась с покорной и подобострастной улыбкой.
– Как там мое муаровое платье? И прошу тебя, последи, чтобы сегодня как следует накрыли на стол… Присмотри за десертом… Ты ведь знаешь, итальянцы, кроме фруктов и мороженого, почти ничего не едят…
– Все будет так, как вы приказали, моя пани. Только дайте мне, пожалуйста, ключ от шкафа, где хранятся ткани и кружева, и денег на все остальное…
В комнате Черницкой стояла тишина. Часы, висевшие над огромным сундуком, отбивали полночь. У стены, возле занавески, отгораживающей кровать кастелянши, белела детская резная кроватка орехового дерева, застланная белоснежной постелью. На столе рядом со швейной машиной горела лампа, и в ярком ее свете резко вырисовывалась фигура погруженной в работу женщины. У ног ее на красивой скамеечке сидела Хеля, держа на коленях спящего Эльфа. Черницкая старательно складывала и сшивала банты из черного муара. Когда же из гостиной донеслись рыдающие звуки фортепиано и виолончели, она перевела хмурый взгляд на склоненную над собачкой головку Хели и, слегка прикоснувшись к ней пальцем в серебряном наперстке, сказала:
– Слышишь? Помнишь? И ты была там когда-то!
Девочка подняла к ней личико, сильно побледневшее за эти несколько дней, и молча посмотрела на Черницкую. В глазах Хели, казалось, застыло изумление.
– Ты чего таращишь на меня глаза? Чему удивляешься? Ох, шла бы ты лучше спать… Не хочешь? Думаешь, пани тебя позовет? Долго придется ждать! Жаль мне тебя! Хочешь, я расскажу тебе длинную хорошую сказку?..
От радости Хеля подскочила на скамеечке так, что даже Эльф проснулся.
Сказку! Когда-то ей часто рассказывала сказки пани Эвелина.
– Тсс, Эльфик, тише! Ну, не спи же! Слушай! Сказка будет длинная и хорошая!
Черницкая бросила на стол десятый бант и принялась за одиннадцатый, поглядывая исподлобья на оживившуюся девочку. Пальцы ее слегка дрожали и взор помрачнел. Помолчав, она заговорила вполголоса, не переставая шить:
– Жила-была в одной шляхетской слободе молодая красивая девушка. Жила она счастливо у своих родителей вместе с братьями и родственниками под голубым небом божьим, среди любимых зеленых полей. Работала она, правда, тяжело, но была здоровая, пригожая, румяная и веселая. Было ей уже лет пятнадцать, и соседский парень собирался посвататься к ней, как вдруг случайно увидела ее одна очень богатая и очень добрая госпожа. Случилось это в воскресенье, когда нарядная девушка несла из лесу кувшин с земляникой. Увидела ее пани и сразу полюбила. За что? – Неизвестно! Говорят, у девушки были красивые глаза, а может быть, она была особенно хороша на зеленой меже среди золотой пшеницы, с красной лентой на кофточке и кувшином земляники в руках. Как бы там ни было, только добрая пани подъехала в роскошном экипаже к хате ее родителей и забрала девушку к себе. Она обещала дать девушке образование, вывести в люди, устроить ее судьбу и счастье… Судьбу… и счастье!..
Последние два слова Черницкая произнесла протяжно, с присвистом и, бросив на стол одиннадцатый бант, начала укладывать двенадцатый.
– Что же дальше? Что было дальше? Милая панна Черницкая, что дальше? – затрепетала на скамеечке Хеля. Эльф тоже не спал, он сидел у девочки на коленях и своими черными круглыми глазами понимающе смотрел в лицо рассказчицы.
– Дальше было так. Добрая пани очень любила молоденькую девушку, любила ее целых два года. Она не расставалась с ней, часто целовала, учила говорить по-французски, изящно ходить, красиво есть, вышивать бисером по канве… потом…
– А потом? Что было потом?
– Потом она стала любить ее гораздо меньше, пока, наконец, не встретила случайно одного графа. Тогда молодая девушка показалась ей очень скучной – и перешла в гардеробную. Счастье еще, что у девушки был хороший вкус и искусные руки; добрая пани приказала обучить ее шитью и всякому рукоделью и сделала ее своей кастеляншей. Если бы не эта необычайная доброта госпожи, у девушки был бы теперь свой домик в шляхетской слободе, муж, дети, здоровье и румяное лицо. Но пани взялась устроить ее судьбу и счастье… Вот уже лет двенадцать шьет она для своей госпожи наряды, иной раз всю ночь напролет, бранится со служанками и лакеями, каждое утро натягивает ей на ноги чулки и туфли и каждый вечер накрывает ее одеялом, укладывая его в изящные складки… Ей всего только тридцать лет, а выглядит она как старуха. Похудела, почернела, стала плохо видеть… Быстро наступит старость, и она должна помнить об этом… О, она должна помнить о старости, не то, если доброй пани сегодня или завтра вздумается посадить на ее место в гардеробной кого-нибудь другого, девушке придется возвратиться в свою слободу на милость братьев, на посмешище людям, на горе и нужду… Вот… начало сказки!
На столе уже лежали десятка два готовых бантов. Черницкая взяла длинный шуршащий лоскут черного муара и принялась его укладывать в живописные складки. Пальцы ее дрожали сильнее, чем прежде, а пожелтевшие веки часто-часто моргали, может быть, чтобы смахнуть слезы, трепетавшие на ресницах. Она взглянула на Хелю и громко рассмеялась.
– Ну, что ты глаза вытаращила, словно съесть меня хочешь? – воскликнула она. – И собака тоже уставилась на меня, будто поняла сказку. Ведь это сказка… Хочешь слушать дальше?
– А что было потом? – прошептала девочка.
Черницкая с подчеркнутой серьезностью продолжала:
– Потом – был граф…
– А какой он был, этот граф?..
– Граф был женатый. Ксендз внушил доброй пани, что женатого любить не следует, ибо за такие дела можно в ад угодить и… сам занял место графа.
– А где это было?
– Это было в Париже, но вскоре пани оттуда уехала и в каком-то городе случайно увидела прекрасного бледнорозового попугая с красным клювом…
Хеля оживилась.
– В Вене… – воскликнула она, – в одном саду много попугаев… красивых…
– Так вот, тот попугай был еще красивее, чем те, которых ты видела в Вене… Пани купила его и очень полюбила. Больше года она не расставалась с ним. На ночь его клетку переносили из гостиной в спальню. Пани учила его говорить по-французски, кормила изысканными лакомствами, гладила перышки, целовала в клюв…
Тут Черницкая кончила собирать пышную оборку, повесила ее на ручки кресла и начала старательно теребить иглой концы широкой муаровой ленты. От прикосновения иглы материя шелестела, часы над сундуком пробили час, из гостиной снова понеслись, умолкнувшие было, звуки виолончели и рояля, словно слившиеся в страстном объятии.
– А потом? Что было потом? – послышался нетерпеливый, тревожный шепот девочки.
Эльфа не интересовал конец сказки, он уснул на руках у Хельки.
– Потом… не помню уже, как и отчего, но только попугай ей очень наскучил… и его отправили в гардеробную. В гардеробной он затосковал, перестал есть, заболел и подох. Но пани совсем его не жалела, у нее была красивая собачка…
– Знаю! Я уже все знаю! – вдруг вскричала Хеля.
– Что ты знаешь?
– Конец сказки.
– Ну, так расскажи.
– И собачку потом отправили в гардеробную…
– А потом?
– Потом была девочка…
– И что же?
– Пани девочку любила…
– А потом, – перебила ее Черницкая, – пани встретила одного знаменитого музыканта…
– И девочку отправили в гардеробную!
Последние слова Хеля произнесла чуть слышным шепотом. Черницкая, подняв глаза от лоскутьев муара, увидела, как изменилось лицо девочки. Маленькое, с правильными красивыми чертами, оно было в эту минуту белым как полотно, по щекам двумя струйками тихо лились слезы, а огромные синие заплаканные глаза были устремлены на кастеляншу с немым и, казалось, безграничным изумлением. Девочка поняла сказку, но все еще не переставала удивляться…
Черницкая снова часто заморгала глазами. Потом встала и подняла девочку со скамеечки.
– Ну, – сказала она, – хватит и сказок, и слез, и сидения по ночам… Так ведь и заболеть можно… Ложись спать!
Она раздела совсем покорную Хелю и уложила в постель. Девочка притихла и вопросительно смотрела на нее. Потом Черницкая взяла Эльфа, который улегся на скамеечке, и, должно быть в виде утешения, положила его к Хеле на одеяло. Склонившись над кроваткой, Черницкая прикоснулась сухими тонкими губами ко лбу девочки.
– Ну, – сказала она, – ничего не поделаешь! Не видел от меня зла попугай, не видел зла Эльф, не увидишь и ты, пока будешь здесь. Спи!
Заслонив легкой красивой ширмой детскую кровать от света лампы, она снова села за стол и начала строчить на машине белый муслин. Худые, проворные руки быстро вертели ручку, и машина стучала до тех пор, пока заспанный лакей в передней не запер двери за уходившим гостем. На дворе уже брезжил поздний осенний рассвет. Из спальни пани Эвелины раздался звонок. Черницкая вскочила и, протирая утомленные ночной работой глаза, торопливо выбежала из комнаты.
* * *
После отъезда из Онгрода знаменитого артиста Эвелина снова отправилась за границу. С тех пор прошло полгода. Мелкий частый мартовский дождь беззвучно падал с пепельно-серого неба, и хотя до наступления сумерек оставался еще добрый час, в маленькой низенькой лачуге каменщика Яна уже совсем стемнело.
В этот хмурый, дождливый весенний день два маленькие окошка, расположенные почти у самой земли, скупо освещали довольно просторную комнату с низким бревенчатым потолком и глиняным полом. Стены ее были покрыты почерневшей, потрескавшейся штукатуркой. Большая печь, в которой пекли хлеб и варили обед, занимала почти четвертую часть комнаты. Печь была огромная, но от старых, низких и тонких стен отдавало накопленной за зиму плесенью и сыростью. Вдоль стен стояли лавки, столы, несколько стульев из некрашеного дерева, комод, а на нем картинки с изображениями святых, два топчана, кадка с водой и бочонок с квашеной капустой, а рядом с печкой – низкая и узкая дверка, которая вела в комнатушку, служившую спальней хозяевам.
В большой комнате семья каменщика собиралась ужинать. Ян, рослый, широкоплечий мужчина с густой шапкой жестких, как щетина, волос, только что вернулся с работы. Сняв рабочий фартук, облепленный глиной и известкой, он умыл в лохани лицо и руки и, оставшись в жилетке, из которой виднелись рукава холщовой рубахи, сел за стол у стены. Его жена, босая, в короткой юбке и платке, повязанном крест-накрест на груди, с толстой, растрепанной косой, болтавшейся вдоль спины, развела в бездонной глубине печи огонь и варила похлебку. На топчане у стены сидели и громко разговаривали дети. Их было трое: мальчик лет двенадцати, коренастый и крепкий, с такой же жесткой и густой, как у отца, шевелюрой, и две девочки лет восьми и десяти, босые, в длинных, до полу, платьицах, худенькие, но румяные. Они хохотали на всю комнату. Рассмешил их Вицек: полулежа на топчане, он выделывал ногами замысловатые фигуры и рассказывал про свои приключения в начальной школе, которую посещал первый год. Пока Янова не развела огонь в печи, могло показаться, что в комнате, кроме родителей и троих ребятишек, никого больше нет. Но когда отблеск пламени осветил противоположный угол комнаты, обнаружилось еще одно человеческое существо, сидевшее на другом топчане: то была девочка лет десяти. Мерцающий отблеск огня, едва достигавший этого угла, слабо освещал ее. Но все же можно было разглядеть, что она сидит на топчане, поджав ноги, забившись в угол и зябко съежившись. Возле нее поблескивал бронзовыми кнопками небольшой изящный чемоданчик, из которого ее маленькие, белые как полотно ручки время от времени доставали различные мелкие предметы. Потом по движениям рук нетрудно было догадаться, что съежившееся, озябшее существо долго и старательно расчесывало гребнем из слоновой кости свои волосы, в которых дрожащие языки пламени зажигали порой яркозолотые блики. Вот сверкнуло извлеченное из чемоданчика зеркальце в серебряной оправе.
– Мама! Мама! – воскликнула младшая из двух игравших на топчане девочек. – Хеля опять причесывается и глядится в зеркало…
– Она сегодня третий раз причесывается и уже два раза чистила ногти! – презрительно заметила старшая.
– Франтиха! Кукла! – добавил мальчик. – Да разве она моется, как мы, в лохани… смочит свое полотенчико в воде и водит им по лицу… Вот разобью я ее зеркальце, поглядим, что тогда будет!
И все трое, громко шлепая босыми ногами, кинулись в темный угол.
– Дай зеркальце! Дай! Дай!
Две маленькие белые ручки тихо, без малейшего сопротивления протянулись из темноты и отдали расшалившейся ватаге зеркальце в серебряной оправе. Дети схватили его, но, неудовлетворенные своей добычей, стащили с топчана английский чемоданчик из кожи и, усевшись вокруг него на полу, должно быть в сотый раз принялись рассматривать хранившиеся в нем гребешки, щетки и щеточки, мыльницы и пустые флаконы из-под духов.
Тем временем Янова, не обращая внимания на крик и смех детей, а может быть, и радуясь ему, беседовала с мужем о его работе, рассказывала о неприятностях, которые ей доставила соседка, о том, что Вицек сегодня заленился и поздно пошел в школу. Потом она поставила на стол большую миску, из которой валил пар, и позвала детей ужинать.
Приглашение не пришлось повторять дважды. Вицек и Марылька одним прыжком очутились на скамейке возле отца и с обеих сторон повисли у него на шее, Каська подскочила к столу, держась за юбку матери, которая на ходу разрезала большой каравай ржаного хлеба. Янова оглянулась.
– Хеля, – позвала она, – а ты почему не идешь есть?
Хеля сползла с топчана, и, когда она шла к столу, свет, упавший на ее хрупкую фигурку, как-то особенно рельефно выделил ее в полумраке комнаты. Худая, не по возрасту высокая, девочка была одета в голубую атласную шубку, отороченную лебяжьим пухом. Атлас еще сохранил свой блеск, но некогда белоснежная оторочка имела такой вид, словно ее вытащили из золы. Девочка выросла из шубки, она едва доходила ей до колен; длинные худые ноги в тонких, как паутинка, рваных чулках были обуты в высокие, тоже рваные ботинки на пуговицах. Вытянувшееся, худенькое лицо с огромными, глубоко запавшими глазами обрамляли огненно-золотистые волосы, старательно причесанные и перевязанные дорогой лептой. В этой низкой, полутемной лачуге, среди босых, бедно одетых ребятишек, изящная Хеля в своем наряде составляла резкий контраст с окружающей обстановкой. Это было смешное и одновременно скорбное зрелище.
Некоторое время слышен был только стук ложек о миску и чмоканье пяти ртов, с великим удовольствием поглощавших похлебку с салом и ржаной хлеб. Хеля тоже ела, но медленно, изящно и очень мало. Она поднесла несколько раз ко рту хлеб и ложку с похлебкой, v а затем, положив ложку на стол, сидела тихо, сплетя руки на коленях, выпрямившись на табурете – таком высоком, что ноги ее в рваных парижских ботинках не доставали до полу.
– Почему ты не ешь? – обратилась к ней Янова.
– Спасибо, больше не хочется, – ответила девочка, дрожа от холода и кутаясь в свою короткую и узкую атласную шубку.
– И чем только этот ребенок жив, право не знаю! – сказала Янова. – Если бы я не жарила для нее каждый день кусочек мяса, так она наверняка бы с голоду умерла. Да и эту малость еще ни одного разу целиком не съела…
– Эх, – флегматично заметил Ян, – привыкнет, придет время, привыкнет…
– И все-то ей холодно, вечно она зябнет… Наши дети бегают по двору босиком, в одних рубашонках, а ее и здесь, в комнате у печки, в шубке лихорадка все время трясет…
– Ничего, – повторил Ян, – привыкнет когда-нибудь…
– Конечно! – согласилась Янова. – Но пока на нее смотреть жалко… Я частенько и самовар для нее ставлю и чаем ее пою…
– Так и нужно, – подтвердил каменщик, – ведь нам за нее платят.
– Платить-то платят… и все-таки недостаточно, для того чтобы мы при нашей бедности могли содержать ее в достатке…
– Этого и не нужно. Привыкнет.
Вицек и Марылька уплетали хлеб и похлебку. Каська приставала к ним, мешая есть. Ян, отерев губы рукавом рубахи, начал расспрашивать сына о его занятиях и поведении в школе. В соседней комнате заплакал младенец. Янова, убиравшая со стола миску, ложки и оставшиеся полкаравая хлеба, взглянула на Хелю.
– Иди покачай Казя и спой ему, как ты умеешь…
Она сказала это ласковым тоном, гораздо более ласковым, нежели тот, каким она обычно обращалась к своим детям.
Хеля послушно, ни слова не говоря, легким, грациозным шагом, совершенно непохожим на стремительную и тяжелую походку детей каменщика, проскользнула в полутемную комнатку, и вскоре мерному скрипу люльки стал вторить тихий, но чистый, трогательный детский голос.
Иных песенок, кроме французских, она не знала, но их помнила великое множество. Эти песенки всегда приводили в восторг всех членов семьи каменщика, может быть, потому, что были им непонятны. И на этот раз дети притихли; Ян, облокотившийся обеими руками на стол, и жена его, мывшая у печки посуду, тоже молчали. В темной комнатке мерно поскрипывала люлька, а чистый печальный голос девочки протяжно и меланхолично тянул припев любимой песенки:
Le papillon s'envola,
La rose blanche s'effeuilla,
La, la, la, la, la, la, la…
Янова подошла к столу, Ян поднял голову. Взглянув друг на друга, они покачали головами и улыбнулись чуть-чуть насмешливо, чуть-чуть печально.
Потом Ян достал из-за пазухи распечатанное письмо и бросил его на стол.
– Я сегодня встретил в городе управляющего Кшицкой. Он шел к нам, но, увидев меня, подозвал и дал вот это…
Янова огрубевшими пальцами почтительно извлекла из конверта двадцатипятирублевую бумажку, составлявшую половину суммы, которую пани Эвелина обещала выплачивать ежегодно до совершеннолетия Хельки на ее содержание и образование.
– Ну, – проговорила Янова, – прислала все-таки… слава богу!.. А я-то думала, что…
Она не договорила, заметив, что рядом с ней у стола стоит Хеля. Из темной комнатки девочка видела, как Ян подал жене письмо, и услыхала имя своей бывшей опекунши. И мгновенно к ней вернулась ее прежняя живость. Она спрыгнула с кровати Яновой, возле которой стояла колыбелька, и подбежала к столу с раскрасневшимся лицом, сверкающими глазами, улыбаясь и дрожа, но не от холода, а от сильного волнения. Она протянула руки к конверту.
– От моей пани, – вскричала она, – это от пани… пишет ли она… пиш…
У бедняжки перехватило дыхание.
– Пишет ли пани что-нибудь обо мне?
Ян с женой снова переглянулись, покачали головами и улыбнулись:
– Ах ты глупенькая! Стала бы пани писать нам о тебе. Прислала вот деньги на твое содержание. Скажи спасибо и за это.
Хеля опять побледнела, помрачнела и, зябко кутаясь в шубку, отошла к печке. Вицек схватил конверт и стал читать Марыльке написанный на нем адрес. Каська дремала на лавке, положив голову на колени отца. Ян, взяв из жениных рук кредитку, нерешительно спросил:





