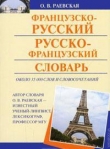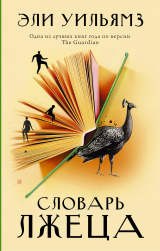
Текст книги "Словарь лжеца"
Автор книги: Эли Уильямз
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Чтобы не сойти с ума, время между звонками я проводила, читая словарь, – проглядывала том, открытый у меня на рабочем столе. Диплом (сущ.), читала я, «документ, выпущенный той или иной высшей признанной властью»; диплопия (сущ.), «поражение зрения, при котором предметы двоятся»; диплопия (сущ.), «поражение зрения, при котором предметы двоятся»; диплостемонный (прил., ботаника), «имеющий два круга тычинок или обладающий вдвое большим количеством тычинок против количества лепестков».
Теперь используй три эти слова в предложении, думала я. А после этого опять звонил телефон.
– Доброе утро, «Суонзби-Хаус», чем я могу вам помочь?
– Чтоб вам в аду гореть.
Природа моих обязанностей при собеседовании не упоминалась. Могу понять почему. В мой первый день в конторе, снимая трубку без малейшего понятия, что грядет, я откашлялась и бодро, слишком уж бодро произнесла:
– Доброе утро, «Суонзби-Хаус», это Мэллори – чем я могу вам помочь?
Помню, что голос впервые возлегший мне на плечо, вздохнул. Обсуждая это потом, мы с Дейвидом решили, что речь маскировалась неким механическим устройством или приложением, чтобы звучало, как у мультяшного робота. В то время я этого еще не знала. Голос звучал металлически, словно бы что-то разваливалось.
– Простите? – переспросила я. Оглядываясь теперь в прошлое, не знаю, инстинкт это был или нервозность первого дня на работе. – Я не расслышала, нельзя ли попросить вас повторить…
– Чтоб вам всем сдохнуть, – произнес голос. И трубку повесили.
Бывали дни, когда голос звучал по-мужски, в иные разы – по-женски, а иногда – словно барашек из мультфильма. Можно решить, что отвечать на такие звонки после первой пары недель стало бы делом обыденным – такое же рядовое событие, как чихать или открывать почту, но уже совсем скоро я осознала, что таков мой распорядок каждое утро: едва начинал звонить телефон, тело мое закручивало циклом всех физических кратких обозначений ужаса. От лица отливала кровь и густо сворачивалась гремучими узлами в висках и ушах. Ноги слабели, а обзор сужался, поле зрения стягивалось. Если б вам довелось на меня посмотреть, самым очевидным воздействием оказалось бы то, что каждое утро, пока я тянулась к телефону, по всей длине моя рука покрывалась мурашками, гусиной кожей и перипсихисом.
* * *
В нашем тесном чулане в тот обеденный перерыв Дейвид не спускал глаз с какой-то полки.
– Звонок? – спросил он. – Его ли я слышал в десять часов?
Я кивнула.
Дейвид расправил руку и неумело меня приобнял.
Ему в плечо я пробормотала спасибо. Он отстранился и вновь поправил на полке этикет-пистолет.
– Загляните ко мне в кабинет, как только завершите со своим… – он глянул на уже-опустевший «Тапперуэр» у меня в руках, очевидно, впервые заметив его, – …обеденным контейнером.
И вслед за этим редактор-во-главе оставил стажера-на-посту ее чулану, априцитности и световому люку. Там я простояла полную секунду, после чего, доедая свое последнее крутое яйцо, поискала в телефоне поддиафрагмально-абдоминальный толчок. На правильное написание ушло четыре попытки, и в конце я сдалась и предоставила Автозамене обойтись со мною по-своему – хваткой Хаймлиха.
Б – блефовать (гл.)
Посреди своего четвертого урока дикции Питер Трепсвернон пережил откровенье: лучше всего удастся ему победить головную боль, если он подожмет обе ноги себе к подбородку и закатится прямиком в пылающий очаг д-ра Рошфорта-Смита.
– «В животе журчит желаньем желтый дервиш из Алжира и, жонглируя ножами, жадно жрет кусок инжира».
Доктор повторил выдержку. Он не заметил, как его пациенс бросает второй томительный взгляд на камин.
Если верить свидетельским рекомендациям в газетах («Всего Лишь С Небольшим Усильем И Вы Тоже Достигнете Совершенства В Произношенье!»), на д-ра Рошфорта-Смита в Лондоне имелся немалый спрос. Гостевая книга у него в приемной пестрела фамилиями множества политиков, представителей духовенства, а недавним дополненьем к ней выступал ведущий чревовещатель из «Тиволи»: были в ней все неправильные прикусы, все лепетуны, заики и хрипуны, все косноязыкие сильные мира сего. Трепсвернону вдруг подумалось: так же возятся в передней другие посетители доктора, вручая домоправительнице свои головные уборы, или нет. Уж наверняка не все столь же мучительно выжимают из себя светскую болтовню в коридорах перед своими назначеньями и чрезмерно извиняются за то, что впустили внутрь холодный январский воздух Челси? Они-то, верно, сидят ровно в своих креслах и рады тому, что из их легких наконец-то выманят полноту вдоха, а уста им скрутит так, что станут те проворны. Трепсвернон сомневался, что многие пациенсы доктора столь же униженно горбятся. Они б не стали пытаться повторять скороговорки, от каких язык себе сломаешь, если вчерашний виски еще обволакивал им гортань, а мигрень с размаху топотала им по варолиевому мосту.
Выражение варолиев мост Трепсвернон узнал накануне. Он не был уверен, что до конца понимает его значение: тот, кто произнес его, постучал себе по загривку, а затем по лбу, говоря это, как бы предоставляя контекст для употребления, – но сами очертанье и звук этого выражения засели у Трепсвернона в уме, словно мелодия, какую никак не перестать мурлыкать.
Его отношения с понятием варолиев мост и со словами вообще прокисли с тех пор, как он узнал о его существовании. Случай мимолетного знакомства порождает презрение. Ранее тем же утром Трепсвернон проснулся, все еще во вчерашнем вечернем костюме, а меж ушей у него рикошетило выражение варолиев мост. Отмечали день рождения знакомца, им сравнялся возраст жажды, и празднование вскорости накренилось от благовоспитанности к буйному веселью, а оттуда очень быстро превратилось в пьянку. Мост мост мост. Со временем отыскав собственное лицо в зеркале своей гардеробной, Трепсвернон с ужасом произвел неуклюжий и все еще пьяный утренний смотр монаршему себе. Галстук-бабочку откуда-то у себя со лба смахнул и содрал с подбородка перья из подушки, сальные от помады для волос. И лишь изъяв стопы из парадных ботинок, вспомнил он о том, что ему назначено. Применивши к ногам свежие чулки и презрев поиски зонтика, Трепсвернон выскочил за дверь и пошлепал к Челси.
Д-р Рошфорт-Смит рассматривал лицо посетителя. Трепсвернон откашлялся, дабы упрочить хватку свою на мыслях и чтобы его расслышали за птичьим пеньем – мелкой, однако пагубной черточке апартаментов доктора. Беда была вовсе не в том, что птица насвистывала весь еженедельный час его леченья. Простой посвист был бы благом. Свист бы спас положенье. Эта же птица подчеркнуто привлекала взгляд Трепсвернона с другой стороны комнаты, едва он усаживался в кресло, после чего с чем-то близким к истинной злонамеренности делала глубокий вдох и испускала орнитологический эквивалент утробного рева.
Политики, представители духовенства и ведущий чревовещатель из «Тиволи», вероятно, разделяли искушение Трепсвернона вышвырнуть птичью клетку вместе с ее обитателем из окна д-ра Рошфорта-Смита.
Доктор повторил свою фразу:
– «В животе журчит…»
Трепсвернон толком и не знал, что это за сорт певчей птицы. После первой врачебной консультации он поискал возможных кандидатов в попытке лучше узнать своего врага. Служил Трепсвернон в энциклопедическом словаре – кому как не ему знать, у кого спрашивать и каким книгам в этом вопросе доверять. Определить тип птицы по памяти и со злобы превратилось у него в одержимость на неделю, привело к ущербу для той действительной работы, каковую ему полагалось выполнять. Он корпел над зоологическими реестрами и листал иллюстрированные справочники, но пусть и набрался сведений о трофических привычках различных мелких птах, маршрутах их перелетов, таксономиях, применении муравьев для чистки оперенья, употреблении и злоупотреблении в мифологии и фольклоре, положеньях в меню рестораторов и декларациях модисток, и т. д., и т. п., вид этой птички оставался загадкой. По сути своей она была воробьем с доступом к театральной костюмерной. Никакой энциклопедический словарь вам этого не сообщит, но Трепсвернон желал бы сделать достояньем общественности, что если певчая птаха и призвана блистать, образчик, проживающий у д-ра Рошфорта-Смита, как раз таковою и был. Если птица вообще способна злопыхать, как раз сей вид и воспользовался бы подобным преимуществом. У нее постоянно был такой вид, словно она выжидает своего часа.
– «В животе журчит желаньем желтый дервиш из Алжира – произнес д-р Рошфорт-Смит, – и, жонглируя ножами, жадно жрет кусок инжира».
Певчая птаха была нелепого оранжевого оттенка. Почти весь консультационный кабинет д-ра Рошфорта-Смита был оранжев – до той степени, что Трепсвернон мог бы и список составить:
Консультационный кабинет д-ра Рошфорта-Смита
(оранжевые замысловатости оного)
абрикосовый, алый, бурый, вермильонный, вотяцкий, гессонитовый, господи-боже-гленливетовый, дынный, золотистый, иволговый, имбирный, календульный, каштановый, киноварный, коралловый, ксантосидеритовый, латунный, лахарический, мандаринный, мармеладный, медный, медовый, мимолетовый, морковный, орангутановый, охристый, паприкашевый, песчаный, пламенеющий, позлащенный, ржавый, рубединозный, рудой, румяный, рыжий, сангинный, смуглый, спессартиновый, тигровый, тициановый, тлеющий, топазовый, тыквенный, хняный, цитрусовый, шафранный, янтарный…
Оранжевые стенные драпировки, оранжевые атласные покрывала, строй ярко-оранжевой мебели, отделанной ореховой заболонью, оранжевая певчая птица. Контрастируя со всем этим, сам Рошфорт-Смит неизменно носил твид чрезвычайно лишайникового извода. Возможно, все дело в головной боли, но на этом четвертом занятии по дикции Трепсвернон подумал, что костюм этот не гармонирует с убранством комнаты с какой-то новой и в особенности энергичной свирепостью.
Когда Трепсвернон только вошел в комнату, птица на пробу испустила несколько трелей, а после приступила к продолжительному грассирующему щебету. Часы что-то икали о ходе времени, д-р Рошфорт-Смит завел свое мрачное заклинание о желанье желтого дервиша, а птица решила, что таланты ее будут лучше растрачены на перкуссионные искусства, а не на какую-то простую ариэтту, и принялась колотиться всем телом о прутья клетки.
Доктор склонил голову набок и выжидал. Трепсвернон закрыл глаза, призвал на помощь всю свою решимость и повторил комнате фразу. Каждый слог требовал усилия плохо продуманной лжи.
– «В живо…»
БЛЯМ, лязгнула птичья клетка.
– «…из Ал…»
БЛЯМ
– «…жонгли?..»
дзынИНГдзынь
ДЗЫНЬ ДЗЫНЬ-ДЛИНЬдзынь
дзыньДЛИНЬдлллинблинглинг
Лязг, визг, вчерашние злоупотребленья виски: головная боль прокусила череп Трепсвернона по всей его длине и качнула его назад – побежденный, он рухнул в недра своего кресла.
Официальной причиной нынешних визитов к д-ру Рошфорту-Смиту была шепелявость Трепсвернона. Сам он эти консультации не абонировал и довольно-таки противился даже мысли о них по одной очень веской причине: шепелявость его была совершенно искусственна. С самого детства и всю свою юность – и уж определенно те пять лет, что он трудился в «Новом энциклопедическом словаре Суонзби», – Питер Трепсвернон сооружал, поддерживал и совершенствовал в себе поддельный порок речи.
Он не был уверен, что измыслил шепелявость эту по какой-либо иной причине, нежели чистая скука. Возможно, и было у него детское ребяческое представление, что шепелявость добавляет ему подкупающих черт, и с раннего возраста подобная перемена его собственной речи вынуждала других людей относиться к нему с преувеличенной нежностью. Насколько было ему известно – а больше ему и дела-то не было, – обман этот никому не вредил. Простые наслажденья, мелкие утешенья.
Время от времени наедине с собой Трепсвернон повторял перед зеркальцем для бритья свою фамилию лишь для того, чтобы удостовериться: привычка шепелявить в нем не укоренилась.
– «Желаньем»! – стоял на своем доктор.
– «Желаньем», – повторил Трепсвернон. Язык его скользнул по задней поверхности зубов.
* * *
Мать Трепсвернона считала его мальчишескую шепелявость милой, а вот отец находил ее вздорной. От этого дитя Трепсвернон преисполнялся еще большей решимости поддерживать в себе притворство. Двоюродный дедушка по отцовской линии говорил точно так же, и целая семейная легенда вращалась вокруг внезапной робости предка, когда «Таймз» вдруг поменяла на своих страницах долгую срединную ſ на s, так что его сердитые провозглашенья «пофтыдно!» и «прифкорбно!» за завтраком уже нельзя было списывать просто на слишком быстрое чтение. По правде сказать, семейную эту легенду сочинил сам Трепсвернон, дабы уснащать ею беседы, когда паузы в них становились чересчур нестерпимы. Когда явного вреда от лжи не наблюдалось, Трепсвернон лгал непринужденно. Завершив свое школьное образование, когда обвинения в женственности и последствия того, что воспринималось как таковая, должным образом опровергались на спортивных площадках и в карцере, Трепсвернон подумывал оставить шепелявость позади – вместе с аспидными досками и учебниками. Однако по привычке, а то и нервничая при собеседовании, устраиваясь на мелкую должность корректора в «Новом энциклопедическом словаре Суонзби», у него случайно проскользнуло «фюффефтвенно».
Взгляд редактора смягчился в несомненном сочувствии. Шепелявость сохранилась, а Трепсвернон обрел осмысленную службу.
Шепелявость стала обременительна, когда труды Трепсвернона в «Суонзби» сосредоточились на букве «С». Изо дня в день он тасовал по своему столу зеленовато-голубые каталожные карточки, исписанные словами на «С», заглавные слова и глоссы – сплошь присвисты и точное шипенье. Тот же редактор, что некогда был так расположен к несуществующему недостатку Трепсвернона при собеседовании, призвал его к себе от его стола и объяснил – мягко, – что в этом году вместо рождественской премии Трепсвернон поступит на курс занятий у одного из ведущих преподавателей дикции в Европе.
– Поскольку мы приступаем к тому «Риптаж – Существенный», – сказал тогда проф. Герольф Суонзби, возложив руку Трепсвернону на плечо. Стоял он так близко, что Трепсвернон улавливал его дыханье – странную смесь цедры и лучшего табака от «Фрибурга и Трейера». – Я подумал, что самое время было бы с этим разобраться, – понимаете, раз вы продолжаете трудиться послом нашего великого «Нового энциклопедического словаря Суонзби».
– Послом, сударь?
Помедлив, Суонзби ответил, стараясь при этом выглядеть милостиво:
– Именно. – Хватка на плече у Трепсвернона сделалась чуть крепче.
Пришепетывание стало такой неотъемлемой частью самоопределения Трепсвернона и его присутствия в «Суонзби», что предложение это трудно было опровергнуть или от него отмахнуться. Занятия с д-ром Рошфортом-Смитом были должным манером назначены по значительной стоимости за счет компании – и вот так и вышло, что тем январем Трепсвернон уже четыре недели подряд откидывался на спинку оранжевого кресла, сражаясь с мигренью и притворяясь перед доктором, будто шепелявит.
Методы обучения д-ра Рошфорта-Смита оказались любопытны, однако не то чтоб вовсе не приятственны. Отчасти было так благодаря привнесенному духу игры в кошки-мышки, ибо Трепсвернону приходилось скрывать свою совершенно обычную дикцию и старательно избегать разоблачения. На их последней встрече задействовали гальку – ее разместили во рту при чтении отрывков из Ковердейлова издания Библии, принадлежавшего д-ру Рошфорту-Смиту. На другой устроили нечто вроде кукольного театра, где в спектакле являли активную мускулатуру говорящего рта посредством шелковой модели человеческого языка, размером превосходящей натуральный орган. Трепсвернону сообщили, что язык сей был изготовлен отсутствующей миссис Рошфорт-Смит. Хотя женщиною та наверняка была многоталанной, Трепсвернону в тот раз взбрело на ум, что изготовление языков вряд ли относилось к числу ее дарований. Несколько швов на языке были уж слишком очевидны, а пряди набивки кое-где выбивались из них печальными бугорками. Штуковину эту надежно зажимали челюсти, снабженные двумя комплектами зубов из вулканизированной резины, и Трепсвернон добрые полчаса наблюдал, как д-р Рошфорт-Смит показывает ему способы, какими можно улучшить себе дикцию.
Предположительно подготовленный и снаряженный к следующему показу, сегодня язык нетрепливо болтался на гвоздике у двери.
Обеими руками д-р Рошфорт-Смит держал камертон.
– Высота вашего тона, – говорил доктор, – адекватна, а сам тон уверен. Но вот я бы попросил: «желаньем» – еще разок?
Возможно, он полностью осознавал, что шепелявость фальшива: Если вы тратите мое время, я запикаю и затренькаю ваше. Таково было единственное разумное объяснение камертону, приходившее в голову Трепсвернону. Да и вообще сомнительно, чтоб его резонансные колебания различались за птичьим пеньем. Он понятия не имел, как д-р Рошфорт-Смит терпит этот звук – для Трепсвернона головная боль уже приступила к выжиманию жидкости или выщипыванию какой-то особенной ноты из его оптического нерва. В ушах у него колотилась кровь: мост мост мост, – а у д-ра Рошфорта-Смита вдруг обнаружилось либо чересчур много зубов, либо слишком уж маленький рот. Если сощуриться, все может несколько проясниться, подумал Трепсвернон. Возможно, тщательная, согласованная настройка глаз посредством вращения ворота и нарежет мир на терпимые ломти. Ему не хотелось выглядеть грубым. Тише едешь – дальше будешь, Буйволы, – ему нужно лишь на чуточку приспустить брови и сложить на лбу тончайшую из складок, чтобы прищур его сошел за внимательность.
Камертон д-ра Рошфорта-Смита ударил еще раз, и лицо у Трепсвернона прогнулось.
Вообще-то должно существовать особое слово, связанное с воздействием употребленного избытка алкоголя. Головные боли, бурлящая паранойя – кажется, что язык беднее от того, что нет в нем такого слова. Трепсвернон решил, что поднимет этот вопрос с кем-нибудь из редакторов.
Причиной ужасов сегодняшнего утра был виски, и в этом отношении Трепсвернон был уверен, но и вина, коньяки и дистилляты предшествовавшей ночи, несомненно, внесли свой вклад. Отчасти винить к тому ж следовало и то, что перед празднованием он поел недостаточно. Трепсвернон помнил, что покупал с тележки несколько каштанов. Он не мог поклясться, что ужинал чем-то еще помимо них, и, по размышлении, заподозрил, что каштаны перед жаркой, должно быть, сварили, дабы смотрелись они пухлей. Скверные каштаны, выпивки столько, что и буйвола с ног свалило б, – Трепсвернон вернул эту скудную трапезу на обледеневшую мостовую раннего утра где-то подле Королевского оперного театра. Воспоминанья сгущались и поблескивали новою яркостью. В пакость эту какая-то дама уронила лорнет, и Трепсвернон, пыша оконьяченным блаженством, сгреб оттуда ее оптический прибор, дабы вернуть ей. Дама отшатнулась от него в ужасе.
Упомянутый лорнет Трепсвернон обнаружил у себя в кармане сюртука, спеша из постели в приемную д-ра Рошфорта-Смита. Одна линза треснула маленькой сноской-звездочкой.
Пока д-р Рошфорт-Смит говорил, Трепсвернон нырнул рукою в карман брюк. Там он пережил одно из экзотичнейших своих разочарований: пальцы его сомкнулись – крепко – на несъеденном ломте именинного торта.
– С вами все в порядке, мистер Трепсвернон?
Пациенс кашлянул.
– Вполне… э-э, дело лишь в том, что нынче, как я думаю, довольно тепло, – проговорил он.
– Мне так не кажется, – ответил доктор, глянув на свой огонь.
– Сдается мне, душновато, – произнес Трепсвернон. Он старательно подчеркнул ложное жужжанье осиного крыла в своем пришепетывании. И добавил к тому ж лишнее прочувствованное «простите» для дополнения воздействия, а у певчей птицы на другом краю комнаты сделался такой вид, будто ей противно.
Д-р Рошфорт-Смит вывел загогулину в оранжевой записной книжице.
– Не падайте духом, мистер Трепсвернон. Вы в хорошем обществе – в конце концов, и Моисей пришепетывал, и Господь Бог.
– Да неужели?
– Да! – Д-р Рошфорт-Смит развел руки. – И непростительно будет с моей стороны утаить от вас мои поздравления: в вашей дикции за эти несколько недель наметились определенные подвижки.
Трепсвернон промокнул верхнюю губу рукавом. На большом пальце у себя он заметил пирожную глазурь и сложил руки на коленях. По пути в приемную доктора он ненароком прошел сквозь паутину, и это жуткое ощущенье того, что он запутался, что он пойман незримой силой, осталось с ним на все утро.
– Отрадно это понимать, благодарю.
– А теперь, – продолжал Рошфорт-Смит, возвращая камертон к себе на колени, – слегка расслабив подбородок: «“Сдайся!” – заорал Эзра, захватывая зубами язык изумленного Зенона».
Трепсвернону никогда не бывало до конца ясно, такие фразы – типовая проверка или же порождаются собственным измышленьем д-ра Рошфорта-Смита. После первой встречи Трепсвернона отправили домой, наказав ему повторять «Стоеросовая Сьюзен сидела на солнечном уступе, собирая моллюсков и сладко распевая или слушая песни, сочиненные сиренами».
Из пустой болтовни на консультации Трепсвернон понял, что «Сьюзен» – имя отсутствующей миссис Рошфорт-Смит. Ее портрет сепией висел над камином у доктора, словно мошка в кринолине, застрявшая в янтаре, – увековечена, как мертвая. Д-р Рошфорт-Смит описывал отсутствующую Сьюзен как многолетнюю страдалицу от некоего таинственного, подтачивающего силы заболевания: ныне она уединилась в альпийском санатории для поправки здоровья. Несколько ее писем было разбросано у доктора по столу – в них описывались тонизирующее воздействие альпийского воздуха и новомодные завтраки из Müesli. Бедняжка Сьюзен со своими сиренами. Трепсвернону было как-то неловко поминать болезную супругу доктора в таких располагающих декорациях, как свистящий солнечный уступ, что б она там ни делала – распевала ли или слушала песни сирен. После сорокового повтора он поймал себя на том, что на слово стоеросовая способен поставить по-настоящему пылкое ударение.
Все больше и больше Трепсвернон уверялся, что д-р Рошфорт-Смит отнюдь не намерен сообщать о жульничефтве в «Фуонвби» или порицать своего пациенса за то, что тот впустую тратит его время; он скорее измышлял нелепые вокальные упражнения, дабы посмотреть, насколько его посетитель готов длить этот фарс. Трепсвернон был уверен, что проклятущая певчая птаха определенно знала, что он лжет, – вероятно, пользуясь теми же инстинктами, какие, говорят, применяют животные, ощущая привидений или приближенье бури.
Однако сие новое злоупотребленье изумленным Зеноном и его языком невозможно было примерять без смеха. Ни лицо Трепсвернона, ни голова его, ни слизистая оболочка желудка справиться с таким сегодня не могли. Он отважился на отвлекающий маневр.
– А вы… простите, вы сказали, Бог шепелявил? – спросил он.
Явно предвидя вопрос, доктор подскочил к своему столу.
– Отошлю вас к Ковердейлу! Именно это место я отметил у Исайи, кажется – в Главе двадцать восемь…
Трепсвернон попробовал раскрошить по краям новонайденный ломоть вчерашнего именинного торта и втереть его в ткань под подушкою его сиденья. Певчая птица это заметила и пр́инялась колотиться о клетку.
– Да, а в другом месте – Моисей, вы не знали? – продолжал доктор. – Да, и Моисей! Все это отыскивается в Исходе. – Д-р Рошфорт-Смит прикрыл глаза. – «Но Моисей сказал Иегове: о! Господи! я человек неречистый, и таков был и вчера и третьяго дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим, я тяжело говорю и косноязычен»[1]1
Исход, 4:10, пер. Макария Глухарева (1860–1867). – Здесь и далее примеч. перев.
[Закрыть].
– Я и понятия не имел, что оказался в столь избранном обществе, – произнес Трепсвернон, убедившись, что доктор договорил.
Ковердейл захлопнулся, и лицо доктора сделалось горестным.
– Посредством ши́па зло проникло в сей мир… – Трепсвернон прекратил крошить торт и окаменел в кресле. – …и, быть может, благотворнее будет считать ваш недуг ничем не большим, нежели напоминаньем об этом.
БЛЯМ, громыхнула птичья клетка.
Доктор резко свел ладони.
– Однако нет здесь ничего такого, чего нельзя было б исправить. Итак, будьте любезны: «“Сдайся!” – заорал Эзра…»
* * *
Трепсвернону удалось поддержать кое-какой диалог, кое-как что-то повторить, и его не стошнило на собственную обувь: этим следует гордиться, не забыл подумать он, когда кровь отхлынула у него от головы, а перед глазами все поплыло.
– И на сем конец нашей предпоследней консультации, – произнес доктор. Обмахнул руками колени.
– Больше никаких языков и галек? Никакого Зенона? – Трепсвернон провел пяткой ладони себе по волосам.
– Я посмотрю, сколько еще Зенонов сможет поучаствовать в нашей последней встрече на будущей неделе.
Следующий посетитель д-ра Рошфорта-Смита уже дожидался в коридоре – юная девица лет семи, чья мать щебетала здравствуйтями! и добрыми утрами! От попытки потрепать себя по голове девочка увернулась. Трепсвернон узнал ее по предшествовавшим неделям, когда, любопытствуя, поинтересовался о причине, почему ребенок посещает сию практику. Девочка, очевидно, страдала от чего-то вроде идиоглоссии и совершенно отказывалась разговаривать в чьем бы то ни было присутствии. Читать и писать она умела исключительно, но совершенно онемевала в обществе. Д-р Рошфорт-Смит пояснил, что родители подслушали, как наедине с собой она разговаривает на языке, который сама же измыслила. Будучи спрошен, достиг ли он своим попеченьем каких-либо результатов, доктор прямого ответа не дал, но сообщил, что посредством бумаги, ручки и оранжевых карандашей они установили, что девочка беседует с воображаемым тигром. Тигр этот сопровождал девочку повсюду и прозывался м-р Бурч.
Тем утром, разминувшись на пороге приемной д-ра Рошфорта-Смита, оба пациенса встретились взглядами. Когда девочку с матерью вводили в кабинет доктора, м-р Бурч предположительно оставался в коридоре. Трепсвернон представил себе, как м-р Бурч с незримым, алчным рвением рассматривает певчую птичку в кабинете. Трепсвернон обратил к девочке краткую заговорщическую улыбку.
Дитя обозрело его с озадаченной учтивостью. Затем девочкино лицо потемнело, и она испустила тихий, но отчетливый рык.
Мост мост мост
Питер Трепсвернон забрал свою шляпу и довольно поспешно сбежал по лестнице на улицу.