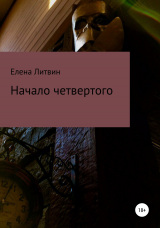
Текст книги "Начало четвертого"
Автор книги: Елена Литвин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
1
Hoc est vivere bis, vita posse priore frui
Наслаждаться жизнью это прожить ее дважды
Она слышала такое поверье, что четыре часа дня – пограничье, зона отчуждения, когда день начинает уступать приближающейся ночи. Его силы начинают убывать, в дневной свет вливаются первые дымчатые струйки чернил грядущей темноты, поначалу быстро растворяющиеся в прозрачном воздухе, лишь слегка замутнив его. Но с этого момента концентрация чернил будет расти с каждым часом, пока в четыре ночи достигшая максимальной плотности чернота не поглотит последние остающиеся в пространстве световые частицы, и все невидимые защитные фотонные экраны, надежно оберегавшие тебя от недобрых посягательств, не истончатся и не исчезнут окончательно. Открытый и уязвимый, ты становишься доступен для… становишься доступен.
Говорят, будто четыре ночи – самое опасное время для больных и ослабленных. Когда умирал от неизлечимой болезни дед, бабушка каждое утро приговаривала "дожил до солнца – день еще процивкает". Очень удачное, меткое диалектное словечко. "Цивкать" значит "кое-как, на холостых оборотах, влачить свое земное существование". Довлачивать.
Она проснулась от вброшенной в кровь лошадиной дозы адреналина в очередном приступе панической атаки, что в последнее время стали случаться с ней по ночам все чаще. Словно бы подсознание, обрабатывая во сне полученную за день информацию, вдруг натыкалось на какой-то тревожный сигнал, неосознаваемый в периоды бодрствования, и автоматически приводило имунные механизмы организма в боевую готовность.
Она нашарила в полумраке свой телефон на прикроватной тумбочке и, зажмурившись от яркого света экрана, одним прищуренным глазом посмотрела время. Три.
Монотонно шуршал по воде канала дождь.
Дождь шел всю ночь, с хлестким плеском бились о борта лодок волны. Ветер нагнал в каналы воды с моря, угрожая подтопить город, а непрекращающийся уже которые сутки ливень делал эту угрозу все более и более реальной.
Взбудораженное разбереженное сознание перебирало ворох ассоциаций в поисках причины, вызвавшей ее нездоровое пробуждение.
Она вспомнила, как утром по узкому наводненному каналу пронесся катер реаниматологов. Взрезав водную поверхность и подняв высокие волны: закачалась на гребнях лодчонка раннего рыбака, некстати попавшегося ему на пути, – заливая рябь на воде всполохами жидкого огня своих мигалок и оглушая окрестности ревом сирен, катер скрылся из вида, лишь с шумом выплеснулась на набережную и с шипением ушла обратно вспененная вода.
Катер увез в Реабилитационный центр соседскую девочку-подростка. Медбратья центра, как на подбор, рослые и крепкие, больше похожие на профессиональных спортсменов, на носилках вынесли из дома безжизненный, индифферентный ко всему на свете тринадцатилетний "скелетик": малолетняя соседка не могла идти сама, потому что не держалась на ногах.
Мать девочки безутешно рыдала на улице: то ли от негодования и бессильной злобы на санитаров, занимающихся принудительной госпитализацией в "реабилитушник", то ли от страха за дочь. Врач, присутствовавший при процедуре изъятия ребенка, профессионально безэмоциональным голосом перечислял стандартные формулировки "критический дефицит массы тела", "состояние, угрожающее жизни", "необходимость безотлагательного медицинского вмешательства". Собравшиеся вокруг плачущей женщины соседи выкрикивали в ответ на это такие же традиционные в подобных ситуациях "Совсем озверели!", "Мое тело – мое дело!", "Совесть потеряли!", "Фашисты!", и подбадривая горюющую мать дежурными безосновательными уверениями в том, что все будет хорошо, и что управа на этих зарвавшихся иродов-эскулапов рано или поздно обязательно сыщется.
Измученная бессонницей, она пыталась расслабиться и прекратить поток мыслей, чтобы уснуть и дать себе восстановиться во сне. Но, как назло, именно тогда, когда нездоровый организм – а в такие ночи пуще прежнего начинал болеть желудок – особенно нуждался в отдыхе, расслабиться как раз не получалось. Всю ночь ее сон был поверхностным, ломким и настолько несущественным, что почти не отличался от бодрствования. Даже проваливаясь в осколочную полудрему, переутомленный мозг не прекращал своей лихорадочной работы, пытаясь упорядочить происшествия и переживания, проглоченные непрожеванными кусками, и, просыпаясь, она всякий раз обнаруживала себя зафиксированной на той мысли, которую обдумывала за секунду до недозасыпания.
"Ты даже в доме не убираешь. У тебя в твоих бутафорских кастрюльках на плите паутина", – прозвучал в голове голос ее нового знакомого, с которым она мысленно спорила всю ночь.
Ерунда, мелочь, но почему-то зацепило. Парадоксально, но обширные травмы доставляют меньше страданий, чем вот такие мелкие саднящие царапки. Серьезные увечья заставляют тебя смириться с ограниченностью твоих возможностей, ты стараешься не делать резких движений, чтобы не потревожить поврежденные места, и они почти не дают о себе знать. В то время как маленькие ранки оставляют ощущение здоровья. Беспечно и активно – как здоровый – занимаясь повседневными делами, ты снова и снова нечаянно задеваешь раненые поверхности, и боль становится пусть не сильной, но практически неутихающей.
Ее новый знакомый. Неожиданный недруг-друг. Противник-соучастник. Пришедший как бы с миром представитель враждебного лагеря. О котором она думала все чаще – хотя кого она обманывает? – она думала о нем почти – ладно-ладно, без почти – она думала о нем постоянно. И со все нарастающей увлеченностью этим мыслительным процессом.
Она обиделась на него, хотя то, что он говорил, было правдой: в кастрюлях действительно паутина. Просто это было нарушением негласных правил и договоренностей. Так не делается, люди не поступают так друг с другом, не говорят друг другу таких вещей. Все делают вид, что никто ничего не замечает. Заметил – значит, оказался вынужденным констатировать, что ситуация не такова, какой представлялась – какой ее пытались представить – следовательно, варианты реагирования, подходящие для той ситуации, какой она казалась, не годятся для той, какой она оказалась в действительности. На это придется реагировать как-то по-другому, а для этого понадобится осознать изменения, поменять привычное, машинальное уже поведение, выбросить все заготовленные сценарии собственных ответных действий и начать играть какие-то новые, неотрепетированные роли, – кому и зачем надо так утруждаться? Люди не ставят друг друга – себя самих, прежде всего – в подобное положение: когда становится невозможным продолжать делать вид, что ситуация не требует с ней что-то делать. В конце концов, это же не их дело, не так ли?
В самом начале их знакомства ей очень хотелось – она усиленно силилась – найти или придумать, за что можно было бы невзлюбить этого своего нового приятеля. Человеку, которого недолюбливаешь, проще простить его умение видеть тебя насквозь, потому как в таком случае тебя не должно волновать его мнение о тебе. Но поводов для возникновения антипатии за ослиные упрямые уши никак не притягивалось: молодой человек определенно не преследовал цели унизить или как-то посмеяться над ней. Аккурат наоборот, он был настроен выраженно дружелюбно и доброжелательно. И единственное, что ей не нравилось в нем, – он говорил то, что она не хотела слышать, а у нее не получалось возражать ему так же грамотно, аргументированно, конструктивно и убедительно, как он опровергал все ее постулаты один за другим. В их непрекращающемся противостоянии он раз за разом вел себя намного более достойно и выглядел намного более выигрышно, в то время как она быстро закипала, в качестве контрдоводов эмоционально озвучивала самые замусоленные и банальные клише из всех возможных, экспрессивностью компенсировала недостаток вескости своих доказательств, подтасовывала факты, сгущала краски, выдавала белое за черное, частенько не справлялась со слезами и переходила на личности, за что потом было совсем уж совестно. Одним словом, ей не нравилось в нем то, что она не нравилась ему, а если сформулировать все еще более точно, ей не нравилось в нем то, что она, глядя на себя его глазами, на его фоне не нравилась сама себе.
– А тебе, правда, на самом деле, вот честно-честно, совсем-совсем не хочется? Не хочется вкусной еды, хорошего вина, физической близости с привлекательным партнером? То есть, ты не отказываешь себе, не подавляешь свои желания, не запрещаешь себе изо всех сил все это – тебе на самом деле просто-напросто не хочется? – всплыл из сваленных в кучу в хранилищах памяти фрагментов кусок одного из их многочисленных разговоров-ссор.
– А ты считаешь, что обжираться и нажираться в хлам это такие сильнейшие удовольствия? – огрызнулась она в ответ.
Артур лишь слегка поморщился от этого ее пассажа: она уже и сама – в который раз! – сказала и мгновенно пожалела, страшно стыдясь своей грубости и вульгарности употребленных формулировок, не говоря уже о их несправедливости: трудно было представить сидящего напротив нее стройного интеллигентного молодого мужчину "обжирающимся" и "нажирающимся в хлам".
Видимо, это вырывалось наружу ее подспудное желание выставить его таким и, чем черт не шутит, при помощи примитивной вербальной магии как бы сделать его таким хоть немного на самом деле, чтобы чуть снизить, приглушить его вызывающую, кричащую "хорошесть".
– Я говорю об адекватных порциях вкусной еды и бокале красного вина.
– У всех свои предпочтения. Для кого-то еда и алкоголь – никакое не удовольствие.
– А что тебе нравится? – в голосе Артура не ощущалось ни малейшей агрессии, только чистое любопытство. – Что ты любишь? По-настоящему, сильно, так, чтобы не было никаких сил отказать себе в этом? Читать? – молодой человек огляделся по сторонам.
До этого момента сидевший в позе всадника на стуле, перевернутом спинкой вперед, он встал и, подойдя к полупустому книжному стеллажу, наугад взял в руки первый попавшийся том – сборник рецептов сыроедских блюд.
– Кино? Вышивать? Вязать? Цветы? – продолжал перечислять он, между делом пролистывая книгу у себя в руках.
В ее квартире не было ни одного горшка с цветком.
– Домашних животных? Ты же работаешь в приюте для бездомных животных. Ты любишь животных?
Она промолчала, не найдя в себе сил соврать, хотя с другими собеседниками для нее это не составляло труда и не вызывало ни малейшей заминки.
Она ненавидела животных. Вонючих, облезлых, блохастых, запаршивевших уродцев в струпьях, среди которых некоторые были явно не жильцы, но на которых тратились время и деньги, много времени и денег, и абсолютно впустую: даже если подобранный волонтерами на улице бродячий доходяга и выживал, то через какое-то время всеми правдами и неправдами рвался сбежать на волю, генетически неприспособленный сосуществовать с хозяином, к которому его с такими нечеловеческими усилиями удавалось пристроить.
– Спорт? Велосипед? Плавание? Йога? Ты ведь занимаешься йогой? Йога тебе нравится? – продолжал свой допрос ее дотошный въедливый собеседник, выуживая на книжной полке очередной талмуд, которым на этот раз оказался труд одного мегапопулярного эзотерика, и за наличие которого в своей худосочной библиотеке ей вдруг почему-то сделалось перед Артуром ужасно неловко: даже она со всей ее верноподданнической ученической снисходительностью к отцам-основоположникам не могла не понимать, что труд был тем еще бредом сумасшедшего.
Она подскочила с кровати, быстро подошла к молодому человеку и, забрав у него позорную книжку, засунула ту обратно поглубже на полку.
Обычно вопросы Артура носили риторический характер и ответов на них он, как правило, не требовал, но во время того блица делал паузы после каждого своего выдвинутого предположения и пристально, изучающе смотрел на нее, чуть прищурившись в ожидании, что она скажет.
Даже сейчас от одних воспоминаний об этих умных красивых прищуренных глазах она испытала глухое черное раздражение, но если раньше она злилась на их обладателя, то сейчас ее недовольство стало каким-то безадресным: это было ощущение общей безысходности, гнетущей тоски и обиды непонятно на кого и за что.
Любит ли она йогу? Хотя она и сказала тогда, что, конечно же да, это было не так. Она не любит йогу. Она терпеть не может йогу. Это чудовищно больно, сложно, и отчаянно не хватает воздуха и сил. Сил. Особенно не хватает сил. Положа руку на сердце, для нее йога – сущее мучение.
Хочется ли ей близости с привлекательным партнером? А вот отвечая "нет" на этот вопрос, врать ей не пришлось.
Безусловно, некое смутное, аморфно-абстрактное томление по прекрасному принцу ей было знакомо – когда-то. Очень-очень давно. Но – когда это случилось первый раз? – жизнь неотвратимо снова и снова обнаруживала свое удручающее несоответствие идеалам, что ты нарисовал себе в своем не поражающем воображение воображении.
Сознание с садомазохистской услужливостью подсветило завалявшуюся на задворках памяти сцену первого школьного свидания.
Ее юный семнадцатилетний кавалер, нервничая и тушуясь, но отважно борясь со смущением, строил из себя бравого бывалого героя-любовника и нес всякую чушь. Было скучно и неловко за него, от фальшивых улыбок в ответ на каждую несмешную шутку, что изливались из него, как из прорванной трубы, сводило лицевые мышцы и дергался уголок уставших от напряжения губ.
У пылкого юноши была жирная кожа, особенно лоб и зона носогубного треугольника, и когда она шутя потрепала его за нос, ее пальцы соскользнули с его крыльев, отчего ее просто передернуло от отвращения. Спрятав руку в карман, она с гадливостью терла, терла пальцы о ткань, но рецепторы подушечек никак не покидало ощущение маслянистости. От мысли о предстоящем: к этому все шло – поцелуе тягостно сосало под ложечкой.
Запах чужой кожи. Запах нервного пота. Запах чужого несвежего дыхания. Густая и липкая от вынужденного дыхания ртом за время долгой болтовни чужая слюна на твоих губах. Скрежетнувшие по твоим зубам от неумелого движения чужие зубы. Смешные хлюпающие, причмокивающие, всхрапывающие звуки.
Омерзение. Вот то чувство, которое вызывали у нее мужчины. Их носовые платки, их носки, их нижнее белье – все вызывало рвотный рефлекс. Женщины, впрочем, вызывали те же чувства. И старики. И дети. Сальные волосы. Залысины. Перхоть. Гной в уголках глаз. Мешки под глазами. Прожилки на рыхлом носу с кратерами расширенных пор. Жесткие волоски из ноздрей. Пена в уголках губ. Плохие зубы. Брыли. Морщины. Папилломы. Прыщи. Небритые подмышки. Пятна пота на рубашке. Влажные ладони. Грязь под ногтями. Дряблая кожа. Немытые ноги. Каскад жировых складок на шее и животе. Жуткие гроздья варикоза на икрах. Поношенная мятая одежда и стоптанная заскорузлая обувь. Более того, такие же чувства вызывало собственное тело со всеми его железами и секретами этих желез. Нестерпимое, непереносимое, сводящее с ума омерзение.
Постепенно это чувство стало тотальным. Брезгливость вызывали животные. Покрытый паутиной и свалявшейся пылью бурьян на некошеных городских газонах. Студенистая вода в каналах со сгустками тошнотворной слизи. Воронки песчаных смерчей на улицах. Гниль на овощах. Еда. Невозможно было есть, когда ты знаешь, что за окном твоего дома – равномерным слоем размазанные по булыжным мостовым собачьи экскременты и переполненные зловонные мусорные контейнеры.
Содрогание вызывал сам вид еды. Засохшая на тарелке мякоть помидора с семечками. Горчичного цвета соусы той самой, напрашивающейся на единственное сравнение, консистенции. Склизкие грибы. Разложившиеся перетушенные овощи.
Тошнило от сладости шоколада и кислоты фруктов. От горечи орехов и пресности воды. От солоноватости сыра и остроты пряностей.
Подавляет ли она свои желания? О нет, потому что единственное ее истинное желание – расположиться на коленях над унитазом и обеспечить своему организму возможность исторгнуть из себя все съеденное, все увиденное и услышанное, все почувствованное за день, и это желание она не подавляет никогда. Поэтому, ожесточенно поджав губы и с вызовом глядя на Артура, она действительно не врала, с мстительным наслаждением отрицательно качая головой в ответ на его вопрос о том, хочется ли ей близости с привлекательным партнером.
Но на следующий день, с инфантильным капризным упрямством запрещая себе ощущать радостное нетерпение, перед его приходом в доме она убрала. И потом тщательно протирала пыль и мыла полы каждый раз, когда Артур должен был прийти к ней. И, что было совсем уж неслыханно, – красила ресницы.
С желанием близости с привлекательным партнером, как оказалось, все обстояло далеко не так однозначно. С привлекательными партнерами до их знакомства в ее поле зрения было негусто.
2
Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt
Стараясь избежать одних пороков, дураки впадают в противоположные
Артур курил у открытого окна. Работникам медицинской организации, занимающейся миссией такой первостепенной важности, как увеличение неумолимо сокращающейся численности населения страны, курить, само собой, строго-настрого запрещалось. Но за темным мужским силуэтом на фоне окна виднелось только старое пустующее здание с давно заколоченными ставнями и затопленным тухлой водой подъездом, так что нежелательного внимания можно было не опасаться.
И хотя Артур, по сути, практически прямым текстом распекал ее за то, что она ничем не интересна и не примечательна: а как иначе истолковать все эти его вопросы? – она почему-то не чувствовала себя задетой и смешанной с грязью. Более того, в глубине души она получала неподдельное удовольствие от вида так редко встречающегося в жизни бесстрашия называть вещи своими именами, которое ей всегда нравилось в людях. Большинство людей стараются не раздражать окружающих почем зря своим с ними несогласием, а уж тем паче выражением своей несимпатии к их мировоззрению, приоритетам и ценностям: ссоры и споры – занятие энергозатратное, вид расстроенного тобой человека порождает чувство жалости и вины, так же оппозиция может быть чревата серьезными последствиями для физического и психического здоровья и самого оппозиционера, – кому и зачем это надо?
Артур же ее обидам и перманентному недовольству им значения не придавал. Не потому что наплевательски относился к чужим, ее в частности, чувствам: в чем-чем, а в отсутствии эмпатии и бестактности ей не удалось бы обвинить его даже в моменты своих самых бурных сессий по его демонизации. Просто Артур точно знал, что не делает никому ровным счетом ничего плохого, и то обстоятельство, что кто-то вдруг по каким-то причинам решал считать его врагом народа, его собственной оценки самого себя и мотивов своих поступков не меняло, и модификатором его поведения не становилось. Иначе говоря, молодой человек обладал феноменальной супер-способностью не вестись на манипуляции и эмоциональный шантаж. Не юля и не задыхаясь от страха конфликта, он констатировал факты, ревностно замалчиваемые остальными, но отнюдь не становящиеся неприкосновенной священной коровой только лишь из-за того, что у других трясутся поджилки касаться некоторых тем, и им психологически комфортнее прятать голову в песок, зарываясь в него едва ли не по пояс.
– Почему ты считаешь свое истощение своим великим достижением?
– У меня нет истощения.
– Ведь для того, чтобы не есть, ничего не нужно. Не нужно иметь никаких умений, способностей и талантов. Впечатляющую силу воли, разве что…
– У меня нет истощения.
– Впрочем, сила воли, сдается мне, тут тоже ни при чем.
– У меня нет истощения.
В первые дни знакомства они разговаривали, не слушая друг друга: оба декламировали максимы, уже давным-давно выветрившиеся, выхолощенные и утратившие свою взрывоопасность, которые она и вовсе пропускала бы мимо ушей, если бы Артур не употреблял это страшненькое словечко с такой настораживающей регулярностью.
– А что ты считаешь своим великим достижением?
– Ну, невеликим, но… например, я подобрал на улице трех бездомных котят, сейчас они живут у меня дома. Я пишу рецензии на фильмы для одного сайта, небезынтересные и, как мне кажется, небесполезные для тех, кто любит кино. Я много читаю. Я могу сесть на шпагат, могу сделать стойку на руках, умею делать сальто: я занимаюсь акробатикой на батуте.
– Ты занимаешься спортом и куришь?
– Иногда. Мне почему-то ужасно хочется курить, когда я с тобой.
– Просто тебе нравится злить и провоцировать меня.
– Тебя злит, что я курю?
– Нет. Мне нравится смотреть, как ты куришь. Меня злит, что ты… не прячешься. Меня злит, что ты не боишься.
– Почему тебя это злит?
– Потому что все боятся и прячутся. Я боюсь и прячусь.
– Чего ты боишься?
– Я боюсь, что обо мне плохо подумают.
– Что будет, если о тебе подумают плохо?
– Меня не будут любить.
– Ты думаешь, что, когда ты боишься и прячешься, тебя любят?
– По крайней мере, не ненавидят.
– Меня ты тоже боишься?
– Тебя нет.
– Почему ты не боишься меня?
– Ты… не можешь сделать никому ничего плохого. Ты хороший, – улыбнулась она.
– А другие? Что они могут сделать плохого? – несмотря на утрированную примитивность формулировок, Артур относился к ее ответам со всей серьезностью.
– Их… много.
– И что?
– А почему я вызываю у тебя желание курить? – ушла она от ответа. – Это я злю тебя?
Артур какое-то время молча смотрел на нее, обдумывая ее вопрос.
– Меня уже давно ничего не злит. Но ты – да, ты почему-то злишь.
– Почему?
– Люди всегда искренне верят в то, что поступают правильно. Ты же прекрасно отдаешь себе отчет в абсурдности происходящего. Я пытаюсь понять, почему ты это делаешь и как тебе удается убеждать саму себя в том, что твои действия имеют хоть какие-то смысл и логику.
– Почему ты думаешь, что я не верю в правильность своих взглядов на жизнь?
– Ты слишком умна.
– С чего ты это взял?
– То есть, ты сама так не считаешь? – улыбнулся Артур.
– Мне интересно, по каким признакам ты определяешь это.
– Есть вещи, которые самоочевидны.
– Для многих людей даже тот факт, что вода мокрая, далеко не очевиден.
– Не для меня.
– И что ты хочешь от меня?
– Я хочу завербовать тебя к нам.
– Зачем?
– Скучно, – с обворожительной непосредственностью улыбнулся Артур. – Выпить не с кем. Поговорить не с кем. Заинтересоваться некем. Не в кого влюбиться. А очень хочется.
– Почему я должна соответствовать твоим представлениям о том, в кого можно влюбиться?
– Не моим, – покачал головой Артур, глубоко затягиваясь и медленно выпуская дым. – Своим, – "кинематографичным" жестом он показал на нее сложенными вместе указательным и средним пальцами с зажатой между ними дымящейся сигаретой, уже докуренной почти до фильтра.
– Почему ты так уверен в том, что наши с тобой представления об этом совпадают?
– Мне почему-то так кажется.
– Ты ничего не знаешь обо мне.
– Не нужно быть экстрасенсом, чтобы сделать определенные выводы, исходя из своих наблюдений и личного опыта.
Особую пикантность тому их разговору придавал нюанс, что, философствуя, у окна Артур стоял полностью обнаженным. Он курил, полуприсев на подоконник, и расслабленно вытянув перед собой скрещенные ноги.
Эта картина вызвала в ней привычное обжигающее стеснение, однако, удерживая в памяти воспоминание о гипнотизирующей раскованности молодого человека, она заставила себя побыть такой же дерзкой и смелой, как он, и не отгонять крамольные мысли. В тот день, глядя на Артура в течение всей их неспешной ленивой перепалки, она ни разу не дала себе опустить глаза ниже уровня мужских плеч. Сейчас, лежа в кровати и непроизвольно поджав ноги к груди от щекочущего перевозбуждения в диафрагме, она разрешила своему взгляду скользить по всей площади возникшей перед глазами голограммы.
Темные прямые волосы, длинная челка, темно-карие глаза, уже наметившиеся морщинки в уголках глаз, пучком лучей пробегавшие по его скулам всякий раз, когда он улыбался, и вызывавшие физическое ощущение вспышки света и легкого теплового выброса, красивая шея, широкие плечи, плоский живот, длинные стройные ноги: Артур был невероятно сексуален и хорош собой.
Ее завораживала его уверенность в себе и умение принимать себя целиком таким, какой он есть, не пытаясь невротично-суетливо скрывать свои реальные или надуманные недостатки, и не бравируя своими – действительно имеющимися, высосанными из пальца или вовсе вымышленными – достоинствами, не заискивая и не домогаясь чужого одобрения, но и не принуждая собеседника заискивать и выпрашивать расположения у него самого.
Они познакомились месяца полтора назад.
Как-то утром среди бесплатных газет и рекламных буклетов она обнаружила в своем почтовом ящике очередную повестку. "Уважаемая имярек… Вы состоите на учете в Фонде нерожавших женщин репродуктивного возраста… Вам следует безотлагательно явиться в Клинику сохранения для назначения стационарной или амбулаторной процедуры оплодотворения… В случае неявки вы можете быть подвергнуты принудительной госпитализации…"
Любое принуждение одномоментно рождает сопротивление, сила противодействия всегда равна силе воздействия: задыхаясь от чудовищной ветеринарности происходящего, повестку она выбросила, а вечером к ней в дом постучались. Она открыла дверь. На пороге стояла обычная бригада из четырех человек: двое санитаров, врач и "донор" – сотрудник клиники, задача которого заключалась в том, чтобы осуществлять, стационарно или амбулаторно, означенную "процедуру".
Искусственное оплодотворение было слишком дорогостоящим и трудоемким мероприятием, не говоря уже о том, что оно было гораздо более длительным по времени и куда как менее эффективным. Классический половой акт, то есть, по сути, узаконенное изнасилование при отсутствии у жертвы права и возможности сопротивления, – именно так боролся с катастрофическим падением рождаемости "департамент карательной гинекологии и акушерства", как называли его в народе (настоящее, неудобоваримое название департамента она никогда не могла, да и не ставила себе цели выяснить и запомнить).
– Здравствуйте, меня зовут Алексей Валерьевич, я гинеколог Клиники сохранения, – деловым тоном представился элегантный сухощавый седовласый доктор. – Извиняюсь за вторжение, однако наш сотрудник уже трижды не смог застать вас дома.
Она перепугалась до полусмерти, хотя прекрасно знала, что именно этим и должно было все кончится – чего еще она ждала. Принудительный привод в клинику означал бы, что при этой унизительнейшей процедуре вдобавок ко всему будут присутствовать зрители: санитары и гинеколог.
– Да-да, – залепетала она извиняющимся подобострастным голоском, безуспешно пытаясь создавать видимость самообладания.
Ее лицо горело так, что казалось, еще чуть-чуть, и вспыхнут волосы.
– Простите, просто я, действительно, была немного занята. Но я готова сделать все, что от меня требуется, хоть прямо сейчас! – в ситуации, когда ты основательно приперт к стене, благоразумнее будет усмирить свою гордость, поджать свой жалкий беспомощный хвост и выбрать наименьшее зло.
А наименьшим злом в ее положении было, безусловно, остаться в собственном доме с ее донором наедине, тем более что тот даже при беглом взгляде показался ей если не располагающим, то во всяком случае не отталкивающим, или по крайней мере не таким отталкивающим, как два его высокомерных предшественника, беременности от которых в свое время так и не наступило.
– Алексей Васильевич, не надо в клинику, пожалуйста!
– Валерьевич, – машинально поправил ее пожилой доктор.
– Простите, Андрей Валерьевич, прошу вас! Пожалуйста! Пожалуйста! Можно остаться дома?
– Алексей, – на этот раз ее поправил один из санитаров: сам Алексей Валерьевич, прекрасно понимая, в каком она состоянии, придавать значения ее ошибкам больше не стал.
Некоторое время Алексей Валерьевич молча рассматривал ее своими проницательными глазами сквозь стекла стильных дизайнерских очков. Он был из тех удивительных, буддийски невозмутимых, философски настроенных по отношению к любой творящейся вокруг них фантасмагории медиков, которым уже одним своим видом удается внушить свой здоровый успокоительный то ли сарказм, то ли фатализм, и своим пациентам. Стройный и подтянутый, с пепельно-седыми, но густыми, ничуть не поредевшими волосами, несмотря на свой почтенный возраст, он все еще оставался очень и очень привлекательным: все специалисты отдела были красивыми внешне, словно бы их принимали на работу именно по этому критерию – впрочем, вполне вероятно, что именно так оно и было на самом деле.








