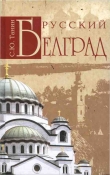Текст книги "«Моя сербская любовь». Рассказы о любви и о войне"
Автор книги: Елена Кибирева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Раффаэлло
Может быть, моя однотонная песня о новой любви покажется старомодной, но этих слов невозможно выкинуть из нашей с сербом жизни, потому что они дают силы, чтобы жить, и крылья, чтобы летать. Их не зачеркнуть писательской ручкой, не стереть школьным ластиком из сознания, не потопить в самом глубоком озере взаимной любви, не залить слезами человеческой радости.
«Раффаэлло, итальянская мечта» – так шутливо назвала моего заморского жениха его землячка – девчушка, проходившая сложный реабилитационный период после трудной ортопедической операции в клинике доктора Илизарова.
Я долго думала, почему именно это имя получил мой грозный дядька с Балканских гор, но каким-то внутренним чутьем понимала, что это рафинированное слово таит в себе некий смысл, который я, кажется, понимала.
Сам он, конечно, очень любил сладкое и мог за один принесет съесть целый карамельный тортик или килограммовую порцию ванильного мороженого.
Еще раньше, во время нашего букетного периода, который, к счастью, затянулся на восемь лет, он вместе с традиционным шампанским (для меня) приносил моим детям забавные конфетки «Раффаэлки». Кокосовые конфеты в белой праздничной коробке, перетянутой красным бантом, были для нас большой сладкой радостью.
Я давно поняла, что он обладает талантом дарить радость. И делает это по какой-то внутренней потребности и всегда с огромным удовольствием.
К своим землякам-сербам, которые находятся на длительном лечении в Илизаровском центре, он приходит всякий раз, когда у него выпадают свободные минутки. Он помогает им осваивать русский язык и общаться с персоналом клиники и по просьбе врачей участвует в сложных ортопедических операциях в качестве переводчика с сербского. Он отзывается на всякую их просьбу о помощи и первый торопится исполнить многочисленные нужды земляков, оказавшихся в чужой стране без поддержки и знания местных обычаев.
Но особенную помощь он оказывает сербским подросткам, попавшим в суровые условия послеоперационной реабилитации, когда болевые синдромы месяцами не дают им покоя и привычного сна. Эти поневоле повзрослевшие дети, сознательно страдающие, вынуждены привыкать к продолжительной, изнуряющей боли, выматывающей их до изнеможения.
Особенно тяжелы эти переживания для девчат, страдающих врожденными дефектами, и для их несчастных родителей, всегда сопровождающих своих чад на длительных этапах лечения.
Болезненный комплекс неполной ценности мучает этих детей с самого детства, ведь они не такие, как их здоровые сверстники, не ведающие никаких проблем. Что ожидает в ближайшем будущем девушек-инвалидов, намаявшихся от нестерпимых болей и познавших настоящее горе? Никто этого не может знать. Они живут в ожидании положительных результатов и в надежде на полное выздоровление. Они искренне мечтают о доброй семье, о детях и о простом человеческом счастье.
В судьбе именно этих страждущих исцеления людей принимает участие Ратко. Он стал для них вестником надежды и радости. Слово «радость» заложено в самом его имени. Будучи сам неоднократно прооперированным и изведав боль, он явился для них примером того, как надо бороться и жить, преодолевая сложные жизненные невзгоды. Он сам – счастливый влюбленный и заражает своим счастьем окружающих. Он несет в себе образ Рафаила, что в переводе означает «исцеление Божие». И дети понимают его и любят как никто другой. Возможно, он явился для них символом светлого благополучия и безоблачного кокосового счастья. Таким видят его дети, потому что внутренне он наполнен доброй надежностью, светлой радостью и нелицемерным сочувствием к людям – всеми теми качествами, которые он стяжал в борьбе за долгие годы выживания. Он – православный серб, которого вера научила жить по заповеди: «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, то не ожесточи сердца твоего, но дай ему взаймы, смотря по его нужде».44
(Втор. 15, 7-8).
[Закрыть]
Он сам светел и невольно тянет к этому свету тех, кто в нем нуждается. Он называет себя счастливым человеком и его счастье притягивает к себе как магнит.
За всю свою нелегкую жизнь он научился быть добрым и отзывчивым на чужую боль, потому что сам прошел через страдания. Он научился любить и быть верным, и не скрывал этих чувств от друзей. Он не утратил редкую в наше время добродетель – сочувствие человеческому горю и помогал, чем мог, каждому, кто просил его: «Помоги…»
Он видел смерть боевых друзей и юного брата и потому знал цену человеческой жизни. Он стоял насмерть, защищая свою землю, дом и церковь, в которой крестился. Война разрушила его семью и забрала мать, не выдержавшую потерь и страданий. Его левую половину насквозь прошил натовский автомат, а над сердцем пожизненно застряла смертельная пуля. Его собственная боль жила в нем, как раковая язва. Он весь изрезан был, зашит и кровоточил.
Но теперь он счастлив и по-доброму любит. И это состояние доброй радости оказалось нужно не только ему, но и тем, с кем он общается, кому помогает и кого нянчит в больничных палатах. Своей любовью он являет надежду тем, кто потерял интерес к радости жизни. Он стал для них примером «исцеления Божиего» – конфетным Рафаэлло, получившим уже свою счастливую, кокосовую долю. Он бережно несет факел, озаряющий не только его путь, но и временную дорогу своих друзей. Своей больной раненой ножкой он верно шагает рядом с ними на их больничном перегоне. Его счастье нужно им как заразительный пример волшебной сладкой сказки. Его счастье нужно мне и моим детям, потому что свет его доброго сердца разгоняет над нами грозовые тучи. Он дает нам силы, чтобы жить, и крылья, чтобы летать. С ним я увидела не только полную жизнь, но и ее прекрасные и нежные полутона.
Где ж ты, дева, – косы русые…
Конечно, он давно мечтал о своей желанной и единственной, чтобы добровольно отдать ей свое сердце и навсегда вверить свою судьбу: отдать всего себя вместе со своим тяжелым прошлым, с неизбывными скорбями и непосильными воспоминаниями, как болото засасывающими в пучину горьких страданий.
Где ж ты, дева – косы русые?
Он так много лет мечтал о ней, своей избраннице, – самой лучшей, самой чистой, той, на которую можно во всем положиться, во всем опереться, обо всем поведать. Той, которую он никогда не хотел бы обидеть. «Я боюсь обидеть ее», – он ловил себя на этих мыслях и точно знал, что та, чьих слез он никогда не хочет видеть, – желанная его женщина.
И она действительно пришла в его жизнь.
Пришла не потому, что так должно было быть по естеству, а потому именно, что он поверил в ее искренность. Он ждал именно ее – голубúцу белую, трепетную и любящую. Зóрю тихую – ласковую, нежную, покорную. Спокойную и никогда не повышающую голоса понапрасну. Жизнерадостную и веселую, уважающую людей и готовую приветить в их доме всех его друзей. Без крикливых нот в голосе, без пошлых жестов и грубых слов, без табачного дыма и пивного перегара. С прыгающими искорками в карих глазах и желанием нравиться только ему одному.
С васильками на окне, с незабудками в косе.
– Да что с тобой, дрýже? – реклú ему разгуляй-товарищи. – Уж не приворожили ли тебя?
– И пусть, – отвечал он с явным удовольствием.
Эх, дрýги! Трудно вам поверить, что есть любовь на белом свете? Но он знал, давно знал, что будет именно с ней – своей зóрей.
– А ты – моя. И это от Бога.
Эти слова он сказал ей много лет назад, не подозревая, что окажется прав. А она не поверила… и только улыбнулась в ответ. «Сколько женщин слышали твои речи?», – подумала она, и ушла в сумерки. А рано утром, ровно через восемь лет, по хрустящему январскому снегу он приехал к ней, именно к ней, из заморского царства, тридевятого государства и, нахлобучив шапку, робко позвал под венец – в ту самую церковь, в которой она много лет назад нашла серебряное безымянное колечко.
Колечко
Это было незадолго до нашего знакомства, но задолго до серьезных отношений.
Конец 90-х.
Заканчивался Великий пост. В храме отслужили Великую Субботу. В сочельник, накануне Пасхи, все мы пребывали в ожидании той Радости, которая, по словам отцов церкви, упраздняет всякую печаль и скорбь.
Плащаница, украшенная букетами из прекрасных белых лилий и роз, стояла под куполом кафедрального собора. Благоухание царского цветка окутывало всех, кто давал распятому Христу свое последнее целование.
В субботу, в половине двенадцатого ночи в храме началось чтение Великого повечерия. Службу возглавлял правящий архиерей. Церковный чтец, стоявший перед плащаницей посреди множества народа, торопился вычитать все молитвы. В двенадцать по полуночи должен был начаться Пасхальный крестный ход.
Все действия по подготовке к крестному ходу происходили спешно, но слаженно. Плащаницу перенесли в алтарь. Пока священство и клир во главе с архиереем готовили хоругви, служащие храма быстро разбирали стол, на котором только что покоилась плащаница, и убирали вазы с цветами, принесенными ко гробу Спасителя.
Вот уже прибраны почти все вазы с розами, осталась одна с белоснежными лилиями, центральная. «Скорее, скорее…» – торопят все вокруг. Я подхватываю и эту. Но что это блеснуло под хрустальной вазой?
Серебряное колечко «Спаси и сохрани».
Откуда? Как оно попало сюда? Я стою посреди храма в полном недоумении.
– Чье это кольцо? – спрашиваю на все стороны. – Чье кольцо?
Ответа нет. И я тоже не знала тогда, что сказать…
Но к Рождеству ответ прилетел сам. Прямо из Белграда. Приземлился в аэропорту любимого города…
Колечко то оказалось мне впору, я надела его на невестин палец и долго думала-гадала, что бы это могло значить в моей небогатой встречами и впечатлениями жизни.

Спас Нерукотворный в Преображенском на Литейном
В растрепанных чувствах приехала я в Питер – помолиться, поплакать, постенать о своей тревожной женской доле. Любит – не любит? Плюнет? Поцелует? К себе прижмет? Замуж позовет?
Да позвал уже замуж, позвал. Только зачем мне это? Есть ли воля на то Божия? От Него ли этот человек или от лукавого? Обидеть хочет? А может, посмеяться? Что делать? Как найти ответ? Говорит, что я его судьба. Не успел в дом прийти и пельменей маминых поесть, а всем уже рассказал, что будет именно в этом доме жить. И сыну моему купит новые ботиночки.
Как говорят сербы, чего сердце ищет, то и глаз. Упал его глаз на меня, а мой – на него. Семнадцать лет тому назад это было, тогда еще даже раны его от пуль американских не зажили.
«Никогда я не буду твоей», – в лицо смеялась, откровенно говорила, и была уверена, что не хочу проблем с лихим ухажером. Просто никого не хочу. Да и мои семейные язвы еще не зажили. Насыпано в них было соли сто пудов. И вообще, непонятно, что у этих странцев-иностранцев на уме.
– Никто тебя не будет любить сильнее, чем я. Запомни.
Еще и запугивает. Хи-хи!
Мы сидим у придорожного кафе. Верить? Не верить? Вроде бы хочется верить. Но любить мне никого нельзя. А почему, сама не знаю. Может, и можно? Ну ладно, я – невеста. Меня замуж зовут. Копаюсь, роюсь в своих чувствах и вдруг совершенно отчетливо осознаю, что если бы я когда-то и собралась замуж, то только за него, за этого чумного серба. Чем-то он зацепил меня. Чем? Пока еще не знаю. Много его – шумный, неуемный, цепляет взглядом как крючком, все замечает, все слышит, на все имеет оценку, умеет молчать, говорит горячо и думает быстро. Не мужик – кипяток. Даже мысли о нем обжигают. Фигаро сербского происхождения. Кажется, крепким мужиком попахивает.
Неужели ошибаюсь? Вот в таких страстях неуемных и приехала я в стольный Питер. Искать ответов, искать чуда Божия и дерзновения – как бы мне у Самого Господа испросить знак: что делать? Подать руку сербу этому непонятному или погодить?
Медленно бреду по Литейному. Подошла к Преображенскому собору. Душа мятется, ищет ответы. Помолиться бы мне покрепче, вымолить знак какой. Себе не верю, ему не верю. Битая-перебитая по жизни – сама себе представляюсь. Зачем, думаю, мне снова хомутик примерять. Знаю, что замужество – крест не простой. И ответственность перед Богом!
В храме батюшка служит в алтаре и поет вместе с церковным хором. Кажется, соловьи и ангелы поют. Так красиво и слаженно служба выстроена. Душа наполняется необъяснимой благодарностью и замирает перед красотой богослужения. Стою перед алтарем, стараюсь молиться и все прошу дерзко: «Господи, если это мой человек, то соедини. А если не мой, то отведи. Только дай мне понять это. Именно Ты, Господи, дай мне знать, как поступить. Убежать и оттолкнуть? Или принять, как судьбу, как крест».
Служба идет. Батюшка вместе с хором возносит Богу песнопения. А я все повторяю и повторяю одни и те же слова, одну и ту же просьбу, одну и ту же молитву…
И вдруг замечаю, что стою прямо перед необыкновенной черноликой иконой в золотой ризе. Риза украшена многочисленными подношениями – крестиками, иконочками, подвесками из драгоценных камней, жемчугом, золотыми колечками. А с иконы строго и внимательно смотрит на молящихся «Спас Нерукотворный».
Из глубины каких столетий взирает на нас наш Спаситель? С каким упованием Он обращается к нашей бессмертной душе? Чего ждет от нас? Конечно, молитвы и покаяния. Покаяния, а значит, изменения ума. Старинная икона, так поразившая меня, приковала к себе внимание на всю службу. И вот я уже на исповеди. Завтра надо обязательно причаститься. Ночь в тревоге. Чего-то жду. Душа прячется и трепещет от страха – завтра таинство великое.
Наутро снова в Преображенском. Готовлюсь причаститься, и все прошу и прошу ответа на свои немые вопросы и приговариваю: «Ты Сам, Господи, дай мне знак…»
И понимаю, что дерзновенно вопрошаю, но сама принять решение не могу. А ошибиться страшно.
Евхаристический канон – на коленках; так молятся в московском храме «Николы в Пыжах», где служит мой духовник отец Александр, – без единого слова, без тяжелых вздохов, затаив дыхание.
Но сейчас я в Санкт-Петербурге в Преображенском на Литейном. К чаше подхожу с волнением и страхом. Батюшка протягивает лжицу, а на лжице – две Божии частицы… Вот и ответ.

Часть II. О войне
«Я его таким совсем не знаю…»

Какое ароматное и сочное мясо на вертелé, запеченное по-балкански! Кто хоть раз попробовал эту мужскую еду, не сравнит её ни с каким другим блюдом.
В первый же наш вечер в январе 2007 года, когда Ратко только приехал из Белграда, за званым ужином собрались наши близкие друзья: соседи, сербы, лечившиеся в клинике Илизарова, и врачи. Он приготовил это невиданное заморское блюдо и выложил ароматным, душистым мясом весь стол. И все гости кричали нам «Горько…», хотя о помолвке никто еще не объявлял. Как уютно было всем нам за этой братской трапезой, согретой теплом любящего хозяина. Как в родительском доме.
Эх, вертелó ты, вертелó!
Закрутило мою судьбинушку, завертело. Что выкрутишь? То ли радость? То ли грусть накликаешь? А вдруг раскрою свое сердце, а ты откатишься? Все равно возьму тебя в руки. И уже не вырвешься. Видать, на веку моем эта круговерть записана! А ниточка твоя, вертело, в моих руках, кажется. Да и твоя, Ратко!
Я долго пыталась понять, что происходило в его душе, сердце и в голове, когда он вернулся с войны. Что искал он на чужбине, почему несколько раз уезжал в Сербию из России и снова упорно возвращался. Почему так долго метался по чужим домам, что выискивал, кого ожидал, какую судьбинушку чуял.
Война разорвала сербские семьи на части. Все разрушила, все разметала. Вот и родной домашний очаг родительский погас в одночасье, когда сербские политики сдали его родной город после Дейтонских соглашений. Он и сейчас часто вздыхает: «Зачем воевали? Зачем столько жизней молодых сгубили?». Многие офицеры тогда ордена и медали с груди срывали. Не понимали, почему их заставили отступить и родные земли предать. Почему отдали штабные генералы их, сербов, родные дома, города и земли?
«Все сделала война!»
Все разрушила. Все испоганила. Жизнь перевернула.
И не находил он себе покоя ни после войны, ни после смертельного ранения, ни в клинике русской, ни в Боснии израненной. Душа металась и просилась в родной Ключ. Но город был уже чужим.
Пока жив был еще отец, он нет-нет да вырвется из России в объятия отчие. Но и отец ушел, вслед за сыном младшим и за женой. Упокоился.
Что теперь? Куда податься? В какую сторону пойти? И с кем делить судьбу?
Но, кажется, его в России ждут. «Поеду…»
Так однажды он решился и приехал в Россию навсегда. Навстречу матушке-судьбе и неизвестности.
Ему был почти сороковник. Но дни рождения он давно не праздновал. О них почти забыл. И не любил.
Но душа, его и моя, просили праздника.
Его юбилей мы отпраздновали шумно, в кафе с щемящим названием «Ностальжи».
Главное блюдо оговорено заранее. Жареная на костре свининка! Эту свинью, выражаясь фигурально, Ратко подложил под своих гостей к их большому удовольствию.
Пока я суетилась и переживала, какие заказать блюда на праздничный стол, чтобы все были сыты и довольны, он полдня жарил на костре поросенка на 40 кг весом и приговаривал: «Не волнуйся, всех накормим».
И действительно, все салаты и жюльены заморские померкли против фирменного балканского блюда!
На праздник пришли все приглашенные. Никто не пропустил. Даже не всем, кажется, мест хватило. Сидели и вдоль столов, и поперек, и по всем четырем углам.
Свинья, зажаренная на вертеле на лесных углях, с ароматом дымка, произвела настоящий фурор в городском кафе. Гости ели от души, с удовольствием, то и дело фотографируясь с кусками румяной поросятины на тарелках, а мы только смеялись и предлагали: «Угощайтесь, гости дорогие…»
Официанты еще на кухне молниеносно разобрали «на пробу» сочные обрезки и свиные косточки, не попавшие на общий стол, так что и следа от аппетитной свиной туши не осталось. Разговоров и восторгов среди поваров было на несколько недель. В меню, конечно, такое блюдо заморское было не предусмотрено. А ведь рецепт самый простой – свинья да соль, да деревянный кол. Костер лесной да азарт лихой. Балканская кухня, и все тут!
Ратко многим казался разбитным и совершенно неуемным. Любил всех и его все любили. «Сердцеед» – про таких, как он, говорят. Да, многие, кто его знал, считали, что никогда он не прибьется к тихой гавани. Он и любой берег – несовместимы… Но никто не видел, как в этот вечер он нежно, но крепко сжимал мою руку и тихо шептал: «Не волнуйся ничего. Все будет хорошо».
Гости веселились и отплясывали, как на свадьбе.
Они никогда еще не видели такой хлебосольной сербской трапезы. А Ратко заказывал одну за другой русские песни у оркестрантов и посвящал их мне и своему необъяснимому самому себе чувству. Он не думал, что сердце его так неожиданно раскиснет, и не ожидал, что кто-то разместится в его душе по-свойски. Но он сам этого хотел. И только его старый друг, доктор из русской клиники, где Ратко лечился много лет, смотрел на все происходящее «знающими», как казалось ему, глазами, прокручивал в голове какие-то старые кадры своего фильма и часто вздыхал, поднимая тосты:
– За Ратко и Елену!
А в конце вечера доктор крепко обнял нас обоих и без лукавства, глядя мне прямо в глаза, сказал:
– Я его таким совсем не знаю…
«Рэмбо»
Подробности о войне, которую пережил Ратко, он никогда не мусолил и большей частью умалчивал. И лишь однажды, когда он вернулся в Россию, чтобы остаться уже здесь навсегда, и когда к нам в гости пришел военный писатель, воевавший в составе русского СОБРа в Чечне, они вдвоем под крепкие мужские тосты напомнили друг другу некоторые страшные эпизоды балканской войны.
Эти рваные клочки воспоминаний потрясли и меня.
Позывной «Рэмбо» Ратко дали в тот момент войны, когда в составе «первого эшелона» он заходил в заминированные районы, выполняя приказы командиров. Так выпало на его горькую долю освобождать и город, в котором он когда-то жил. Здесь стояла еще церковь, в которой его крестили, школа, в которой он учился, и дом, в котором жили его родители и прадеды. Отсюда он ушел защищать свою землю и очаг, отсюда ушел на войну его семнадцатилетний брат и живым в отчий дом уже не вернулся.
Горькая ракúя (сливовúца) стопка за стопкой развязывала языки матерых войников сербской и чеченской недавних войн.
– В этом году, девятого мая, я был на родине в Боснии, – говорил с горечью Ратко. – День Победы там празднуют, как и в России.
– Давай снимем фильм о сербской войне, – предложил русский писатель.
– Я могу многое рассказать…
– Нужны видеоматериалы того времени.
– Попробую добыть. Но смотреть это будет очень страшно, – войник Ратко ненадолго задумался и вдруг из его глаз потекла горючая…
Сербская самогонка сделала свое дело, жгучие и тягостные воспоминания войны вырвались из-за колючей проволоки его мозга и вытеснили собой хрупкий мир внутреннего самосознания, язык сорвался с привязи и понесся описывать картину за картиной страшных, жутких, нечеловеческих страданий, выпавших на долю несчастных сербов.
Он рассказывал, а я видела обезумевшие глаза сербской женщины, которую силой удерживали, чтобы она до конца, не отворачивая головы, видела, как ее годовалого ребенка пожирает голодный лев за решеткой городского зоопарка.
Он говорил, нервно сглатывая слюну, а я словно вместе с солдатами – освободителями сербских деревушек, которые побывали под геноцидом, стояла у печи, из которой на поддоне вытаскивали зажаренных сербских младенцев. Зверство? Нет! Людоедство и сатанизм!
Он видел, как натовские бомбы и гранаты разрывали тела его боевых друзей, так что узнать, кто есть кто, и похоронить останки их тел, которые собирали частями с ветвей деревьев, было невозможно.
Помнят сербские солдаты и то, как разрывали пополам тела их боевых товарищей скрипучие трактора, превратившиеся в дъявольские колесницы. С сатанинской жестокостью привязывали непокорных сербов за разные ноги к адским машинам и тащили в противоположные стороны. Трактора двигались очень медленно, натягивая в тетиву капроновые канаты, впившиеся в ноги страдальцев. Наемники с повадками усташей (давних врагов православных сербов) по-звериному наслаждались картиной нечеловеческих страданий, упиваясь криками несчастных, плоть которых медленно, с изощренной жестокостью разрывали на части. Вóроги прислушивались к каждому их стону, к каждому скрежету их зубов, к каждому звуку разорванной мышцы, к каждому хрусту костей. Они ликовали на своем шакальем пиру и это был не звериный, а сатанинский оскал.
Эти сумасшедшие сцены видел Ратко воочую, на его глазах тракторами разорвали тело его близкого друга. А ведь шел боец на побывку в родное село, но не на ту тропинку ступил и попал в руки врагов, вот и принял мученическую смерть. Так всё исторически перемешано на Балканах – на одном метре село сербов, на другом село их ненавистников, поднеси только спичку – и вспыхнет дикая, неуемная вражда.
Как можно было, увидев хотя малую часть этих зверских пыток, сохранить нормальной психику даже самым бывалым, матёрым солдатам? Как можно было удержать их от безумия отмщения – страшной, оборотной стороны гражданской войны? Не каждый выдерживал ад междоусобной бойни, люди умирали не только от пуль и снарядов, но часто от нервных срывов, психического истощания и от разрыва человеческих сердец.
* * *
Зловонным, черным пеплом накрыли Сербию натовские стервятники, по частям рвали ее тело. Где ты, Белый Ангел – Хранитель Сербии? Куда, в какие небесные обители ты уносишь души страдальцев, отдавших свои замученные жизни за вековую «косовскую правду»?
У Сербии забирали лучших ее сыновей, на долю которых выпали нечеловеческие испытания. Лютый враг Божий – сам Денница – вышел из подземного смрада, чтобы противосстать голубице Сербии. Его демонической ненавистью ко всему Божиему были одержимы черные бородатые наемники – убийцы славянского народа.
Все смешалось в этой войне. Многие сербы не понимали, кто, за что и против кого воюет. Города и села, с преимущественно сербским населением, они отвоевывали тяжелыми усилиями и большой кровью. А оставляли по приказу за несколько дней. Но главной целью врага, по мнению большинства сербов, было одно – истребить как можно больше потомков князя Лазаря.
Сербы всегда воевали с разорителями их исконных земель, защищая, но не нападая, но эта война была особенной. Черноликие бородатые рекруты с топорами и мачете под своими черными знаменами наводнили Боснийские горы. Они пришли с Востока и Азии под прикрытием натовской авиации. Они явились вместе со своими духовными лидерами, чтобы установить на Балканах свой закон и сломить хребет сербской нации. Они отрубали мачете головы служителям церквей, цинично позируя при этом перед камерами. Они вырезали сербский народ целыми деревнями, не жалея ни жен, ни младенцев. Они снимали фильмы о своих зверствах и выкладывали их в интернет. Все эти злодеяния видели солдаты боснийского сербского войска воочую, и трудно было остановить этих ребят, когда они жгли чужие дома с гробами, в которых прятались вражеские снайперы, и трудно было удержать их, когда они убивали вражеский скот – весь, до последней кошки. Ведь было немало случаев, когда обезумевших от атаки бойцов останавливали своими же танками, окружая их в кольцо и направляя пушки, чтобы отрезвить буйные головы, «парализованные» бесчеловечностью врага. Таково страшное лицо гражданской войны: если не ты поразишь восставшего соседа, то сосед истребит твой род.
– Я не чувствую себя виноватым… – говорил войник Ратко. – Я не убивал женщин и детей. Воевал только против мужчин с оружием. И только пулей. Я защищал.
Защищал, убивая врага с одного выстрела. А они не просто убивали, а мучили, пытали и издевались над сербами с дьявольским наслаждением, ликуя над тем, что уничтожают ненавистный им народ. Убивали десятками, сотнями, тысячами – стариков и старух вместе с женщинами и детьми.
Сербофобия – понятие, которое вошло в исторические словари мира и давно используется политиканами для описания чувства ненависти к сербскому народу, его языку и вере, и как оправдание уничтожения сербов.
Хорошо знают сербы свою историю и помнят, как в Великую Отечественную войну приспешник нацистской Германии Петр Брзица, «кровавый усташ», казнил за одну ночь 1360 пленных сербов. Так что еще до начала последней войны сербские кладбища и старые могилы хватали за ноги живых людей, так много сербов было уничтожено и неизвестно, где погребено, в Великую Отечественную. Ратко об этом помнил остро, как будто всегда с топором в спине ходил, и, когда говорили о войне, напоминал каждый раз, как массово и жестоко убивали сербов их вóроги.
* * *
Он мог одним взмахом кулака свалить любого – ударом правой в подбородок снизу. Еще подростком ему не было равных в уличных разборках.
Все потасовки – его, а «стрéлки» – как же без него?
Кулаки всегда в цене. В ресторанной драке в родном городе, который пришлось оставить после заключения Дейтонских соглашений, он мог поднять своего обидчика вместе со стулом и с одного маху вынести его через оконное стекло. И врукопашную сходился в окопе с чернокожим натовцем насмерть. И понятно, кто остался из них живым.
«Мои предки хорошо воевали еще на Косовом поле и побили так много противника, что наша фамилия была преследуема среди врагов на протяжении нескольких веков, так что в годы гонений на сербов, чтобы сохранить наш род, многие отказывались от самой фамилии».
Как вы думаете, кто мне это рассказал?
Его силы-силушки боялись даже свои. Но эту удаль молодецкую, свое недюжинное здоровье он отдал войне, защищая сербов от геноцида и надругательств.
Много лет он рыскал по горам в траурной черной повязке на лбу – символ всегдашней скорби по утерянным друзьям. И не случайно боевые товарищи звали его Рэмбо. К тому же, он до сих пор жуткий красавчик, этот сербский боец.