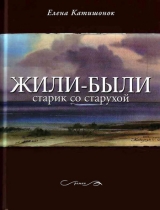
Текст книги "Жили-были старик со старухой"
Автор книги: Елена Катишонок
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
«Уже скоро, – пообещал доктор на обходе, – вот только профессору вас покажем». Это еще на кой, громко не сказал старик, а потом махнул рукой и попробовал себе вообразить встречу с профессором. Такой, наверно, гладкий, хорошо одетый, в золотых очках, и говорит длинно. Знал он только одного профессора-немца, для которого в мирное время делал гостиный гарнитур, тот, вишневый… С тем и задремал. Проснулся от плеска воды: в этот раз пол мыла другая санитарка, помоложе; она небрежно шлепала на пол мокрую мешковину, кое-как обертывала швабру и гнала воду по всему полу. Тоска, тоска. Домой.
После обеда небо скуксилось, закрапал дождик, и вместо того, чтобы сидеть под каштаном и грезить о рыбалке, пришлось остаться в кровати. Из окна сильно пахло зеленью, и жалко было его закрывать, хоть и дождь.
Вдруг все разговоры стихли, и в палату вошла группа докторов. Профессора среди них не было, и Максимыч опять прикрыл глаза. Его назвали по фамилии, сконфузив всеобщим вниманием, и столпились вокруг кровати. Всем заправлял утренний доктор: быстро говорил, сбиваясь с русского на непонятный, и закончил совсем уж странно: «Вот история, профессор».
Вперед вышел маленький и худой, словно школьник, но лысый человек, с очень любопытными выпуклыми глазами, в простых железных – не золотых – очках. Он ловко откинул полу халата, сел, протянул Максимычу руку и представился, будто разгрыз орешек. Потом ласково попросил: «Покажите язык» и проделал над стариком все, что делали другие доктора, только медленно и с удовольствием, подробно объясняя каждое движение. Все ответы Максимыча выслушивал, не сводя с него круглых живых глаз – ну чисто ребенок; остальные уважительно слушали. Он округло картавил, и старик сразу подумал о сыновьях, хотя они совсем не походили на профессора. Закончил, полуобернувшись: «У кого есть вопросы, прошу?..» Как раз, подумал старик, и попросил, вдохнув: «Мне домой-то скоро ли?», отчего сразу повисла неловкая пауза, прерванная веселым смехом профессора: «А как же, дома-то и стены лечат. Да хоть завтра!»
Попробуй усни, если завтра и впрямь позволили домой. Дождь перестал, в окно было видно звездное небо, совсем особенное в августе. Бог с ним, со сном, теперь уж – дома. Каштаны за окном шелестели, словно нашептывали что-то веселое. Не спали еще двое на соседних кроватях, тоже перешептывались. Уловив слово «профессор», Максимыч ревниво прислушался: никак, о его профессоре? Один – новенький, совсем молодой, о чем-то спрашивал, другой отвечал. По частому одышливому дыханию старик узнал молчаливого конопатого мужика с грудной жабой.
«…Он в этой больнице еще до войны работал. Да что работал! Он и жил тут: ему квартирку дали, прямо рядом с чердаком. Я почему знаю, что малярничал тут. Да. Ихние две каморки тоже красил. Семейный, а как же. Не-е, он всегда был такой: бывало, идешь со стремянкой, так отбежит и к стенке прижмется – пропустить. Сзади посмотреть – студент вроде, из практикантов. Он мне тогда еще говорил: тяжестей, говорил, вам нельзя, плохо, говорил, дышите, молодой человек. А я ж тогда здоровый был – во!.. Потом уж, на войне, надорвал жилу какую-то в груди. Жаба, говорят… Он тогда профессор не был, нет. А работал знаешь как? Уж на что я спозаранку приходил – я ж не только здесь работал, – а он тут как тут. Мы с ним здоровались уже; я как-то спрашиваю: когда ж вы пришли, доктор? А я, говорит, никуда и не уходил: у меня дежурство ночное. И так через день; как только он тянул?.. Чего?.. А ты считал его деньги? Я видел, как они жили: вся мебель больничная, вот на такой же кровати спал, как ты тут! Стол шатался; так я ему поправил чуть, подкрасил – больно уж обтерханный был. Деньги… На что ему деньги, ему время не было тратить эти деньги!.. Не-е, от больных сроду не брал, это не про него. Вот, помню, ему раз коробку шоколада поднесли, так он эту коробку открыл и велел сестричкам угощаться. Открыл, ну… а там конверт. С чем… С деньгами. Да нет, с теми еще, досоветскими, ясное дело. Ну что – что? Он как забегал: адрес, адрес скорее! На свои деньги извозчика взял и отвез назад и коробку, и деньги; вернулся в самый раз к дежурству… во как!»
Парня Максимыч не слышал, тот лежал дальше. Вдруг рассказчик заговорил громче и с закипающим раздражением: «Не знаю, меня на фронт сразу забрали. Я только жалованье получить забежал. Да не перебивай ты, а то забуду: я ж на войне контуженный был! Ну вот. Он на этом этаже тогда главный был. Так две ночи сидел, с больницы выписывал. Человек сто, наверно, выписал… Как зачем? Чтоб уехать успели! Ты молодой, ты не знаешь, что с ними немцы сделали. Ну, кого успел выписать – больной, здоровый – тот спасся. Или нет, не знаю. Я ж говорю, я на фронт ушел. Полная больница была… да евреев, мать твою! Больница-то еврейская была!..»
Из больницы старика выписали с напутствием доктора придерживаться диеты и не нервничать, на что Максимыч только пожал плечами; а с диетой известно как. Прямо домой не пошел, а заглянул в хозяйственную лавку – или, как теперь говорили, магазин, откуда вышел с жестяным чайником, самым дешевым. Назывался он по-местному трумуль и был похож на обыкновенный рупор, к которому припаяли дно; вместо мундштука полезная вещь была увенчана плохо пригнанной крышкой, из-под которой выпячивался небольшой носик.
Дома никого не было. Старик сполоснул трумуль под краном, наполнил водой и поставил на плиту.
С этого дня он кипятил себе чай сам и за стол садился, не дожидаясь старухи.
Зачем ему понадобился свой чайник, трумуль этот, Бог знает, только для старухи это явилось открытым вызовом. Принять вызов сразу она не была готова и потому держалась насмешливо-выжидательно: какое еще коленце старый хрен выкинет; бровь была наготове. Максимычеву обновку она внимательно изучила и оценила в его отсутствие, прикинув, что для себя одной ставить самовар хлопотно, а главное – скучно; после чего купила в той же лавке трумуль для себя. Такой же. Это создавало известное неудобство, ибо теперь каждое утро она ревниво сравнивала двух жестяных близнецов, чтобы – упаси Бог! – не спутать.
Сказавши «а», говори «б»: стали покупать харчи отдельно друг от друга. Быстро выяснилось, что это не только неудобно, но и дорого: суп, кипящий в котелке для одного едока, стоит столько же, сколько суп для двоих, но как остановиться? Невестка с самого начала стряпала отдельно; Ира ничего, кроме пшенной или грубой овсяной каши, не варила – не было ни времени, ни сил, а Тайка или ела всухомятку, или делила с матерью кашу, хоть и надоевшую, да иногда с маслом.
Теперь, когда мамынька считала деньги, ее лицо становилось еще более строгим, да и хлопот у нее прибавилось – не только деньги считала. Приходя домой из лавки, выволакивала из-под кровати тяжелые весы, клала на чашку сверток в корявой бумаге и тщательно взвешивала, колдуя ярко-золотистыми латунными гирьками, похожими на хоровод матрешек. Брови, казалось, повторяли медленные качания утиных носиков, готовых вот-вот встретиться в платоническом железном поцелуе. Хоть ей было неудобно ждать, склонившись к полу тяжелым телом, а все ж какое-то непонятное мимолетное разочарование отражалось на лице, когда носики застывали в равновесии. Другое дело, если пакет оказывался легче. «Опять! – Матрена поворачивала к мужу разгоряченное от праведного гнева лицо, – эта русская, что недавно у них, уже в который раз обвешивает», – сообщала увлеченно, забыв о раздельном хозяйстве.
Забыв? Да, конечно; и забыв совершенно сознательно. Собеседник-то все равно был нужен, куда ж деться; можно и забыть. До следующего раза.
Строго говоря, хозяйство совсем уж раздельным не стало. Как-то само собой разумелось, что хлеб, крупа или картошка делению не подлежали – бери сколько надо. Зато в буфете стояли две бутылки с постным маслом, так же, как и для скоромных дней лежал уже не один шматок сала, а два маленьких, но независимых кусочка. Странным образом оба они таяли намного быстрее, чем некогда один, да и уровень масла в обеих бутылках падал с удручающей скоростью, хотя вроде и не жировали; зато в третьей, невесткиной, бутылке масло скучало долго, будто про него забыли.
Бывало и по-другому. То ли старуха замечала, как часто Максимыч варит картошку в мундире, отчаявшись овладеть искусством чистки, то ли вес мяса соответствовал норме – не врали весы, – а может, она вспоминала о больном его желудке, но только случалось, что мамынька вдруг наливала вторую тарелку и молча ставила на стол.
Старик опять стал рыбачить, всякий раз принося улов, который, слава Богу, на весы не клали. Рыбу чистить он не умел, но ему и не приходилось: по негласному уговору, или, как говорят в математике, по умолчанию этим занималась жена. Если бидон оказывался тяжелым, старик сопровождал добычу скромной фразой: «Вот, на ушицу, что ли», помня свои грезы в больничном парке и скучая по горячему. Мамынька неизменно отвечала: «Дай спокой, сама разберу», снимала твердой рукой крышку, критически вглядывалась в игрушечный водоворот и цедила: «Разве что», даже если уха предстояла знатная.
А на следующий день после ушицы старуха вдруг грубо и властно сволакивала с огня чайник мужа, чтобы водрузить свой, и водяные горошины испуганно разбегались в стороны по раскаленному чугуну, обиженно шипя. Старик топал здоровой ногой, вскрикивал горько: «Тьфу ты, Мать Честная!..» и шел курить.
Так они теперь и жили, а до правнука – или правнучки – им оставалось всего ничего: несколько недель.
10
Вот неделя, другая проходит. Надя поглядывает на Тайкин живот, никакой жакеткой уже не скрываемый, все злорадней, словно там не ребенок дожидается своего таинственного срока, а Бог знает кто. Соседи тоже стали здороваться более оживленно, отчего мамынька свирепела, однако виду не подавала, что она умела делать мастерски, даже бровка не шевелилась. Зато дома, после того, как плотно закрывалась двойная дверь, вид подавала сразу: каленым румянцем вспыхивало лицо, глаза блестели гневно и молодо. Слава Богу, думал старик, что не докопались раньше, съели бы девку.
Не случайно старик думал во множественном числе – мамынька вступила в неожиданный альянс с невесткой, чем повергла его в немое остолбенение. Как-то сразу квартира распалась на два лагеря: один, представленный оскорбленной старухой и польщенно кудахтавшей Надеждой, и другой, куда входили старик, Ира в состоянии полной ошарашенности и обвиняемая Тайка, еле видная из-за круглого, тугого живота.
Впрочем, не совсем так: правильней было бы сказать, что лагеря было не два, а три. Виновница этой семейной гражданской войны ни к какой стороне не примыкала, а жила вроде как сама по себе. Старуху бесило то, что внучка делала все то же и так же, как всегда: ходила по квартире, пила воду, открывала или закрывала окно, причесывалась, держа в закушенных губах приколки, а то еще начинала вдруг напевать свое непонятное: «тач-тач-тач-та» на какой-то разудалый мотив, будто вот-вот пустится в пляс, подкидывая коленкой живот, как мальчишки во дворе мяч. Одним словом, внучка держалась так, будто ничего, ну ровно ничегошеньки не произошло, и виноватой себя не чувствовала ни на вот столечко. Казалось, что вместе с бесполезной жакеткой она отбросила и всякий стыд. В разговорах на кухне участия не принимала, становясь объектом кипящего бабкиного гнева и ехидного шипения Нади: «Ходит, будто три дня не евши», что вызывало одобрительный смешок старухи, причем ни одной из них не приходило в голову, насколько они бывали иногда близки к правде. Как и о чем Тайка говорила с матерью, если такое вообще случалось, ни мамынька, ни Надя не знали, и это мешало выработать правильную стратегию. У Иры ничего вызнать было невозможно, и это никого не удивляло: всегда была молчалива, а сейчас, придя с работы и наскоро поев, садилась за швейную машинку и строчила заполночь. Под это веселое «зингер-зингер-зингер» старик и засыпал.
Тоня с мужем были потрясены свалившейся новостью. Устроили семейный совет, на который виновница, впрочем, не явилась. Что-то ненужное говорилось, до такой степени несвоевременное, что даже если б и раньше было сказано… А что, если б раньше-то? Ведь аборты все равно запрещены?.. Да, но можно было бы как-то… Поздно. Грех.
Любопытно, кстати, какое слово было произнесено первым: «поздно» или «грех», что доминировало: моральный, то есть вечный, аспект или временной, он же временный? Как для кого. Каждый, наверное, содрогнулся от одного и с облегчением вздохнул, оценив другой, ибо этот другой зачеркивал первый, стирал его, словно резинкой, даже из памяти совещавшихся. И то: разве можно жить в сослагательном наклонении? – да слава Богу, что нельзя.
– Ладно, но жениться-то он может? Посидит – и выйдет, а то как же ребенок сиротой расти будет, – беспокоился Федор Федорович, однако в глубине души немножко лукавил, беспокоясь не только о сироте. Как всякий отец, он был уверен, что его собственные дети-школьники понятия не имеют ни о зачатии, ни о деторождении, и плохо представлял себе, как же им сообщить о беременности двоюродной сестрички. Совершенно беспрецедентный случай, бессмысленно повторял он про себя, что, кстати, было чистой правдой: Бог миловал, такого в семье не случалось никогда.
– Отродясь такого не было, – громко подтвердила мамынька. – От людей стыда не оберешься. Должен жениться, пся крев, должен!..
Максимыч любовно разминал папироску – в кабинете у Феди икон не было и позволялось курить. Размял и, еще не прикуривая, спросил негромко:
– На кой?
Прозвучало это таким абсурдом и так неожиданно, при том что старухин «пся крев» еще плавал в табачном облачке, что все повернулись к старику. В левой руке держа мундштук, он правой ловко ввинтил в него папироску и повторил:
– На кой вам надо, чтоб этот паскудник женился? Свои деньги промотавши, казенные растративши, девку обрюхатил – и махни драла!.. На кой вам надо такого добра? Чтоб, не дай Бог, ваши растратил или… – не договорил: зятя пожалел.
– Так что ж, – прищурилась мамынька, – може, ты сам и нянчить будешь ублюдка?
– А придется, так и буду, – все так же негромко ответил старик, – он мне правнук.
Об этом вот-вот уже грядущем ребенке, нежеланном и ненужном, нечаянном и досадном – так сказать, ребенке некстати, – думали все, или вернее было бы сказать, что всем некстати же о нем думалось, и всем по-разному.
Старик уже видел его: мальца, разумеется. Славный такой улыбчивый парнишечка стоял перед глазами в ситцевой рубашонке, шкодливый, чумазый, как полагается. Можно будет и на рыбалку его брать, покуляется в песке, пока прадед удочку закинет. Какая рыбалка, Мать Честная, сам себя одергивал старик, не переставая улыбаться; дите дитем, ему только сиську у матки сосать, а рыбалка – это ж когда еще…
Думала и мамынька. Кто ж девку с ублюдком замуж возьмет, кому она такая надо? Так и будет у Ирки на шее сидеть. То, что «девка с ублюдком» ее первая и любимая внучка, залюбленная и всеми балованная красавица (впрочем, черновата немного), было особенно обидно, как было обидно и больно за стыд, который она, старуха, должна от людей терпеть.
И опять: какая обида у старухи была главной – за внучку или за себя? Она снова и снова вспоминала, как тащила покорную, оцепеневшую Тайку за руку, боясь почему-то хоть на мгновение ослабить властный захват. По щекам, по щекам сама бы отхлестала стервеца! Теперь, встречая знакомых, она держалась особенно надменно и величественно (чего, строго говоря, вполне хватало и раньше), чтобы только успеть откланяться, не дождавшись нового, усиленного интереса или – упаси Христос! – опасных вопросов. Срам-то какой, Ос-споди, за что ж такое?!
Никто не знал, что думала Ира, которой предстояло стать бабкой в сорок семь лет, но если бы кто видел ее лицо, склонившееся над машинкой, потерявшее за войну милую свою округлость, но светлое и только растерянное немного, увидел бы и улыбку, – и резвое «зингер-зингер-зингер» бежало навстречу этой улыбке. Несколько раз она даже начинала что-то петь, чего никто давно уж не слышал, а потом обрывала внезапно и вытирала лицо краем белой ткани: теплый был сентябрь.
Между этими двумя помещениями – Ириной комнатой и кухней, где старуха, сидя на кровати, заплетала на ночь жидкие белые косицы, – а вернее, между этими двумя полюсами, – думала и Надя, только не о ребенке, а о жилплощади, которую он будет скоро занимать, а значит, тоже о ребенке.
А что думала сама Таечка, выяснить не удалось: Ира отвела ее, тихо поскуливающую не столько от боли, сколько от неизвестности, в больницу, по привычке называемую еврейской, но официально числящуюся Третьей городской, и теперь она смотрела из окна родильного отделения на деревья. В кронах показались желтые пряди, а внизу, в траве, уютно лежали каштаны. Кожура кое-где лопнула, и прорезалась блестящая головка ядра.
О Тайке волновалась одна Ира. Старуха, родившая дома всех семерых, только снисходительно посмеивалась: ишь, моду какую взяли нынешние, а Максимыч не тревожился о внучке, поскольку озабочен был совсем другим.
В этот раз он отправился рыбачить вместе с Федей. Зять ох как любил посидеть над поплавком – для этой цели у него в чулане толпилась веселая стайка удочек, – но позволить себе такое мог очень редко. Интересно, о чем старик собирается с ним говорить, даже сына брать отсоветовал. Опять о крестнице? Семен колобродит? Или с Надеждой не поладили?
Феденька, человек самой гуманной профессии и сугубо гражданский, все свои выстрелы уложил в «молоко». Он был так ошеломлен просьбой тестя, что дергающийся поплавок заметил поздно и теперь копался в банке с червяками, выигрывая время для ответа. Максимыч подробно рассказал обо всем, что услышал ночью в больнице.
Наживку-то зять нацепил, но удочку не забрасывал, и червяк то замирал, то напрягался, выгибаясь, словно на качелях раскачивался, да и сам Феденька чувствовал себя примерно так же. Так вот почему он не велел сына брать.
– Зачем вам, папаша, – проговорил неохотно, – только душу рвать. Да я и мало что знаю, – спохватился тут же, в то время как тесть неторопливо закурил и сунул горелую спичку обратно в коробок.
– Так ты что сам видел, что от людей знаешь, а то, може, в газетах читавши… ты скажи: на кой профессор всю ночь сидел, людей с больницы выписывал, как тот говорил?
– А-а, так вас смотрел профессор…? – улыбнулся Феденька и вкусно разгрыз орех, изобразив трудную фамилию. – Он успел эвакуироваться с семьей, потому и остался в живых, слава Богу. Скольких спас…
Старик тихонько тронул его за рукав:
– Как было, сынок?
Рассказывать было непривычно: Федор Федорович ни разу до сих пор этого не делал, не рассказывал и не обсуждал, да и с кем было?.. Те, кого это касалось напрямую, сначала смеялись и не верили, а потом, в гетто, тоже не верили, но уже не смеялись. Когда он встретил доктора Блуменау?.. Ну да, у магазина «САНИТАРИЯ»; конечно же, до гетто, это еще летом было, они стояли в тени под маркизами, и тот прямо у витрины громко заговорил, тогда еще говорили громко: «Какой же это бред, вы подумайте, коллега: ни с того ни с сего срываться и ехать Бог знает куда и от кого, главное? – от немцев! Так я же и говорю, бред!..»
Бред начался очень скоро после этой встречи, и Федор Федорович пытался вспомнить первые симптомы. Может, улица? К еврейскому кладбищу, серые каменные стены которого делали его похожим на крепость, вела крутая, вымощенная булыжником улица, с царских времен называвшаяся Еврейской. В самый расцвет демократии – уже памятник Свободы строили – улица стала называться ни много ни мало «Жидовская», так прямо и было набито на эмалевой табличке. Много времени не понадобилось: люди стали пользоваться этим названием, ссылаясь на то, что в местном языке, дескать, нет более подходящего слова, в то время как слово и было, и есть, но филологи муниципалитета предпочли лексикон погрома. Нет, улица была раньше, хотя…
Плакат, конечно; он и не забывал его никогда. Среди всей антисемитской бумажной дряни, появлявшейся, как яркий лишай, на стенах домов, на столбах, этот плакат бросался в глаза и красками, и текстом. Простая местная семья: женщина в косынке держит руки на плечах сынишки с такими же остзейскими чертами лица, а мужчина в кепке обнимает жену, защищая от источника зла за их спинами: хитрого, циничного еврея. Вот он, наложивший печать скорби и безысходности на честные трудовые лица! Текст был прост, как ломоть хлеба: «ЖИД ВАМ ЧУЖОЙ. ГОНИТЕ ЕГО ПРОЧЬ!». Такое могло вдохновить, и плакатов было назойливо много, но ведь не плакат же выпустил на волю бред и придал ему дьявольскую силу, и не от плаката загорелась синагога в пятницу вечером?
– Так мало ли что – пожар. Свечу, може, уронил кто, а оно и занялось, – ошеломленно бормотал Максимыч, – кто знает.
– Свечу!.. Они стенки керосином облили, обложили паклей и подожгли, а когда люди начали детей из окон выбрасывать, так в них гранатами швыряли!
– Немцы?..
– Нет, свои. С плакатов, – непонятно добавил зять, – немцам и трудиться не пришлось.
Это Федор Федорович знал из рассказов пожилой ассистентки, наблюдавшей, пока хватило нервов, пожар из своих окон, но она могла бы и не рассказывать: огонь полыхал долго, июльский дождь потом смердел керосином и был цвета пепла.
Появился мерзкий плакат и в клинике, где Федор Федорович работал. Чья-то заботливая рука не только налепила его на входную дверь, но и не обошла прохладный темноватый вестибюль, а через старинные витражи лилось июльское солнце: гоните его, доколе?! Одни старались пройти как можно скорее: работа, мол, ждет, другие непринужденно задерживались группками и заводили близкий к теме разговор – несколько громче, пожалуй, чем следовало, но, возможно, были виновны старинные своды, сообщавшие ненужный резонанс. Третьи прошмыгивали мимо, но с доброжелательным интересом на лицах: как, пожалуйста? Гнать прочь? И на лицах появлялось сочувствие, которое могло читаться по-разному.
Сколько пациентов тогда приходило – уму непостижимо, и все как один на протезирование. Потом клиника внезапно почти опустела, и не только потому, что иссяк поток скорбных зубами, а… приходить стало не к кому. Коридоры опустели, и двери кабинетов сначала закрывались, а потом запирались одна за другой. Именно тогда Федор Федорович почти всех пациентов начал принимать у себя на квартире. Заходя же в вестибюль клиники, торопливо проводил рукой по щеке, словно проверяя, не забыл ли побриться; этот жест остался у него навсегда.
Интересно, а не будь эта яркая гадина расклеена по всему городу, мог бы этот бред осуществиться, думал он, сидя на берегу реки рядом с примолкшим тестем. И ведь никто не сорвал, ничья рука не поднялась, но это уже была совсем инертная мысль, без возмущения: и ты ведь не сорвал. Он внимательно, но без обычного интереса смотрел на неподвижный поплавок. Хорошо ловится, хотя почти октябрь.
Прочь погнали в октябре, уже на исходе месяца, когда за спиной маячил – и подгонял: прочь! – угрюмый ноябрь. «Прочь» носила название гетто и находилась в пяти минутах от дома.
– Где? – выдохнул старик.
– На Песках.
– Это где Мотяшкин дом?!
– Ну да. Там же рядом кладбище еврейское. – Федя объяснил, что всех, кто жил в округе, заставили освободить квартиры и дома, но внакладе никто не остался, потому что евреи оставили свое жилье, а значит, места хватало с лихвой.
– А у Моти-то?.. Тоже кого поселили?
– Папаша, их дом пустой стоял, так? Где-то людям жить надо было, вот и селились, кто где мог, ведь всех выгнали, со старыми и малыми. Что говорить про Мотин дом – на кладбище жили!.. – И не только жили, добавил про себя, а и умирали, для этого кладбища и существуют.
Их гнали, и они уходили прочь. Гетто оказалось на редкость прочной «прочью». По зловещей какой-то иронии его граница обозначалась двумя кладбищами: еврейским с юга и русским с севера, где так удобно располагалась железнодорожная станция. Переполненные составы прибывали день и ночь, и если б знал тогда Федор Федорович, что привозили они евреев из Германии, где в плакатах тоже недостатка не было, прямо в руки местных патриотов-палачей, – ведь недаром Остзейский край с незапамятных времен чтил немцев! Если бы он знал, если б знали его коллеги, соседи, знала жена, если б шведский камень Старого Города знал, изменилось бы что-то? Проверить невозможно, но сомнительно: не нашлось ведь руки, которая сорвала бы мерзкий плакат, а ведь бумага рвется куда легче, чем колючая проволока. Знал бы он тогда… Да он и сейчас не знал, а то, что мог рассказать старику, тоже тщательно пропускал через фильтр памяти. Да, он был в городе при немцах, но и представить себе не мог масштаб разрастающегося бреда. Однажды лишь, идя мимо разгромленной «САНИТАРИИ», где еще висели выгоревшие, вялые маркизы, под ногами, среди битого стекла витрины, у которой доктор Блуменау говорил про бред, увидел он гнойную газетенку на местном языке с выспренним названием «Отчизна»; да и то, случайно взгляд упал, а вот поди ж ты, запомнился крупный заголовок: «40 000 ЖИДОВ ЗА ПРОВОЛОКОЙ – ГОРОДСКОЕ ГЕТТО!». Приснись такое – ущипнул бы себя за руку и выпил «сельтерской»; но то был не сон, и он долго и бессмысленно тер щеку, словно паутину смахивал. Закономерность это или феномен, что помпезность названия всегда прямо пропорциональна вонючести печатного органа, и так было во все времена на памяти Федора Федоровича, не исключая и настоящее.
Максимыч был потрясен: все, что напечатано в газете, было для него свято и непререкаемо. Однако старик умел хорошо считать:
– Куда сорок тысяч-то упихать, это ж люди, не селедки, а главное – на кой немцам евреи дались? – спросил он ученого зятя.
– А цыгане? Цыган ведь… тоже. Не знаю, папаша. Ни про немцев не знаю, ни про наших. Мне антисемитизм в принципе не понятен.
Про цыган конопатый не говорил. Ну да, больница-то еврейская была. Хватит того, что старик всегда помнил о своем цыганстве, поминая каждое утро мамашу, Царствие ей Небесное, и тихонько гордился стойкостью цыганской крови во внуках. Вот оно как. Прав оказался покойный зять, что так торопился посадить Иру на поезд, а ведь только второй день войны был.
– Хорошо, что Коля тогда отправил их, – негромко заметил Федор Федорович, словно услышал, и старик не удивился.
Долго молчали. Рыба, обманутая редко и беспорядочно забрасываемой приманкой, потеряла бдительность и послушно заглатывала крючок. Оба рыбака безучастно, словно стоя в очереди, вытаскивали разинь и бросали в бидоны, но не было ни ожидания, ни изжеванного, забытого в углу рта окурка, ни азартных сдавленных восклицаний. Рыба – была; не было рыбалки.
Евреев от неевреев старик отличал если не по именам или характерной внешности, то по стойкой привычке не снимать картуз, здороваясь; сам он, по столь же стойкой привычке, картуз всегда снимал. Перебирая мысленно своих знакомых евреев, он осознал вдруг, что после войны так никого из них и не встретил: ни сапожника Аншла, через руки которого прошло Бог знает сколько ботинок, как известно, горящих на детских ногах, ни Гирша и Рафала, всегда так симметрично стоявших в дверях скобяной лавки «Братья Левкович», да и где та лавка? Есть лавка, но братья тут уже ни при чем, и товары совсем другие: карандаши да тетрадки, дверь хлопает поминутно, но не выглянет ни Рафа, ни Гирш, только школьники снуют.
Лейба держал склад обивочных материалов, совсем недалеко отсюда, напротив маленького базарчика, так никогда и не выросшего в большой и называемого всю жизнь: Маленький базарчик. Помогал Лейбе на складе сын Меер. Старик никогда не мог понять (а спросить стеснялся), то ли отец выглядит на редкость молодо, то ли сын, наоборот, несколько старообразен, но казались они братьями. Каким-то чутьем Лейба всегда понимал, что именно Максимыч ищет, и добывал искомый товар, после чего посылал сына доложить об успехе, а на следующий день Меерова телега уже разгружалась у заднего входа в мастерскую. Чьей женой была Нойма, торговавшая орехами и изюмом на маленьком базарчике, Лейбы или Меера, старик тоже разобраться не смог. За что их? Что другому Богу молятся? Ни он, ни старуха, да и никто из староверов никакой неприязни к евреям не испытывал, скорее, наоборот, сочувствовали: сами были гонимы, память свежа… Где они все, где? А сорок тысяч-то куда?..
Федор Федорович тоже с трудом себе это представлял. С трудом, потому что боялся правильности своей догадки и потому малодушно отодвигал ее. Проще и честнее было ответить старику: «Не знаю».
Могло быть и так, что скромный дантист действительно не знал, что гетто их города было не совсем обычным. Будучи еврейским, оно было и многонациональным, пополняя свои ряды то немецкими, то голландскими, а то и вовсе венгерскими обитателями. И уж наверняка он не знал, что самая широкая улица делила гетто на два сектора: один для приезжающих, другой для местных, так сказать, импорт – экспорт. Нет, это не циничная шутка: «импорт» прибывал из Европы, а «экспортом» становились как обитатели местного сектора, так и слегка оправившиеся от ужасов транспортировки иностранцы. Местом экспорта служили местные леса. В этом и состоял секрет безразмерной емкости той адской ловушки, которая была оплетена колючей проволокой.
И неизвестно, какая половина обреченных испытала больший ужас при виде своих палачей – иностранцы ли, видя веселых мускулистых парней и тщетно вслушиваясь в чужой протяжный говор, или же местные, для которых язык этот был родным, а потому усиливал дикость происходящего, ибо невозможно, невозможно было поверить в смерть от руки своих! Эти исполнительные патриоты выполняли порученное с энтузиазмом, удивлявшим даже немцев. Для последних весь происходящий бред был хорошо продуманной системой; свои привносили в жестокость элемент творчества, и осмыслить это можно, только если помнить, что слово «тварь» того же корня. Ни в коей мере не пытаясь оправдать немцев, следует помнить, что они были на службе, тогда как свои трудились добровольно и не за страх, а за совесть, как ни странно звучит применительно к ним это слово. Шепот, колеблемый страхом, нес по гетто имя вождя доблестной команды, которая так изобретательно подожгла синагогу и не дала спастись ни одному из двух с половиной тысяч молящихся. Лиха беда начало: во всех акциях он выходил веселым и усталым, но неустанным, победителем.
Страна должна знать своих героев, и страна знает; более того: страна гордится ими. Будь это историческая хроника, его имя неминуемо должно было осквернить ее страницы, но в рамках другого жанра можно только намекнуть или подсказать одной артикуляцией, не озвучивая намек. Как уже сказано, он носил имя победителя, а этимология фамилии оставляет простор для фантазии. Короткая, как свист плетки, заткнутой у него за поясом, она причисляла обладателя к кроткому племени земледельцев, означая «пахарь». Если же один слог произнести чуть протяжней, с учетом традиций языка, то получалось совсем уже любопытное, едва ли не судьбоносное: «изгоняющий вон», «гонящий прочь». Естественно, что никто за колючей проволокой не занимался вопросами ономастики – это хорошо делать с другого берега пространства и времени. Между тем лингвисты и там, безусловно, были, и не только лингвисты: были математики, философы, историки, в том числе знаменитый автор «Всемирной истории еврейского народа»; были и врачи – ведь Федор Федорович так и не увиделся больше с доктором Блуменау, который назвал бред бредом…








