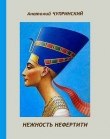Текст книги "Правитель мира"
Автор книги: Елена Долгопят
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Елена Долгопят
Правитель мира
Повесть
“Простите, почему вы убегаете, всегда в одно и то же время, как
Золушка? Но та хоть до полуночи, а вы? Еще и семи нет”.
Я уже знаю – по опыту, – что объяснить ничего нельзя человеку другого проживания. Но иногда хочется от своего опыта отвернуться и сказать:
“Я? Я никуда не спешу. С чего вы взяли?”
“Тогда почему вы пальто надели?”
Я смеюсь.
“Пальто – это улика. Но я его сниму”.
И он мне помог, и мы вернулись к столу вместе, и я просидела еще минут сорок, пока он не ушел курить. Он – сослуживец. Мы отмечали день рожденья, не его. Я исчезла, пока он курил.
Но часы мои давно уже пробили, я опоздала, я вышла из графика, и электричка, в которую я влетела, места еще были, спасибо, уже была не моя, чужая, дальняя, со всеми остановками, до монастыря, в котором икона плакала. И многие в эту даль добирались из Москвы и других мест, самая странная публика, у которой только одна и оставалась надежда на прощение – слеза Богородицы. Они верили.
Электричка, в которой я обычно катила вечером, отправлялась почти свободная, в эту же народ набивался и набивался, пока она тронулась, наконец, с опозданием в пять минут. В той, моей, электричке публика была чище, культурнее, спокойнее. Многие читали серьезную литературу или переговаривались о делах, но совсем негромко, не так, что вся электричка театр, а они в ней – актеры. Мобильники иногда перекликались птичьими трелями. И я себя в моей электричке чувствовала чище, спокойнее, культурнее и тоже раскрывала какую-нибудь умную книжку, и мне было приятно, что и я читаю, что пьяных рож нет и торговцы не ходят один за другим. Дело заключалось в том, что моя электричка останавливалась редко, шла быстро, мощно, проскакивая все эти мелкие станции, и не было круговорота пассажиров и торговцев, толкотни, дергания стоп-крана… Кстати, в этой, не моей, электричке уже перед самым выходом я увидела в тамбуре возле стоп-крана такую надпись: “Если ехать дальше лень, дерни эту пое…”.
Без трех точек, конечно, свободно, полностью.
Итак, поезд тронулся. Интересно, что о человеке тоже иногда говорят, что он тронулся, имея в виду – сошел с ума. И, надо сказать, в какой-то момент мне показалось, что наш поезд тронулся именно в этом, человеческом плане. Ведь заполнен он был человеками.
Чужая электричка шла медленно до тоски, так что хотелось выпить и забыться, что и делали многие пассажиры, потягивая алкоголь из банок и бутылок, которые разносили в больших количествах торговцы. Я решила отгородиться книжкой. То есть в моей электричке я книгу открывала, а в этой – книгой загораживалась. Книга называлась “Новое о Мандельштаме”. Правда, свет в этом раздолбанном вагоне был слабый, и приходилось совсем близко подносить к глазам страницу.
Я не помню последовательности событий. Поэтому изложу их не по порядку, а по темам, в чем тоже есть некоторый порядок. Довершу для начала книжную.
Он вошел в Маленковке. И ростом возвышался над толпой, и голосом всех перекрывал, даже этот безумный разговор по мобильному, о нем после. Волосы черные, кудрявые, с сединой. Голос низкий, раскатистый, церковный. Церковным голосом, как службу вел:
– Обратите внимание на книжки для детей, прекрасные книжки с прекрасными иллюстрациями, сказки Андерсена…
Он пробирался по проходу, электричка тащилась и погромыхивала, он гудел надо всем. Его остановила тетка через проход от меня. Она хотела купить только одну книжку и не знала, какую выбрать. Спросила:
– А какая вам самому больше нравится?
Он сказал громогласно и печально:
– “Русалочка”. Без валокордина смотреть на нее не могу.
– Почему?
– На обложку глядите, вот она нарисована, Русалочка. Точь-в-точь моя первая любовь. Один в один. Плачу, когда вижу.
И он действительно заплакал.
Я позабыла о своей книжке и, открыв рот, слушала весь этот разговор, в общем, интимный, но развернутый всем напоказ, всей толпе.
Но на этом дело с книжками не кончилось. Упомяну торговцев детективами и любовными романами. Их реклама была однообразна:
“Читается легко, непринужденно”. Поразил меня крепкий, седой мужичок, короткостриженый, аккуратно одетый. Он говорил негромко, так, что я его услышала лишь когда он приблизился. Он тоже предлагал детективы, но собственного сочинения, изданные на собственные сбережения. Он утверждал, что все им написанное не вымысел, а чистая, скупая правда.
– Я служил в угро, – говорил он. И показывал удостоверение.
Книжку брали.
Какой-то парень с ним поздоровался. Оказалось, его почитатель. Он знал уже эту книжку и спросил, ожидается ли продолжение.
– Работаю, – коротко отвечал автор.
Кстати, книжку он предлагал с автографом. Спрашивал имя и надписывал.
Уже почти под конец пути, под занавес, мужчина, сидевший напротив меня, – ему было, как мне, под сорок, он непрерывно сосал пиво из бутылок, пустые ставил под сиденье, новые брал у проходивших торговок с одинаковыми, мимо тебя глядящими глазами, – так вот, улучив момент, когда я оторвалась от книги, он вдруг спросил, вежливо, расслабленным голосом:
– Простите, можно задать вам вопрос?
– Задавайте, – вздохнула я.
Он наклонился ко мне, обдал пивными парами.
– Ну, и что там нового о Мандельштаме?
Иногда и одну часовую поездку на электричке не опишешь так просто, не охватишь одним взглядом, в один сюжет не уместишь.
Погруженная в книжку, я услышала женский голос. Поначалу он достиг моего слуха, затем – сознания. Я подняла голову и попыталась понять, откуда этот голос и с кем он говорит, на чьи вопросы отвечает.
Собеседника слышно не было, и я решила, что это сумасшедшая говорит сама с собой так громко, как будто уже себя не слышит. Я повертела головой, чтобы найти ее. Даже привстала. Очевидно, она сидела через проход, толпа ее скрывала. В конце концов я догадалась, что говорит она по мобильнику. Я тоже почему-то всегда кричу по телефону, мне кажется, если я не вижу человека, то до него можно только докричаться. Но она все-таки не кричала, но говорила громко и так отчетливо, что слышно было каждое слово за всеми голосами и шумами, которыми наполнена электричка, так что когда из нее выходишь, вдруг глохнешь.
– Деньги лежали в верхнем ящике стола… Я не знаю, куда они делись…
Он и твой сын… Две тысячи сто пятьдесят рублей… Потому что я брала мясо, яйца и молоко. Можешь открыть холодильник… Знаешь, ты меня доведешь… Нет, не до тюрьмы. До кладбища… Я сама с собой покончу, и тогда, наверное, всем станет легче, особенно тебе… Не знаю, может, повешусь. Но лучше, думаю, таблетки… Почему? У меня Лидка в аптеке работает, даст без рецепта, или схожу к врачу, скажу, что бессонница, тем более что и в самом деле сна нет, покончу с собой, хоть отдохну… И от тебя тоже… Когда? Да прямо сегодня, чего тянуть.
“О ночь, – подумала я, – скоро мы приедем в свои дома, и ты настанешь”.
Люди не знали, куда девать глаза. Следовало заткнуть уши. К счастью, голос смолк, разговор прервался. Я вновь уткнулась в книгу, но не успела сосредоточиться, – раздался тот же отчетливый голос.
– Да? А белки ты взбивала, прежде чем?.. Конечно, у тебя ничего не получилось, он же должен быть воздушным совершенно…
И с упоением голос описал пирожные, такими, какими они должны были быть, идеальные пирожные. Мы все их видели внутренним взором и вожделели. Мы знали, что они с орехами, а сверху – крем, легкий, творожный, с вишенкой, как будто нечаянно в него упавшей.
Я подняла от книги смеющееся лицо. И увидела смеющиеся лица. Широк человек, – решила я, – не дай Бог сузить.
Думала, что в Мытищах народу убавится, но набилось даже больше. И двинулся наш отяжелевший поезд, пробивая во мраке путь сильным прожектором. В Мытищах вошел дед с баяном. Он протиснулся из тамбура в вагон. Народ нашел ему место, расступился. Ничего в этом странного не было, от деда несло грязью, перегаром. Оглушительный был аромат, я почуяла, когда дед приблизился. Он не спешил. От одного тамбура до другого сыграл “Темную ночь”, “Враги сожгли родную хату”, “Лежит с пробитой головой”. Хорошо сыграл. Многие подавали.
Он проходил, играл, толпа расступалась и смыкалась.
На мгновенье все стихло. По какому-то чудесному совпадению смолкли все: никто не говорил по телефону или с кем-нибудь в вагоне, никто не предлагал никаких товаров. Удивительное мгновение тишины, резонанс тишины, тишины в человеческом отношении, потому что, конечно, стук колес не прекращался, электричка не замирала и не становилась неслышным прозрачным призраком. Но тишина настала лишь на мгновенье. Вдруг опять зазвучал баян и кто-то запел. Я подумала, что это старик решил спеть напоследок и что голос у него ничего себе, не слабый и не старый. “Я желаю счастья вам”. Толпа в том конце вагона заволновалась, засмеялась, захлопала. Я встала, чтобы увидеть.
“Я желаю счастья вам” пел не старик. Он только играл. Пел человек с последнего у выхода сиденья. Пел, встав. Лицо его побагровело. Он был весьма прилично одет. За расстегнутой дубленкой виднелся костюм, даже с галстуком.
Мужчина допел, подал деду бумажку и сел. Я села тоже.
Когда же это кончится? И чем?
Кончилось, если помните, надписью у стоп-крана.
Моя станция тем временем приближалась. Народу уже было значительно меньше. Проход практически освободился. Я сказала, что нового о
Мандельштаме для меня всё, потому что я почти ничего о нем до сих пор и не знала, спрятала книжку, попрощалась и направилась к выходу.
Недавно певший сидел спокойно, солидно, трезво, и представить было невозможно, что он мог петь под баян нищего. С другой стороны, у окна, стояла инвалидная коляска. В ней, лицом к окну, сидел безногий. Лицо у него было красивое, правильное и кроткое.
Прозрачные голубые глаза мягко смотрели то ли на огни в темноте, то ли на свое собственное отражение в стекле. Инвалид поразил меня сходством с актером, которого я буквально на днях видела по телевизору. В каком-то сериале он сыграл утонченного и жестокого аристократа из прошлого века. А теперь сидел нищий, безногий и кроткий.
Поезд унес и нищего, и певца. И надпись у стоп-крана унеслась вместе с ними, и все фантастические лица и разговоры унеслись. Точно они были призраками.
Дул ветер. Что-то невидимое кололо лицо, ледяные микроскопические осколки. Ветер был ими полон, и воздух в электрическом свете посверкивал летучими искрами.
Я сошла с платформы. В круглосуточном ларьке горел свет.
Из окошка высунулась рука с хлебом. Мальчик взял хлеб и тут же откусил горбушку.
Мальчика я знала. Он жил в нашем подъезде, и сталкивались мы довольно часто, и много раз я слышала его имя, но почему-то никак не могла запомнить. Что-то было в этом чудовищное. При виде мальчика я каждый раз мучительно пыталась припомнить его имя, но вместо имени был провал, из которого пахло сыростью и тленом. Он здоровался, я отвечала и отводила глаза. В конце концов, чтобы не мучиться, я назвала его про себя Колей.
Встреча с Колей меня всегда тревожила.
Дорога от платформы до нашего дома красивая, и может показаться, что она ведет к какому-то старинному замку. Широкая, с обеих сторон растут пихты, одинаково высокие, пушистые, на одинаковом расстоянии друг от друга, пихты-близнецы. Но дом наш был не замком, а обыкновенной хрущевской пятиэтажкой, и следовало его обойти, чтобы попасть в подъезды. Впрочем, говорили, что когда-то аллея действительно вела к замку, возведенному русским помещиком по картинке из книжки готического романа.
В этот час аллея была пустынна. Снежок похрустывал под ногами. Коля обогнал меня и на ходу оглянулся. Лицо его мне показалось белым пятном.
Я шла, но мне казалось, что я никуда не продвигаюсь, что пихты не сменяют одна другую, что я топчусь возле тех же деревьев. Вдруг я нагнала Колю. Он стоял на обочине, жевал хлеб и ковырял носком ботинка подножие сугроба.
Он как будто поджидал меня. Поднял голову и взглянул. Я ускорила шаг.
Как будто хотел что-то сказать, но не решился.
У подъезда я посмотрела на наши окна. Свет горел и в комнате, и в кухне. С чего бы это моя скупая мать так расточительствовала? С чего такое сияние?
Я поднялась на наш третий этаж. Позвонила. Хлопнула дверь в подъезд, застучали шаги. Коля пробежал мимо меня, взглянул и, мне показалось, усмехнулся. Дверь передо мной отворилась.
– Мать… – начала я громко и раздраженно.
Но она приложила палец к губам.
– Что? – спросила я уже тихо, переступая порог.
И увидела на крючке незнакомое женское пальто. Старое, с потертыми обшлагами.
Пальто было серое, и пуговицы на нем были почти все серые, но одна пуговица была красной, а другая зеленой, и они казались живыми в сером ряду. Как два открытых глаза у семиглазого чудища; пять его спящих глаз в любую секунду могли тоже открыться, так казалось.
Мы с матерью жили замкнуто, гости у нас случались так редко, что я даже и не припомню, когда в последний раз.
– Кто? – совсем шепотом спросила я.
Опять палец у губ.
Я сняла свое пальто, сняла обувь. Увидела незнакомые сапоги.
Грязные, в белых соляных пятнах. Взглянула на мать, но ничего не спросила. Поняла, что и так все сейчас увижу, а гостья в доме слышит все наши шепоты и движения.
Из прихожей – сразу комната. В ней я увидела детскую коляску. Она заполнила мой взгляд.
Иногда кажется, что ничего больше ты вместить не можешь, что ничего больше уже не будет. Но будет, будет и больше. И кроме коляски, так потрясшей мое измученное воображение, взгляд вместил в себя и женщину, выбравшуюся при моем появлении из кресла; обычно я смотрела из него сериалы после ужина, пока глаза не смыкались.
Каким-то чудом я сразу узнала в ней свою сестру. Она поседела, подурнела, опухла, глаза выцвели, от нее пахло крепкими папиросами, но я ее узнала мгновенно. Мы не виделись пять лет, пять лет не знали мы с матерью, есть ли она на свете.
Я подошла к коляске и заглянула. В ней мирно спал младенец.
Крохотные ручки лежали поверх одеяла. Меня поразило, что эти малюсенькие ручки совершенно как у больших, с ноготками на пальчиках. У младенца были светлые серьезные бровки и серебряные ресницы.
– Мальчик или девочка? – спросила я.
– Мальчик.
– Как зовут?
– Артур.
– А по батюшке?
– Я тебе потом скажу.
– Пойду ужин разогревать, – сказала мать.
Без меня они не садились. Милка, правда, съела творог с вареньем.
Мать открыла ей землянику, которую берегла на Новый год.
– Я, как только голодная, сразу ем, если есть что, организм не должен чувствовать неудобств, должен быть сыт и доволен. Ведь мой организм до сих пор с его организмом связан, питание у нас, считай, совместное, он из меня знаешь как молочко сосет, не оторвешь.
Мы ужинали. Ребенок спал в коляске у входа в кухню. Мне казалось, все, что происходит сегодня, начиная с безумной электрички, мираж.
Наутро он развеется.
Ребенок ворохнулся, мать вскочила, бросилась. Постояла над коляской, вернулась.
– Что-то ему снится, – тихо сказала.
Милка не обеспокоилась.
– Вообще-то он хорошо спит. Я с ним и в общаге жила, и в поезде три ночи ночевала, спит, никого не тревожит. Второго такого ребенка нет.
Я смотрела на мать. Никогда не думала, что она может быть такой, мягкой, мирной и как будто владеющей счастливой тайной. Тайной был ребенок, конечно, но я никогда не думала, что эта тайна покажется матери счастливой. Я была уверена, что она довольна нашей тихой холостяцкой жизнью, тем, что у нас всегда порядок, покой; обычно она раздражалась даже сдвинутым половичком. И никогда не заговаривала со мной о внуках. И вдруг этот ребенок сделал ее счастливой и мягкой, и ей не жаль было драгоценного варенья для его матери. Ягоды она собирала самолично, чтобы зимой вспоминать, как там было хорошо в летнем лесу. Она говорила, что не доживет до лета, каждый год так говорила, каждую зиму, и для нее это варенье было вроде эликсира бессмертия. Хотя бы и мне почувствовать его вкус.
Утверждаю, что мать любила сестру больше. Доказательств у меня нет, относилась она к нам одинаково ровно, без сантиментов, порой даже холодно. Но так как сестра во всем была лучше меня, я не сомневалась, что мать ее любит, а меня не особенно. Я думала, что виновато имя. Милка и должна быть всем милее.
Она была веселая, легкая. И вот вдруг отяжелела, потемнела. Я даже подумала, разглядывая себя в зеркале, туманном после горячего душа, который я, как всегда, приняла перед сном, что я сейчас значительно больше похожу на Милку, чем она на себя. Как будто бы та ее былая легкость перешла вдруг ко мне. Легкость того ее тела, той ее походки, той ее улыбки. И в этом осуществилось наконец наше родство.
Вдруг и характер мой переменился? Как бы хорошо. Говорят, что характер и есть судьба.
То, что Милка вдруг уехала, рванула от нас пять лет назад, никого не удивило. Это было в ее духе, вдруг сорваться. Вслед за каким-нибудь парнем, влюбившись, конечно. Потерять к нему интерес на полдороге и вернуться. Было уже не раз. Но тогда не парень оказался виноват.
Милка увидела по телевизору передачу о городке где-то за Уралом, в
Сибири, и влюбилась в этот городок, все ей там показалось таким родным, как будто бы даже пробуждало воспоминания о счастье или предчувствия. И даже какая-то улочка, увиденная по телевизору, показалась ей знакомой, и Милка захотела немедленно на ней оказаться. Долго не раздумывала, денег назанимала у соседей и махнула. Мы потом расплачивались, картошкой питались, творог только по воскресеньям, мать говорила, лучше мороженого.
Проворонила Милка свою молодость, что и говорить, растеряла всех своих кавалеров. Прихехешников, как мать их называла. И последний ее отъезд – по знаку с телеэкрана – вроде прыжка был с закрытыми глазами, – авось приземлюсь в раю.
И все равно Милка была ей милее.
Ужин закончился, время было совсем позднее, завтра на работу. Я сказала, что посуду вымою и лягу спать на кухне. Все-таки одиночество, все-таки свобода. Мать ушла стелить постели себе и
Милке. Милка увезла коляску в комнату к матери, вернулась, прикрыла дверь, отворила форточку, закурила свою крепкую папиросу.
– Думаешь, мне будет приятно тут спать в дыму?
– Извини.
Она выбросила папиросу в форточку. Сидела, молчала, смотрела, как я мою посуду. Дыхание у нее было затрудненное, как будто она бежала и все никак не могла отдышаться.
– Ну, – сказала я, – все чисто, пора спать, утро вечера мудренее.
Милка встала, шагнула к двери, отворила. Сказал вдруг:
– Помнишь, мы к цыганке ездили?
– Нет.
Я лежала в темноте и, вместо того чтобы спать, вспоминала.
Все эти гадания, заклинания, наговоры, приметы были тогда одним из очередных Милкиных увлечений, как всегда страстных и как всегда недолгих. Меня она не соблазнила, но уговорила составить компанию.
Мне и самой иногда хотелось новых впечатлений.
Из дома вышли рано, к первой электричке. Стояла ранняя весна, за ночь подморозило. Мы шли нашей аллеей, и ледок хрустел под ногами.
– Смотри, – сказала Милка, – мы с тобой первые идем, никто до нас здесь не проходил, это хорошо, хорошая примета, не зря едем.
Цыганка жила в высоком доме на московской окраине. Пока мы туда добрались, солнце успело взойти и растопить ночной холод.
В комнате на диванчике уже молчаливо ждала очередь. У стены до потолка громоздились разноцветные одеяла. Очередь двигалась медленно, видно, цыганка говорила подробно. Я пропустила Милку первой. Она вышла с сияющими, испуганными глазами и сказала, что будет ждать меня на улице.
Цыганка сидела за белым пластиковым столом. Она указала мне на табурет. В мойке лежала грязная посуда. На плите в огромной кастрюле что-то кипело. Цыганка посмотрела на меня лошадиными глазами. И сказала, не смешав, не раскинув карты:
– Не бойся, он тебя любит, он к тебе вернется.
Никого у меня не было, никто от меня не уходил и потому не мог вернуться. Но я смолчала. Цыганка сказала, что у него, у этого призрака, проблемы на работе, начальник его невзлюбил, и что ему надо есть поменьше соленого, а мне – сладкого. На обратном пути, пока шли до метро, я смеялась над гаданиями и прочими суевериями.
Милка молчала и улыбалась.
Я услышала шорох и поняла, что какое-то время спала. Открыла глаза и увидела Милку в белой ночной рубашке. Милка прокралась к плите и потрогала чайник.
– Что, – сказала я, – пить хочешь?
– А я так и знала, что ты не спишь.
Свет мы включать не стали. Я сидела на раскладушке, завернувшись в одеяло. Милка сидела за столом, попивая чай и покуривая. Я разрешила.
Кухня у нас крохотная, так что мы были друг к другу совсем близко.
Она мне не стала рассказывать об этом городе из телевизора, как он ее встретил, чем она там занималась, на что жила. На самом деле я даже не знаю, где все произошло, в этом ли городе или в другом, сама я ничего не спрашивала по своей врожденной привычке, что Милка рассказала, то рассказала. Передаю, как запомнила и как умею.
“Он ужасно боялся весны, говорил, что весной с ним происходят всякие несчастья или с близкими, все время хоронит кого-то каждую весну.
Потому смотрел на календарь и говорил, – не хочу. Но на календаре она уже была, весна. Но погода стояла совершенно зимняя, морозы установились тихие, ни ветерка, и с каждым днем все холоднее и холоднее, даже страшновато, – будет конец?
Он был младше меня на пятнадцать лет и девственник. Сам сказал. Он в смысле сознания совершенный ребенок, младенец, все о себе выкладывал, весь открыт. Что касается стеснения, это у него не было нисколько. Влюбился, удивился, – потому что первый раз, – и всем рассказал. Он приходил ко мне на работу и сидел, ждал, когда я закончу. Хорошо, там у нас почти семейные отношения были, на службе.
Посмеивались, конечно, но без злобы.
Я уже знала, в чем дело. Судьба шевельнулась, приоткрыла то есть глаза, еще не посмотрела на нас, но мы уже почувствовали.
У нас долго ничего не было, он не знал, как подойти, опыта никакого, а я не поощряла. Если меня касался, то его сразу в дрожь бросало.
Внешность у него тебе бы не понравилась, я твои вкусы помню.
Субтильный, совершенный мальчик, если бы не борода, это он для солидности, конечно, отрастил. Но глаза! На меня никто так не смотрел, я впервые увидела действительно влюбленные глаза. Я в этом смысле не обделенный человек, ты знаешь, но так на меня никто не смотрел. И еще он говорил, не мне, а одной моей приятельнице, что я богиня. Смешно, но трогательно.
Я боялась, у нас так ничего и не произойдет. Он от восторга передо мной в замочную скважину ключом не мог попасть, руки ходуном ходили.
У него была квартира, а я угол снимала. Он уговорил мать уехать на три дня к сестре, и я ломаться не стала, пошла к нему. Я была спокойна абсолютно, счастливое такое спокойствие, мягкость, я себя так никогда еще не чувствовала, а он, я уже говорила, едва дверь открыл передо мной. Я стояла и улыбалась, это такая улыбка, не внешняя, а внутренняя, она до сих пор во мне осталась, ты видишь.
Ему я сказала, чтоб свет не включал и чтоб сел. Спокойно, не спеша, разделась. Глаз я его не видела, но взгляд чувствовала. Легла на диванчик, к стене повернулась, лежу тихо. И он не шевелится на своем стуле. Вдруг слышу, стал раздеваться. Стул опрокинул. Поднимать не стал. Лег рядом почти не слышно. Лежал так, что можно было бы и забыть о нем. Вдруг рука его меня коснулась. Провел по спине, по ложбинке. Пальцы дрожали. Тут я повернулась к нему. Руку его взяла и положила себе на грудь. Придвинулась. Я им управляла, он понял, подчинился, успокоился.
Под утро пошли на кухню, я вынула что было из холодильника, сготовила, он это варево слопал. Ел и глядел на меня. Тут уже не только восторг был, но и сытость. Раньше глаза были голодные, а теперь насытились. Он говорил, что думал, что так и умрет девственником, что ему еще осмыслить надо. Я улыбалась. Не знаю, как он эту весну пережил, я уехала, узнав, что беременна, сразу, ночным поездом, даже трудовую не взяла на работе, потом они мне выслали.
Проклял он эту весну или нет, не знаю. Для меня он умер. Исполнил предназначение”.
Я, конечно, спросила, почему она так рванула, почему оставила бедного парня в неведении, он наверняка был бы счастлив, что стал отцом.
– Он тут ни при чем. Да-да, не криви губы, его предназначение на этом закончено, все, что он должен был совершить в своей жизни, он совершил. Все, как гадалка тогда предсказала, до точки.
– Видела я эту гадалку, – сказала я в раздражении, – она больше к кастрюле своей прислушивалась, чем к чьей-то судьбе.
– А почем ты знаешь, вдруг ей кастрюля и нашептывала?
– Там суп кипел, судя по запаху.
– Да им все нашептывает: и суп, и ветер, и часы, и дождик, и шаги чьи-то. Для нас нет ни в чем смысла, а для них во всем есть.
– Лично про меня она такую глупость в своем супе расслышала.
– Потому что у тебя настрой был глупый, а у меня серьезный!
Я взяла ее папиросу и затянулась.
– Тебе идет, – сказала Милка, подавляя обиду. – Только ты при Артуре не кури, дай слово.
– Постараюсь. Зачем ты его Артуром назвала?
– Так нужно.
Она посмотрела на меня пристально.
– Он станет правителем мира. Так сказала цыганка.
Рванула бы я стоп-кран, если бы такой был.
Милка ушла, я лежала без сна. Я думала, что если бы не нарушила распорядок и села в свою электричку, то не было бы ни Милки, ни будущего правителя, мы с матерью бы тихо поужинали, поглядели бы телевизор и спокойно легли спать. Безумная электричка привезла в безумный мир. Не следовало в нее садиться.
Мое сознание не хотело вмещать происходящее. Мать и Милка занимались ребенком. Я, точно отвернувшись от них, сосредоточенно жила своей жизнью.
Настала весна. Однажды я заметила, идя с электрички к дому, что все еще светло. Я шла и не торопилась, наслаждаясь светом, воздухом, в котором уже пахло живой жизнью пробуждающихся деревьев. Открыла мне мать. Изумительного Милкиного пальто на месте не было, и я подумала, что она гуляет с ребенком. Но мальчик был дома. Спал в своей коляске на балконе. Топили по-зимнему, и мы отворяли балкон настежь. Мать разогрела мне ужин, я села за стол и спросила, где Милка.
– Уехала, – спокойно сказала мать.
– В Москву?
– Не знаю. Думаю, дальше. Она тебе записку оставила.
Мать взяла с подоконника сложенный вчетверо листок. У меня было чувство, что он сейчас выпорхнет из ее рук, а я не успею его ухватить.
– Ты читала?
– Разумеется.
“Дорогая моя сестренка. Наверное, следовало мне это сразу тебе сказать, но я никогда не знаю, как лучше, поэтому пусть как есть, так есть. Исполнить свое предназначение задача каждого человека, в ее решении – его спасение. Чтобы мой сын исполнил свое предназначение и спасся, нужно выполнить еще одно условие: я должна устраниться из его жизни. И я радостно устраняюсь. С надеждой, что уж теперь все исполнится. Воспитывать моего сына поручаю вам с мамой. Ничего особенного не требуется. Ему необходимо жить жизнью обычного человека. Пока не придет время и само все не переменит.
Следите за Артуром, вот и все, чтобы был сыт, обут, одет. В конце концов неважно, верите вы в то, что будет, или нет, от этого ничего не зависит, делайте так, как подсказывает текущий момент.
Милка”.
Ничего для меня не переменилось с отъездом сестры. Разве что постепенно выветрился характерный Милкин запах. Ребенком занималась мать. Он не доставлял мне хлопот, не занимал мои мысли. Я не могла, конечно, совсем не думать о нем, но он меня не беспокоил. Я не замечала, как он рос, как начал ходить, говорить, как пошел, наконец, в школу.
Я не знала, что он думает обо мне. Я с ним только здоровалась и прощалась, могла сказать за столом: “Подай нож”, – наше общение сводилось к необходимости. Чем он жил, как учился, совершенно не представляла. У меня с ним сложилось примерно как с тем мальчиком из нашего подъезда, чье имя не хотело уместиться в моей памяти, и я закрывала провал тонкой щепочкой – “Коля”. Имя племянника я не забывала, но его внешность очень долго от меня ускользала. Я не узнавала мальчика вне дома, если вдруг встречала на улице. То ли он был такой неприметный, то ли я так не хотела его помнить. Уже потом, после, когда мы остались один на один, а мать ушла в землю, я обратила внимание на его глаза. Они были настолько прозрачные, что, казалось, их и вовсе нет. Отверстия, за которыми просвечивает серое, неброское небо. Я тогда подумала, что за ними может просвечивать и тьма.
Мать умерла, когда Артуру исполнилось тринадцать.
Первый вечер, когда мы остались один на один в доме. Первый вечер, когда я его рассматривала со вниманием. Как будто сон, в котором он мне снился, вдруг кончился, и я его увидела наяву.
Около восьми вечера. Середина мая. Мы сидим рядом, два незнакомца.
Хотя нет, я ему знакома. Я в положении человека, за которым тринадцать лет велось наблюдение. Я для него ясна, он для меня – темная фигура. На мой вопрос “готовы ли уроки?” он отвечает:
– Почти.
– Что значит “почти”?
– Не совсем.
– Почему?
– Я до конца никогда ничего не делаю.
– Что за чушь!
– Не чушь, а восточная мудрость. Дойти до конца – умереть.
– Дневник у тебя есть, мудрец?
Он и в оценках держался своей идеи. Четверки и тройки. Ни одной пятерки, ни одной двойки, – ни одной крайности. Человек середины.
В силу профессии я всегда обращаю внимание на почерк. Для меня почерк – что-то вроде графика душевного и физического состояния.
Причем, как ни странно, особенности почерка я определяю на слух.
Почерк течет, как река, и я слышу ее течение. Прерывисто, звонко, тяжело, извилисто, широко и свободно, обрываясь и замирая. Я слышу голос этой реки. Строки моего племянника текли ровно, почти неслышно, почти беззвучно. Это почти (никаких крайностей!) безмолвие могло означать что угодно.
– Ты во сколько обычно приходишь после школы?
– Часа в три.
– И что делаешь?
– Обедаю с бабушкой. То есть когда бабушка была.
– Понятно. Теперь нам с тобой труднее придется. Работу я бросить не могу, так что будешь сам себе обед разогревать. Я с вечера буду готовить чего-нибудь. Что ты любишь?
– Да ничего особенно.
– Суп ешь?
– Что есть, то и ем.
Кстати, в этот вечер мы ели макароны по-флотски. Я по дороге купила банку тушенки, не помнила, что есть в холодильнике. Перед тем как бежать на электричку, позвонила домой, спросила, сумеет ли он сварить макароны. Он сумел. Он вообще оказался очень приспособлен к жизни. И постирать мог сам, и пуговицу пришить. Не очень-то он меня обременил, как выяснилось. Я сама себя обременила.
Мы ужинали, я его расспрашивала о том, о сем, рассматривала.
Очевидно, Артур походил на отца. Невысокий, щуплый. Но если его отец, будучи тридцати лет от роду, показался моей сестре простодушным, открытым ребенком, то его тринадцатилетний сын произвел на меня впечатление почти взрослого человека, спокойного и рассудительного.