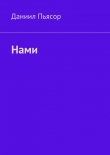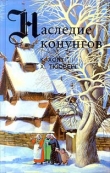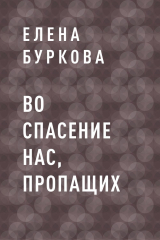
Текст книги "Во спасение нас, пропащих"
Автор книги: Елена Буркова
Жанр:
Прочая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Часть первая
17
… минута за минутой, словно сосновая смола, сползающая по коре вязкими, липкими каплями. И если исходить из того, что сутки растянулись на тысячу лет, то мы сидим в подвале уже два тысячелетия.
В тесном, затхлом, темном подвале, в котором не получается вытянуться в полный рост; с низким, в подтёках, потолком и единственной вентиляционной трубой, тайно проложенной меж кирпичами ещё во времена палеолита; с четырьмя монолитными стенами, обросшими плесенью так обильно, что грибы можно без труда соскрести в пакет и приготовить из них плотный ужин.
Я бы пошутил, мол, ещё часок – и мы тоже принесем отличный урожай, но уверен, что шутку мою никто не оценит.
Даже 1.
1
Ждать. Всего лишь ждать. Говорят, в этом нет ничего сложного – но так рассуждают лишь идиоты.
Невозможность контроля.
Нервная неподвижность.
Упование на то, что нас не предадут.
Расслабиться не удается ни на минуту. Даже во сне мой мозг напряжен. Я представляю результаты посеянного нами хаоса так детально, будто этот процесс может как-то повлиять на наше положение, будто мысли материальны и имеют власть над реальностью.
Бред.
Единственное, что сейчас имеет значение – это невозможность контроля, нервная неподвижность и упование на то, что нас не предадут.
Сам тому не веря, я пытаюсь убедить 17 в том, что мы в безопасности. Всё продумано давно и до мелочей.
Но 17 не слушает.
Рассеченная скула пестреет темно-бордовой рваной полосой. Спина выпрямлена.
Ему бы оружие в руки – и в бой.
Ему бы в бой – да в самое пекло.
Ему совершенно неважен тот факт, что порою бездействие эффективнее действия.
Жить ярко и умирать помпезно – девиз его тридцатилетнего существования.
744, вероятно, о таком даже не слышала. А если слышала – то давным-давно позабыла.
Сейчас она сидит на дырявом матраце справа от меня.
Неподвижная, точно статуя.
С тщательно выскобленной нормальностью.
Темно-русые волосы, чуть тронутые сединой, едва касаются мочек ушей.
Свет последней свечи падает на молодое лицо, и я вновь заворожен ее изъяном – бугристым шрамом, рассекающим правую бровь пополам, чудом не задевшим глаз, тянущимся вниз, наискосок к скуле, неаккуратно зажившей полосой, делящей цифры 7 и 44. Глаза – огромные, черные, инопланетные, вызывающие желание то ли перекреститься, то ли поклониться, выдают расстройство, без которого быть ей самой обыкновенной несчастной девушкой, каких десятки и сотни в нашем увядающем мире.
744
Подвал – ловушка.
Подвал – гроб.
Подвал – братская могила для всех нас.
В ней холодно, но душно. В ней мало места для того, чтобы расправить паруса, но более чем достаточно пространства, чтобы потеряться, искалечиться и утонуть в коварных рифах своих безрадостных мыслей.
Ее словно создали, словно вырыли специально для нас, специально для того, чтобы однажды, во дни нужды, шесть человек смогли спрятаться; чтобы злобные ищейки спустились в просторный подземный зал, с паутинами ржавых труб – и не увидели ту самую дверцу, за которой вот уже век скрывается низкая конура, за которой вот уже несколько дней скрываются низкие люди.
Я слышу, как 1 уверяет всех, что совсем скоро мы сбежим из рабочего лагеря, спасемся из этого затопленного слезами котлована, раз и навсегда, что мы никогда больше не ступим на его территорию – но я-то знаю, что всё это чушь, что это неправда, что это самообман, и потому шепчу:
– Даже если мы покинем Город – мы всё равно останемся тут.
303 поднимает на меня голубые глаза – высокая, стройная, ёжик блестит золотом, кожа нежна, как лепестки пионов, запястья толщиной в три пальца, – и безмерная тоска, и безмерная вина сжимает сердце.
Вина за то, что она, такая красивая, такая юная, с татуировкой на правой щеке, где чернилами выведено «303» (с этим ее порядковым номером, меткой и клеймом, именем и прозвищем), оказалась в мире, где убивают и мучают; где ломают и не чинят; где бросают на произвол судьбы и находят слишком поздно.
Слишком поздно.
Мне не нужно говорить дальше, но я говорю, не в силах преодолеть жуткое желание вызвать ее справедливую ненависть, не в силах принять ее искреннее прощение:
– Мы ведь обе пытались сбежать, 303. Помнишь? Помнишь? Я не про Город. Нет. Я вообще. Мы пытались. Пытались. Мы думали, что маяки освещают пути наши, что якоря не дают нам уплыть в неизвестность. Но мы ошибались. Я – ошибалась. Наша жизнь – передвижение в ночи. Без подсказок. Без ориентиров. Во веки веков нам не найти направление.
303
Ещё чуть-чуть – и по щекам моим польются ручьи и реки.
Ещё чуть-чуть – и мне станет очень стыдно перед теми, чьих слез я никогда не видела, чья твердость духа не вызывает сомнения.
– Верно, – сглатываю я комок в горле. – Не вышло у нас сбежать.
На самом же деле – 744 права и не права одновременно.
В отличие от меня, совершить побег ей всё же удалось. Пусть и от себя самой.
Или наоборот – к самой себе?
Утыкаясь подбородком в колени, я пытаюсь подсчитать, сколько месяцев утекло с нашей первой, случайной встречи в далеком и недалеком прошлом.
Сейчас, за пределами лагеря, там, где из земли растут деревья и кустарники, а не столбы для порок, зеленеет июнь.
Тогда – властвовал холодный ноябрь, с небом цвета жидкого бетона.
Господи, сохрани нас всех…
Мне не верится, что прошло так мало недель, не верится, что мне не пятьдесят, а всего лишь двадцать лет.
Разве заслужила я такую молодость?
Разве мои друзья заслужили быть запертыми в этом проклятом месте?
За какие такие победы нас наградили узкими койками и полупустыми тарелками жидкого супа? Во имя чего в нас швырнули лопаты и кирки?
– Хочешь, я укажу тебе направление, 744? – ерничает 17. – Видишь вон тот матрац?
Я перевожу извиняющийся взгляд на 744, но она не злится и не обижается.
Она – не реагирует. Не слышит.
Она смотрит на огонек, в котором переливаются триллионы необыкновенных образов, кажущихся куда реальнее тех, что ее окружают, и произносит, обращаясь вовсе не к 17:
– Если каким-то чудом девочка выживет – то не с нашей помощью. Если же умрет, в плену или на воле – то не иначе, как с нашей.
И пропадает.
20
– 744? – дергаю за правый рукав я. – Эй, 744? Ау?! Ауауау?!
– Не трогай ее, – говорит 1, и я, сдувшись, точно проколотый мяч, опускаю руку.
Ясно же, что если 1 велит не делать что-то или, наоборот, велит что-то сделать – то, без сомнений, так оно и нужно.
Ха! Но смотреть-то он не запрещает.
И потому я смотрю на 744 во все глаза и спрашиваю, невесть кого и невесть зачем: «Вот же дела, а? Во дела?». И удивляюсь, будто бы в первый раз: ну как у нее выходит такое эдакое? Ммм? Раз, два – и выключиться? Вроде как с нами быть и не с нами? Хоть голышом перед ней выплясывай, хоть улюлюкай – ничего не заметит!
– Вот бы залезть ей в голову, – шепчу я. – И поглядеть, что там.
5
– Не стоит, малыш, – тяжело вздыхаю я, поплотнее укутывая в одеяло свои старые кости. – Застрянешь ещё ненароком.
Мнится, что холод исходит не от бетонного пола, а от суставов, скованных не только возрастом, но льдом.
Месяца полтора-два назад, помнится, 17 выменял для меня носки из грубой шерсти – но тут уж, ничего не состряпать, славный подарок роли особой не сыграл.
Лета мои тому виной.
Ну да. Ну да.
Тяжело быть стариком в таком скверном месте… Почитай, я один и остался из моего поколения. Да и то – благодаря заступничеству 1, хитростью протолкнувшем меня на должность старосты общежития.
– Как это – застряну?
– Как, как… Взгляни на 744. Видишь? Ей, быть может, не так уж и просто возвращаться к нам из своего лабиринта. Там, быть может, ловушки да кривые дорожки. Чудища. Охотники. Сети.
– Ну тогда ей, наверное, нужен проводник? – вскидывает рыжие брови 20. – Друг, который помог бы выйти наружу? Который крикнул бы: «Хей! Иди на голос!» и спас бы ее. Мы с ребятами по туннелям так и гуляли. Не терялись.
– Нашли где гулять, – фыркает 17. – Знаешь, что там раньше плавало? В канализационных туннелях?
– Что плавало, то давненько высохло, – хихикает 20. – Токмо крысы надоедали. Ух, сволочи! Кажись, начальниками старого Города были не люди, а эти гады серые.
– Ясное дело, – бурчит 17. – Долго же до тебя доходило.
– Может и нужен, – встреваю я. – Всем нам проводник нужен, верно? Только вот… вдруг с 744 всё наоборот? Вдруг она хочется уйти вовсе не оттуда, а отсюда? А мы мешаем ей постоянно? Вдруг ей там больше нравится? Кто знает, кто знает…
17
– А кто, кстати, знает? – любопытствую я, умудряясь проглотить твердокаменный кусок вяленого мяса и не задохнуться при этом. Какими такими путями 1 умудрился достать столь изысканный деликатес в наших небогатых угодьях?
– Уж 1 точно знает, – чавкает 20, рискуя выдрать себе передние зубы.
Как по сигналу, мы переводим взгляды с 744 на 1.
Принципиально молчащего.
Молчащего так долго и упорно, что каждый в подвале отчетливо слышит урчание ненасытившегося желудка 303.
Без промедлений, я отдаю ей оставшуюся часть своего обслюнявленного обеда и с энтузиазмом продолжаю гнуть несгибаемое:
– Ну?
– Почему вы так уверены в моей осведомленности? – устало вопрошает 1.
– Да потому что тебе всё на свете известно, – заявляет 20 таким высокомерным тоном, будто объяснять нам, ослам, элементарные вещи – слишком утомительное дело.
– Рад, что произвожу такое впечатление, – говорит наш главный с черной, как его круги под глазами, улыбкой.
– Ну? – не могу угомониться я. – Не тяни.
– Когда-нибудь она сама поделится с нами воспоминаниями.
– Ага, поделится – если не свихнется окончательно.
Чавканье 20 возобновляется.
– Дружок, давай ты…
– Я не свихнулась, 17, – неожиданно подает голос 744. – Разум мой чист, как никогда. Ибо только теперь можно с уверенностью сказать, что я – это я. И никто другой.
Глаза мои, совершенно непроизвольно, закатываются до самого затылка.
– Вот об этом и речь.
1
– Помнишь, как мы с тобой познакомились, 744? – поворачиваюсь я к ней.
Помнит ли?
Я спросил ее тогда, во время нашего первого разговора: «Знаешь, как отсюда сбежать?»
Спросил, не ожидая и не требуя ответа.
Спросил для того, чтобы понять: почему 5 так настоятельно упрашивает меня взять ее, увечную, под защиту?
– Единственный способ сбежать, – уставилась она в драный желтый линолеум, – это сбежать в минуту великой неразберихи.
Девчонка подняла голову – и я подумал, что она, определенно, блаженная.
Но отнюдь не беспомощная.
Ещё подумал, что 5, возможно, прав. Она пригодится нам.
– Помнишь, как мы с тобой познакомились, 744? – поворачиваюсь я к ней.
– Помню, – кивает она, не притрагиваясь к еде. – Помню. Старик явился на четвертый день моего пребывания в лагере, незадолго до пробуждения заключенных, и велел идти следом.
Я послушалась, ибо 5 был старостой соседнего общежития, ибо лицо его было лицом доброго человека, ибо я всегда была ведома теми, кто излучает свет и тепло.
Мы шли осторожно, от стены к стене, от столбов для порки к позорным столбам.
Не перешептывались.
Огни прожекторов потеряли свою силу, и потому сонные охранники на вышках не заметили нас – они заметили лишь облепиховую зарю, ласкали взглядами растворяющийся в отблесках месяц.
Красота граничила с уродством. Уродство казалось красивым. Я пыталась понять: свободны ли заключенные во сне, или ночь для них является продолжением дневных пыток?
Ответа у меня не было.
Заключенные не рассказывали о своих снах. Если они и видели в них что-то плохое – то поутру умывались печалью. Если же видели что-то хорошее – то всё одно поутру умывались печалью.
Проскользнув внутрь соседнего общежития, в царство приглушенных голосов и согбенных шей, мы поднялись на второй этаж и остановились у двери, похожей на десятки других дверей.
Оглянувшись по сторонам, 5 взялся за ручку – и в тот же миг, вспышкой молнии, громом среди ясного неба, мне вспомнились обнажившиеся доски древней гостиницы, по которым эта самая рука стучала тысячу лет назад.
– Какие такие доски? – не понимает 20.
– Те, что подарили убежище в канун падения старого Города.
– Так и было, – с грустью подтверждает 5. – Так всё и было. Помнится, штукатурка усыпала наши волосы. Эх, не довелось мне починить здание. Не довелось… Больно-то как, а? Осознавать, что старый Город разрушается теперича не с нашего благословения, но с благословения тех, кто считает себя его новыми хозяевами?
– Дальше-то что? – торопит 17. – Ты пришла к 1. И что ты ему сказала?
– Сказала, кто я.
– И кто ты?
744
– Я – это я.
– Действительно, – серьезно произносит 17. – Вот же тупой вопрос! Ты – это ты. А 20 – это 20. И потолок – это потолок.
– Дьявол, – ворчит 5. – И артроз – это артроз. Ни с чем не спутать.
Друзья мои смеются, но они не понимают, что большего говорить и не нужно. Они не догадываются, что тот, кто ищет чистую, обыкновенную правду, найдет ее в самом коротком ответе.
Слова обманчивы, как отбойные течения, а речь, какой бы глубокой и длинной она не была – не может передать сути, ибо речь – не более, чем искаженное воспроизведение внутренних переживаний. Мне не нужны признания и откровения, я прекрасно вижу, ужасно чувствую каждого в этом мрачном подвале
1 сидит прямо, моргает раз в полторы минуты, разум его утомлен, но не расслаблен
редкие зубы 5 сжаты до боли в деснах, тревога за близких пронзает насквозь
17, точно обреченный на повешение, улыбается одними губами
исцарапанные пальцы 20 быстро перебирают деревянную фигурку кота
303 обнимает себя руками, теряется и тонет в своих страхах
Я читаю их.
Глаза, морщинки, движения плеч.
Ритмы дыхания говорят о скорости сердцебиения, скорость сердцебиения меняется в зависимости от мыслей.
Этого достаточно, чтобы разгадать главную загадку последних дней: среди нас нет того, кто был бы уверен, что после побега жизнь наладится.
303
Выдыхаю. Заставляю себя прислушаться к разговору.
– …. воплощение гуманности, – полушутя-полусерьезно излагает 17. – Душа и сердце нашей небольшой компании. Если бы 5 жил в старые времена, то он бы, наверняка, по утрам ходил на демонстрации в поддержку голодных африканских детишек, а вечерами, после утомительного дня – приносил бы бездомную животину в дом.
– Разве всю свою жизнь он занимается не тем же самым? – справедливо замечает 1.
– Довольно сочинять, – позабыв на время о своих суставах, усмехается 5. – Демонстрации я не посещал.
– Но меня ты спас, – неестественно высоким голосом произношу я. – Подобрал у ворот лагеря. Как раненную животину. Что бы со мной сделали другие заключенные, если бы не ты?
И почему мне вдруг захотелось заговорить? Разве это не рискованно – расточать благодарность, когда от гибели нас отделяет всего лишь потолок и пара дверей? Накликать беду речью, которую непременно выдают перед концом?
– Я ведь на ногах стоять не могла, – продолжаю я, точь-в-точь как 17, не контролируя словоизвержение. – Говорить не могла. Плакать не могла. После охотников-то… Ты нёс меня на руках. Сказал, что всё будет хорошо. А если не хорошо, то по крайней мере – не хуже. Вернул мне веру в то, что доброта не исчезла из мира, что есть ещё люди, достойные называться людьми.
– Бедная, бедная девочка… – шепчет 5, темнея лицом. – Каждого бы из них застрелил. Видит небо.
– Твари, – рычит 17. – Ублюдки. Насильники.
– Тише, тише, милый, – дотрагиваюсь я до его локтя.
Кожа у 17 горячая, как и сердце. Ничуть не стесняясь взглядов друзей, он целует мою истерзанную кирпичами руку. Я невольно улыбаюсь: с какой быстротой и легкостью у него получается меня успокоить!
– Это моя вина, – сообщает 744, с такой же быстротой и легкостью разрушая счастливое мгновение. – Только моя вина. И ничья больше.
Её поразительные, оленьи очи в полумраке – абсолютно угольные, без белка и без ресниц.
20
– Почему-твоя-вина-ты-чтоли-знала-303-раньше?! – от удивления у меня аж в носу засвербело. Уфффь. А я-то думал, что всё про всех выведал! И тут на тебе – открытие! Да ещё какое! Вот так и живи с людьми бок о бок, доверяй им. Особенно 5. Ведь он всё знал. По глазам вижу – знал. И молчал.
– Моя вина в том, что я не помогла тогда, когда должна была помочь, – крутит 744. – И ушла тогда, когда должна была остаться.
– А почему ты ушла?
– Потому что не могла не уйти.
– А почему не могла?
– Потому что страх был сильнее голоса совести.
– Огооо, – тяну я. – Правда? А вот 17 говорит, что ты настолько ку-ку, что уже ничего не боишься.
– Ну что за непутёвый ребенок! – смешно возмущается 5. – А ты-то, 17, чего лыбишься? Поменьше бы трепался – умнее бы выглядел.
– Умнее уже некуда, – отзывается 17.
– И всё-таки, 744, – снова набрасываюсь я с расспросами, утирая нос рукавом. – Что произошло? Я, по правде говоря, ничегошеньки не понял.
– Произошло то, что не могло не произойти, ибо каждому суждено узреть сущность свою, – очень и очень серьезная, совсем не улыбчивая, она смотрит на меня прямо как на настоящего взрослого (бррр, до чего неприятное ощущение!). – Три дня минуло с тех пор, как пал под пулями старый Город. Двадцать четыре часа – как ноги наши ступили на заброшенную землю промышленной зоны, по-кладбищенски пустынную и тихую. Там, под серым небом, среди уродливых зданий с провалившимися крышами, между ржавыми гаражами, в зарослях сухого кустарника, властвующего на безжизненных территориях, мы встретили ее. Встретили – и оставили одну, опасаясь ее преследователей.
– 303? – уточняю на всякий случай я.
– 303, – кивает 744.
Ну и ну! Теперь мне всё ясно. Точнее: ясно всё, кроме одного.
– 744, ты говоришь «мы», – с непонятной опаской произношу я. – Получается, что ты была не одна?
– Не одна.
– А с кем?
– С ним.
– Что это за – с ним? И где он?
У 744 глаза очень темные. А сейчас – ещё темнее. Темнее самой черной ночи. Или мне это чудится? Она опускает голову, будто подбородок стал весить целую тонну, и еле слышно выговаривает:
– Умер.
5
Вот оно что. Вот оно как.
Сколько приятелей, сколько случайных знакомых я похоронил – а сердце всё одно камнями придавливает. Нужно было сразу скумекать, что с ним стряслось – чай не младенец, – но в такие вещи верится с большой неохотой.
– Жаль, – охаю я. – Хорошим он был человеком.
– Ты его знал? – изумляется 17.
– Видались пару-тройку раз.
– Да что за – он?! – шепотом вопит 20, смахивая падающую на глаза чёлку. – Кто-нибудь объяснит?!
– Маяк средь гибельных штормов, погасший в руинах старого Города.
На секунду мы теряемся. Уж кто-кто, а 744 может сбить с толку.
– Господи ты Боже мой, – пощипывает заросший подбородок 17. – Откуда ты берешь вот это всё? Заранее сочиняешь?
– Отстань от нее, – бормочет 1, не скрывая недовольства, и я, запоздало, но всё ещё к месту, принимаюсь рассказывать:
– Он и его односельчане захаживали ко мне в трактир время от времени. Ужинали, ночевали, закупались провизией – да и отправлялись восвояси. Умаявшиеся люди. Угрюмые. Вопросами я их не донимал. Сами понимаете – не моё дело. Да и с какого перепуга они должны были открывать свои секреты какому-то старику? Ещё и трактирщику? Слухи, однако, ходили разные. И занятные. Поговаривали, что дороги этих людей пролегали в те деревни и сёла, которые ещё не были сожраны захватчиками. Что, мол, шли они не просто в гости, на похороны да поминки – а прямиком на собрания, чтобы призвать свободных к сопротивлению против господ нового мира.
– Слухи эти всем известны, – произносит 17.
– Известны… Но правдивы ли? Думается мне, молва не лжет. Он никогда не говорил прямо – лишь намеками да кивками. Опасался, небось, доносов. Сволочей у нас в Городе хватало, не поспоришь. Да и тут их – немерено.
– Как бы то ни было, но со сборами они припозднились.
– Припозднились иль не припозднились – не важно. Важно то, что они хоть что-то да делали. А мы?
– Мы сидели на задницах.
– Вот-вот. А всё почему?
– Почему?
– Потому что нутро у нас гнилое с самого детства. И как ему таким не быть, коли отцы наши – не кто иные, как подонки, которых когда-то общим голосованием выгнали из деревень?
17
– Не драматизируй, – отшучиваюсь я. – Мы не гнилые. Мы – переспевшие. Деревенские, по сравнению с нами, просто саженцы. Такие наивные, беспомощные саженцы. Которые с изменением климата мгновенно загибаются. Не все, конечно. Но большинство. Ты, 5, лучше подумай вот над чем: если этот самый он – был по-настоящему хорошим человеком, то какого лешего он не помог 303? Я склоняюсь к мысли, что его нутро тоже оказалось с душком.
– Ты, вестимо, самым первым бросился бы помогать беглой, – ехидничает 5, потирая левое предплечье.
– Не сравнивай. Не припомню, чтобы меня называли хорошим человеком.
– Неужто тебя это задевает?
– Шутишь что ли? Нет. И ещё раз нет. Просто раздражаюсь, когда некоторых незаслуженно идеализируют.
– Он не был идеалом, но был достойным мужчиной, чьи опоры однажды разрушились, – заводит волынку 744. – Я видела, как горит дом мой, как гниют от скорби опустевшие поселения, как сминается под ужасающей мощью порочный Город. Однако он – видел больше и дальше. Он видел, что время наше подходит к концу, что бой, не имевший шанса на победу, заранее проигран. Осознание бессмысленности всего, что прежде делалось, во что прежде верилось, подкосило его – и отбросило в сторону сочувствие к 303. Мне не под силу было вдохнуть в уставшее сердце свет, ибо во мне он тоже погас. Замасленные оболочки, искорёженные недолюди – вот какими мы покинули старый Город.
– Какое красноречивое оправдание, – с издевкой говорю я. – Хоть на бумажке записывай.
– Это не оправдание, – впервые на моей памяти лицо 744 приобретает выражение «нормальности». – А раскаяние.
– Храбрость его пошатнулась, он осознал бессмысленность… Ну-ну.
Подвал погружается в напряженное молчание.
Даже мухи не жужжат – что не может, в общем-то, не радовать.
Понимая, что нужно разрядить неприятную обстановку, установившуюся по моей вине, я заторможено перебираю темы для мирных дискуссий – и (как такое может быть?) не нахожу их.
Дерьмо.
В этой каменной коробке, в этом твердом панцире способность размышлять трезво улетучивается. Исчезает вместе со сном и веселым настроением. Прогрессирующая хандра, мать ее.
Я открываю рот, чтобы, наконец, испортить тишину малосодержательной фразой – но не издаю ни звука, потому что в ту же секунду, где-то неподалеку, раздается одиночный выстрел.
Мы вздрагиваем.
Поднимаем головы.
Прислушиваемся.
Что там сейчас происходит, черт возьми?
Заключенных одолели быстро. По-другому и быть не могло. Поутру состоялась казнь самых отчаянных бунтовщиков – ровно стольких, чтобы осадить толпу и не вызвать гнев начальства. Пулеметная дробь возвещала о мгновенно вынесенных приговорах громко и яростно.
Так что там сейчас происходит, черт возьми?
Новое показательное выступление?
– Да, – кивает 744, и мне становится не по себе. – Вот так он и прозвучал.
– Что? – тупо спрашиваю я.
– Выстрел.
– Какой, нахрен, выстрел?
– Тот, которым я убила его.
1
– Что? – разевает рот 17.
– Что? – вторит ему 20.
303 смотрит потрясенно, с испугом.
5, оглушенный новостью, молчит.
Я – в который раз пытаюсь представить, какой была 744 до этого выстрела. Похожей на 303?
– Почему? – 303 расстроенным ребенком склоняется к центру нашего круга. – Почему ты это сделала?
– Хотела спасти его