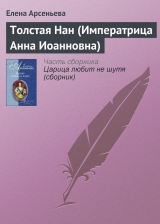
Текст книги "Толстая Нан (Императрица Анна Иоанновна)"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Какое-то время все оставалось шито-крыто, но... повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить. Однажды грянул снегопад. Торя в снегу тропу, Мориц так заворковался со своей крошкой, что не заметил: по двору, как нарочно, тащилась в это время старуха служанка с фонарем. Ей почудилось в метельной сумятице, что она видит привидение о двух головах. Служанка завопила так, что мертвого могла бы разбудить. Да еще фонарем своим махала! Мориц сделал поистине акробатический выпад, чтобы ногой вышибить у заполошной бабки дурацкий ее фонарь. Однако поскользнулся – и рухнул наземь вместе со своей громко завизжавшей ношей...
А охрана герцогини в те дни и ночи держала ушки на макушке, ибо что в городе, что в окрестностях пошаливали дерзкие разбойничьи шайки. Спали вполглаза, не гасили факелов. Ох, неудачное время выбрал Мориц для амурных шалостей!
Итак, старуха кричала, фрейлина визжала, Мориц страшно бранился, набежавшая охрана вопила: «Лови-держи!», и двор был залит светом факелов. Анна, которой не давали уснуть мечты о Морице и о близком супружеском счастье с ним, подскочила к окну – и теперь наблюдала за всем этим Содомом и Гоморрой.
Она поняла, что обманута... что утонченный граф совершенно, ни чуточки не любит жирной вестфальской колбасы, а предпочитает ей другие лакомые кусочки.
Мориц высунул из сугроба свою занесенную снегом черноволосую голову и увидел в окне второго этажа герцогиню Курляндскую. Лицо Толстой Нан никогда не отличалось богатством мимики и выразительностью, однако сейчас каменная неподвижность ее черт была гораздо выразительней любой, самой злобной гримасы. И граф Саксонский понял, что герцогом Курляндским ему не стать никогда...
Да уж! Прежняя неуправляемая вспыльчивость ожила в душе Анны. Морицу был дан от ворот поворот, в Петербург и Дрезден полетели гневные послания с сообщением, что графу Саксонскому в Митаве делать более нечего.
Мориц не привык уступать и отступать и еще продолжал на что-то надеяться, однако в Митаву вошли четыре русских полка, командование которых имело недвусмысленные приказы насчет графа Саксонского, и означенный граф глубокой ночью бежал из Курляндии (вовремя предупрежденный очередной влюбленной красоткой), на рыбачьей лодке, рискуя жизнью, переправился через реку Лиелупе и кое-как добрался до Данцига, где смог перевести дух.
С горьким вздохом он осознал, что желания русской женщины и впрямь достаточно, чтобы разрушить... ну, если не город, то самые честолюбивые планы мужчины. Черт бы их всех побрал, этих русских женщин!
Так размышлял страдалец Мориц, ну а в Митаву, на освободившееся местечко, мигом ринулись другие претенденты на руку Толстой Нан, в их числе – старый герцог Фердинанд. Однако Анна Иоанновна была непреклонна. Прежде всего потому, что ее израненное сердце уже начал врачевать другой мужчина...
Впрочем, о нем речь впереди. А вообще-то, если сказать правду, простить Морица Анна не могла очень долго, и всякое напоминание о нем приводило ее в безудержную ярость. Поэтому беспокойство ее фрейлин Анны, Аграфены да Маргариты о судьбе неуклюжего гвардейца, который невольно вызвал у императрицы неприятные воспоминания, было вполне обоснованным.
Да... Ноздри Толстой Нан раздулись, брови сошлись к переносице, рот стиснулся в нитку. «Вот идет царь Иван Васильевич!»
Ох, не сносить головы бедолаге-гвардейцу, который даже сороку из сугроба достать не смог толком!
И вдруг... вдруг Анна вспомнила, как совсем недавно дала от ворот поворот двум настойчивым искателям ее руки. Одним был португальский инфант Эммануил, а другим – смеху подобно, до чего судьба все умеет поставить на надлежащее место! – претендентом оказался тот самый Мориц Саксонский. Неунывающий волокита по-прежнему верил в свою неотразимость!
Что и говорить, теперь он славился не только как отъявленный бабник, но и как один из лучших полководцев Франции. С тем большим удовольствием Анна ему отказала. И теперь воспоминание об афронте, который потерпел удачливый вояка от Толстой Нан, от «жирной вестфальской колбасы», пролило бальзам на ее сердце, в котором начали было саднить старые раны. Брови разошлись, глаза перестали люто сверкать, по губам скользнула улыбка.
– Скажите, чтоб расчистили дорожки в парке, – миролюбиво приказала она фрейлинам и, круто повернувшись, широко зашагала через анфиладу комнат в свою спальню, где имела обыкновение отдыхать после обеда... на одной постели с новым герцогом Курляндским, российским канцлером и своим давним фаворитом.
Это и был тот мужчина, который весьма удачно исцелил раны ее сердца, а потом и безраздельно завладел им.
А также – всей Россией.
И худо пришлось тем, кто пытался ему помешать!
* * *
– Ну, чего молчите, господа хорошие? Императора у нас более нету... и завещания нету никакого. Завещание Екатерины не имеет значения: с ним нечего считаться. Она не имела никакого права его делать. Девка, вытащенная из грязи! Другое же завещание...
Сенатор Дмитрий Голицын запнулся и посмотрел на князей Долгоруких. Ишь, мигом навострили уши! Думают, коли умер мальчик-император Петр Алексеевич, обрученный жених этой гордячки Катьки Долгорукой, то ей, невесте, теперь прямая дорога на царство. Ходят какие-то смутные слухи, якобы они измудрили что-то с духовной юного государя, надеются Бог весть на что... Ну и зря надеются!
– Другое завещание, приписываемое Петру II, – возвысил голос Голицын, – подложное!
Кто-то из Долгоруких попытался протестовать, но Голицына было не остановить.
– Вполне подложное! – с силой повторил он, пристально озирая присутствующих и радостно осознавая, что с ним все согласны: нового возвышения временщиков Долгоруких, которые из юного императора веревки вили, никто не хотел.
А кто, кто возвысится? Ну, понятное дело, тот, кто сделается ближе других новому государю либо государыне. А кто станет российским государем либо государыней?
Об том и шел 19 января 1729 года, немедля после смерти юного Петра Алексеевича и учинившегося в стране безвластия, тяжкий спор в Лефортовском дворце. Вели этот спор члены Верховного Совета: канцлер Головкин, вице-канцлер Остерман, двое князей Долгоруких, Алексей Григорьевич и Василий Лукич, сенаторы Дмитрий Голицын, Павел Ягужинский и еще двое или трое почтенных господ.
– Ублюдки Петра I не могут приниматься в расчет, – торопился Голицын, разумея под этим оскорбительным словом не только легкомысленную Елисаветку, которая умудрилась своим поведением отвадить от себя всех серьезных женихов, но и сына ее недавно умершей сестры Анны Петровны, голштинского принца Петра-Ульриха.
– Да уж, незаконнорожденных нам не надобно! – поддержали собравшиеся.
– Евдокия Федоровна имеет свои права, но права трех дочерей царя Ивана стоят выше, – продолжал Голицын.
Про первую жену Петра, Евдокию Федоровну Лопухину, отвергнутую, ошельмованную царицу, страдалицу-инокиню, в святом постриге Елену, понятно всем, помянуто было из чистой вежливости. Ну какая из нее государыня?! Пускай спокойно доживает свой век, на котором пришлось ей хлебнуть горя с избытком! А вот к словам о трех дочерях Ивана следовало прислушаться. Опять прав Голицын!
– Старшая должна быть исключена из-за своего мужа, – веско изрек Дмитрий Михайлович, и собравшиеся вновь согласно кивнули. Да уж, выдвинуть на русский престол герцогиню Мекленбургскую – это значит короновать ее придурковатого скандалиста-мужа. О младшей, царевне Прасковье Ивановне, тоже речи быть не может: она в морганатическом браке с Василием Дмитриевым-Мамоновым.
Ну, коли так, выбор невелик: все сходится на Анне, герцогине Курляндской.
– Женщина вроде бы умная, – не вполне уверенно изрек Голицын, разумея под сим словом: покладистая, сговорчивая. – Поговаривают о ее дурном характере, но курляндцы на него не жалуются...
И ни слова не было молвлено о происхождении Анны и о тех слухах, которые ходили насчет ее фактического отца! Елисаветка, родители которой обвенчались уже после ее рождения, значит, ублюдок и незаконнорожденная. А герцогиня Курляндская, прижитая царицей Прасковьей от спальника Юшкова, достойна сидеть на русском троне?..
Да на самом-то деле происхождение в расчет не шло. Дураку понятно: забитой Анной легче управлять, чем своенравной Елисаветкой, которая слишком часто вспоминает, кто ее отец!
При имени Анны Иоанновны князь Василий Лукич Долгорукий встрепенулся. Он частенько бывал в Митаве и поддерживал неплохие отношения с герцогиней Курляндской. Истинная правда, с ней вполне можно сговориться и поладить. Она уж плесенью покрылась в своей зачуханной Курляндии, и чтобы вырваться оттуда, да еще к такому славному жребию, Анна на все пойдет. На все условия и ограничения своей императорской власти!
Спустя некоторое время, после изрядных споров, эти самые условия были «верховниками» разработаны. Кто-то называл их пунктами, кто-то – «кондициями», но суть от того не менялась: конституционная монархия ? la russe, доступ к государственному пирогу открыт лишь для нескольких родовитых семей, в то время как худородные и, конечно, народ остаются за пределами пиршественного стола.
Ну а сама императрица?
«Верховники» твердо придерживались распространенного в ту пору (и не только в ту!) убеждения: курица не птица, а баба не человек. Они были убеждены, что допускают до власти расфуфыренную куклу, этакую «петрушку» женского пола. Не государыню на престол возводят, а бабу на чайник сажают. Ну а коли так...
Коли так, императрица должна была: стремиться к распространению православной веры; не вступать в супружество и не назначать наследника; содержать Верховный Совет, состоящий из восьми лиц, постановления коего необходимы: для объявления войны, для заключения мира, для введения новых налогов, для назначения военных чинов выше полковника, для лишения жизни, имения или чести у представителей знати, для пожалования вотчин или деревень, для назначения на придворные должности русских или иностранцев, для расходования государственных средств на личные нужды. Вот в чем состояла суть тщательно разработанных «кондиций».
– Да, вот еще что, – ворчливо изрек Василий Лукич Долгорукий. – Там у нее в Митаве галант имеется. Силу взял большую при ее особе. Надобно Анне сказать, что нам тут никаких галантов не надобно! Небось нагляделись мы тут на Екатерину-покойницу! Налюбовались! Чтобы не вздумал этот Бюренс ней в Москву притащиться!
– Бюрен? – удивился Голицын. – А я слышал, он Бироном прозывается.
– Да какой он, к лешему, Бирон? – отмахнулся Василий Лукич досадливо. – Примазывается к французскому герцогскому дому, вот и велит называть себя Бироном. А на самом-то деле – Бюрен, сын немчика-офицера, то ли конюх, то ли мелкий дворцовый чиновник, даже никакой не дворянин. Аннушка для него дворянское звание пыталась выхлопотать, но курляндский сейм ей отказал.
– Неужто?! – раздалось всеобщее изумленное восклицание. – И она сие безропотно снесла?!
– А куда ж ей деваться? – хмыкнул Долгорукий. – Так что – никаких тут Биронов!
За каждым словом этого диалога звучало куда больше, чем высказывалось вслух. Ежели Анну какой-то сейм курляндский к ногтю жмет, то уж Верховный Тайный Совет при ее особе власть заберет невиданную!
Было составлено послание Анне в Митаву:
«Премилостивейшая государыня! С горьким соболезнованием Верховный Тайный Совет доносит, что Вашего любезнейшего племянника, а нашего всемогущественного государя Петра II не стало, и мы заблагорассудили российский престол вручить Вашему императорскому Величеству и всепокорно просим немедля сюды, в Москву, ехать. 19 января 1730 года».
Окрыленные надеждами «верховники» объявили свое решение дворянству, самонадеянно убежденные в его поддержке. Сказано было также, что наутро три депутата выедут в Митаву, продиктовать будущей царице «общую волю».
Но «верховники» ошибались, когда чаяли всеобщей поддержки. Во-первых, вице-канцлер Остерман, скользкий, словно уж, хитрый, будто змий премудрый, по своему обыкновению незамедлительно заболел и подписи на соглашении не поставил. Во-вторых, среди дворян отыскались люди, которые желали не просто самодержавной монархии в России, но именно самодержавной власти Анны Иоанновны. Разумеется, и они преследовали свои интересы, но выглядело все так, словно они стоят на страже интересов прежде всего будущей императрицы. Среди этих людей были братья Левенвольде, жена сенатора Ягужинского Анна Гавриловна, а также бывший камердинер покойного императора Степан Лопухин и его жена Наталья Федоровна, урожденная Балк, немка и близкая приятельница Анны Иоанновны еще по старым временам.
Лишь услышав от своего мужа о заседании и выработанных «кондициях», Анна Гавриловна Ягужинская спешно написала записку, которую отправила с доверенным слугой к своей лучшей подруге – Наталье Федоровне Лопухиной. Вскоре после того некая дама, чье лицо и фигура были скрыты черным плащом, постучала в дом, где жил Карл-Густав Левенвольде. Это была сама Наталья Федоровна. Ей не привыкать было скрываться под плащом и маской, когда она бегала по своим многочисленным любовникам, но сейчас ее визит к старшему Левенвольде (который тоже числился в ее галантном списке) не имел никакого отношения к амурным делишкам.
Визит Натальи Федоровны был краток. Стоило ей удалиться, как Левенвольде торопливо написал какое-то письмо, потом вызвал к себе доверенного камердинера – и спустя несколько минут тот канул в ночь на самом быстроногом коне. Он вез за пазухой письмо Карла-Густава и держал путь в лифляндское имение Левенвольде, где скучал красавец Рейнгольд, сосланный после смерти Екатерины.
Прочитав, что написал брат, Левенвольде-младший в свою очередь оседлал коня и унесся в Митаву, словно был не знатным вельможей, а самым обычным курьером.
Впрочем, нынче было не до чинов и званий! Предстояло спешно уведомить герцогиню Курляндскую о том решении, которое было принято в Санкт-Петербурге, предупредить, чтобы она не боялась «кондиций» и не относилась слишком серьезно к тому слову, которое ей придется дать «верховникам»... Таким образом, уже за сутки до того, как к Анне Иоанновне с тем же предложением прибыли гонцы от дружественно настроенного к ней сенатора Павла Ягужинского и священника Феофана Прокоповича, сторонника неограниченной монархии, и на двое суток раньше, чем в Митаве появились официальные представители «верховников», герцогиня Курляндская знала и о «кондициях», и о том, что подпишет их, а впоследствии уничтожит, дабы сделаться всероссийской императрицей. И тогда она воздаст каждому по делам его!
Странно – узнав, что призвана на русский престол, Анна первым делом ощутила не радость, а некую растерянность. Никогда не верила она в поговорку: дескать, все, что ни делается, делается к лучшему, а сейчас вынуждена была склонить голову перед правдивостью сего старинного присловья. Как она страдала из-за измены Морица! А ведь сложись между ними все по-доброму, не видать бы ей русского престола никогда в жизни, как не видать его старшей сестре Катерине из-за ее мужа. Мориц – он ведь покруче герцога Мекленбургского будет! А еще вспомнилось Анне, как однажды явился к ней астролог Фридрих Буффер и посулил, что она станет императрицей. Герцогиня Курляндская тогда лишь хмыкнула и посоветовала ему пойти проспаться.
Ишь ты, не соврал звездочтец!
И она позволила себе робко порадоваться известию. Но недолго: душу захлестнула ярость.
Анна подошла к зеркалу и уставилась на свое отражение. Она знала, что ее прозвище – Толстая Нан, а лицо называют невыразительной, грубой маской. Она всегда страдала из-за этого и уповала лишь на то, что глаза – ее острые, карие, небольшие, но яркие глаза – придают ее тяжелым чертам живость и выразительность. Однако сейчас она смотрела в зеркало и молила Бога, чтобы тот дал ей силы пока что притушить жаркий пламень этих глаз. Она боялась, что глаза выдадут ее преждевременно. Выдадут ее ненависть...
О, с каким удовольствием она дала бы себе волю! С каким бы удовольствием добралась до Долгорукого! Ведь он посмел запретить приезд в Россию Эрнеста! Эрнеста, который вот уже сколько лет был ее жизнью и счастьем!
Он принадлежал как раз к тому типу мужчин, который заставлял сердце Анны трепетать. Смуглый, не слишком высокий – среднего роста, с резкими, недобрыми чертами лица и хищным носом, он скорее напоминал пылкого испанца, чем хладнокровного немца. Чем-то, может быть, разрезом черных глаз, которые у него и впрямь были редкостно красивы, а также сильным подбородком с трогательной ямочкой, он напоминал Анне умопомрачительного Морица.
А впрочем, что такое Мориц? Бабник, папильон, ветреник! А вот Эрнест... Он уже десять лет верен той любви, что с первого взгляда вспыхнула между герцогиней Курляндской и незначительным канцелярским чиновником, который как-то раз, во время болезни Петра Бестужева-Рюмина, принес Анне Иоанновне бумаги на подпись.
Хотя нет. Он и прежде служил при курляндском дворе. Он даже в Петербург ездил вместе со своей госпожой! Однако раньше Анна его словно бы не видела. Вот чудеса, а? Бывает же такое! Прежде не видела, а теперь... точно молнией ее ударило!
Герцогиня посмотрела в бумаги, потом в глаза молодого человека, потом, вдруг страшно засмущавшись, скользнула взглядом по ямочке на подбородке...
– Отныне будете мне бумаги каждый день приносить, – произнесла, не узнавая своего внезапно охрипшего голоса.
Он должен был что-то сказать. «Слушаюсь», или «Воля ваша», или «Как прикажете», или еще нечто в том же роде. Он ничего не сказал, только стоял и смотрел на нее. Потом сделал резкое движение вперед... то ли к руке ее припасть хотел, то ли к губам.
Анна отпрянула. А впрочем, между ними стоял большой, широкий стол.
Никакой опасности. Не о чем беспокоиться.
Какая жалость!..
– Как вас зовут? – спросила Анна тем же чужим, неузнаваемым голосом.
– Эрнест-Иоганн, – ответил он, совершенно правильно поняв вопрос: герцогине хотелось знать его имя, а не фамилию!
– Эрнест-Иоганн, – повторила Анна. – Эрнест-Иоганн... Сядьте, возьмите перо, пишите.
Он метнул на герцогиню удивленный взгляд: писать секретарю назначено, а он лишь мелкий канцелярист. Не по чину честь! Однако через минуту понял, что никакой субординации не нарушено: написать под диктовку Анны Иоанновны ему пришлось приказ о назначении его, Эрнеста-Иоганна Бирона (именно тогда он первый раз назвался этой звучной аристократической фамилией, с облегчением избавившись от бюргерского, обывательского Бюрен), секретарем герцогини Курляндской.
На другой день, вернее, за полночь, когда в замке стихла суета, дверь в приемную, где засиделся усердный новоиспеченный секретарь Бирон, медленно отворилась. Вошла герцогиня, и он впервые увидел ее глаза нежными, потом страстными, потом счастливыми.
Да, из всех мужчин, которые у Анны были, только Эрнест смог сделать ее счастливой. Более того – она впервые почувствовала себя любимой и желанной! Ну разве могла она после этого выпустить его из рук? Разве можно расстаться с ним? Их связывают объятия и поцелуи, их связывают надежды... В конце концов – дети!
Вот именно.
Курлядский двор полнился слухами и сплетнями. Герцогиня не замужем, откуда же вдруг эти странные недомогания, бледность, обмороки, тошнота, напоминающая тошноту беременной? Конечно, она вообще толста, но отчего живот у нее вдруг начинает чрезмерно выдаваться, а потом девается невесть куда?
Ах, у нее привлекательный доверенный секретарь? Или он все же конюх? Нет, не конюх, но именно он держит стремя герцогине, которая обожает верховую езду, и сопровождает ее во всех, самых дальних поездках, причем оба они такие лихие всадники, что свита не может за ними угнаться и они подолгу остаются наедине... Хи-хи-хи... И он холост, этот доверенный наездник? Так вот оно что! Тогда все понятно...
Даже в глухой, провинциальной Митаве требовалось соблюдать какие-то приличия. И Анне очень не хотелось, чтобы все эти разговоры достигли Петербурга! Поэтому она скрепя сердце приняла решение женить возлюбленного. Но, мучаясь жестокой ревностью, выбрала на роль «дамы-ширмы» – госпожи Бирон самую невзрачную из всех известных ей женщин. Впрочем, Бенигна-Готлиба фон Тротта-Трейден происходила из очень знатного и старинного рода, что должно было компенсировать в глазах мужа некоторые ее недостатки. О, совсем мелкие! Ведь Бенигна-Готлиба была всего-навсего старая дева, уродина, глухая, подслеповатая, кривобокая и болезненная. Вдобавок лицо ее до такой степени было попорчено оспой, что казалось узорчатым. Как раз то, что требовалось Анне! Правда, у фрейлейн фон Тротта-Трейден был отменной красоты бюст, но скромница Бенигна-Готлиба прятала его в корсет и прикрывала косынками. Так что о его существовании вообще можно было только догадываться.
Новая госпожа Бирон, конечно, была уродина, но уж дурой она точно не была. На людях изображала полное довольство супругом, наедине опасалась даже близко к нему подходить. Дома знай вышивала по шелку, в чем была великая искусница. Когда надо было, исправно корчила рожи и воротила нос от пищи, а потом привязывала на живот подушки, ну а вслед за тем становилась нежной матерью малышам, которые появлялись в доме Биронов. Откуда они брались? Ну, умные люди таких вопросов не задают. Разумеется, их приносил аист!
Герцогиня Курляндская к госпоже Бирон и ее детям чрезвычайно благоволила, поэтому, хоть она и принуждена была для начала выполнить некоторые условия «верховников» и прибыть в село Всесвятское под Москву без идола своего сердца, однако Бенигна-Готлиба и все дети Бирона были тут как тут. Даже недавно родившийся младенчик.
Вскоре вновь избранная государыня согласилась со всеми пунктами, предложенными «верховниками», и... не замедлила нарушить один из них. Пока только один – насчет высших военных назначений, которые она не имела права делать без санкции Верховного Совета. Вот как это произошло.
Во Всесвятское пришли часть Преображенского полка и часть полка конных гренадеров. Анна хорошо приняла их, велела всем подать водки и объявила себя полковником преображенцев и капитаном гренадеров. Она с удовольствием вообразила, как будут смотреться ее широкие плечи и могучий бюст в гвардейском мундире, и настроение у нее сделалось отменное.
Солдатики тоже пришли в восторг от радушия новой царицы. И когда до них дошли слухи, будто «верховники» намерены включить в текст присяги Анне и свои имена, дабы подчеркнуть свое равновеличие с ней, преображенцы прямо и веско посулили Василию Лукичу Долгорукому:
– Мы тебе кости переломаем, коли ты посмеешь это сделать!
Не посмел Долгорукий... Народ и армия присягнули императрице Анне.
Ну и ладно, все равно новая государыня крепко скована цепями «кондиций», утешали себя «верховники» и их сторонники. И вообще, Долгорукий держит ее мертвой хваткой. Она в императорском дворце гораздо больше оторвана от мира, чем даже в Митаве. Пусть будет довольна, что теперь имеет сто тысяч рублей в год. Каждого желающего посетить ее подвергают строгой проверке, Василий Лукич сам решает, допустить посетителя к государыне или нет...
Речь шла о посетителях-мужчинах, ну а женщины в расчет не шли. От них опасности не видели: баба, известное дело, не человек. Или дама, если вам так больше нравится. Все равно – не человек! А между тем именно дамы (женщины, бабы – как вам будет угодно!) и стали теми «почтовыми голубями», которые помогали Анне Иоанновне держать связь с миром. Сестра, герцогиня Мекленбургская, разбитная толстуха, которая в полминуты могла установить превосходные отношения с любым человеком, вербовала ей сторонников. Младшая сестра Анны, глупенькая Прасковья, для такого случая даже как бы поумнела и безошибочно исполняла приказы старших сестер. Верные Анна Ягужинская, Екатерина Головкина, записная интриганка Наталья Лопухина, которую вдобавок наставлял ее любовник, хорошо известный Анне Иоанновне Рейнгольд Левенвольде, жена Остермана, покорная каждому слову своего хитрющего супруга, – все они постоянно держали новую императрицу в курсе настроений общества, разносили ее посулы, привлекали на ее сторону новых и новых сторонников.
Конечно, даже к дамской болтовне на всякий случай прислушивался осторожный Василий Лукич, коего в этой ситуации вернее было бы перекрестить из Долгорукого в Долгоухого. Приходилось писать записочки, которые дамы прятали... в пеленках крошечного сына Бирона, – Анна потребовала, чтобы младенца приносили к ней ежедневно. Она перепеленывала его, вертела, ворковала над ним... извлекала из ленточек и кружев записочки, прятала туда новые. А письмо Феофана Прокоповича, убежденного сторонника неограниченного самодержавия, передали Анне в искусно сделанных часах, досмотреть которые у негласной охраны не хватило ума... Женщины перемудрили мужчин!
Месяц длилась подготовка к тому, чтобы поставить все на свои места в России. Анна набралась силы, уверенности. И вот настал знаменитый день 25 февраля 1730 года.
Императрица должна была в тот день подписать злополучные «кондиции» и встретиться в Кремле, в Грановитой палате, со сторонниками ограничения самодержавной власти. Долгорукий уверил ее, что несть числа таким людям. Однако их явилось – раз, два и обчелся. И когда эта горстка попыталась продиктовать Анне новые условия правления, еще сильнее ограничивающие ее власть, первой зароптала гвардия. Гвардейцы любят женщин... И, между прочим, толстушек любят куда сильнее, чем худых. Так что Толстая Нан пришлась им весьма по вкусу.
– Мы не позволим, чтобы диктовали законы нашей государыне! – кричали гвардейцы Анне. – Мы ваши рабы, мы не потерпим, чтобы вас притесняли. Скажите слово, и мы бросим их головы к вашим ногам!
В окна «верховникам» было слышно, как негодует народ, собравшийся около Кремля и подстрекаемый людьми Левенвольде. А солдат и подстрекать не надо было. Они дружно кричали:
– Смерть крамольникам! Да здравствует самодержавная царица! На куски разрежем того, кто не даст ей этого титула!
Долгорукому стало дурно. Он почуял провал и не знал, что теперь делать.
Анна внезапно сошла с трона и приблизилась к нему.
– Так, значит, ты обманул меня, Василий Лукич? – спросила печально, а потом вдруг проворно схватила знатного царедворца и знаменитого дипломата за нос. Ее пухленькие пальчики обладали силой необычайной: Анна привыкла крепко держать поводья и нажимать на тугие курки ружей, а потому Василий Лукич не рисковал вырываться – новая императрица запросто могла сломать его несчастный нос. – Обманул, обманул... – повторила Анна, а потом двинулась в обход одной из колонн, поддерживающих своды Грановитой палаты. И князь Долгорукий принужден был следовать за ней в унизительной позе.
Завершив обход столбов, императрица остановилась и наконец-то разжала свои немилосердные пальцы. Очень вовремя: еще миг, и Долгорукий задохнулся бы. Он стоял, хлюпая носом, хватая ртом воздух, хлопая слезящимися от боли и унижения глазами, а рядом, ни живы ни мертвы, толпились прочие «верховники».
– Вы, господа хорошие, намеревались за нос меня водить, но прежде я вас всех проведу! – изрекла Анна, и при взгляде на ее лицо старая шутка: «Вот идет царь Иван Васильевич!» – припомнилась многим. Однако... однако сейчас она уже не казалась шуткой.
Между тем Анна брезгливо пошевелила пальцами, которыми сжимала нос Долгорукого, и вдруг выхватила из рук Голицына листы со знаменитыми «кондициями». Помусолила их, вытирая пальцы, а потом... потом разорвала листы в клочья, словно... о Господи Боже... словно то были не прожекты ограничения самодержавия в России, а всего лишь использованная, никчемушная утирка!
Как же был ошеломлен и потрясен князь Долгорукий! Он вдруг понял в сей миг, что стиснутый, едва ли не сломанный императрицей нос – всего лишь малая малость из того, что его еще ожидает...
Народ и гвардейские офицеры поднесли Анне челобитную:
«Просим всемилостивейше принять самодержавство таково, каково Ваши славные предки достохвальные имели, а присланные к Вашему императорскому Величеству от Верховного Совета пункты уничтожить». Просьба опоздала – дело было уже сделано!
Участь «верховников» вообще и всего семейства Долгоруких, которых Анна почитала своими главными врагами, оказалась ужасна. Только вовремя принявший сторону Анны князь Черкасский, да хитрющий немец Остерман, да Ягужинский, всегда бывшие ее опорой, уцелели. Кто сгнил в тюрьме, как Дмитрий Голицын, кто угас в ссылке, подобно князю Алексею Григорьевичу Долгорукому, кто расстался с жизнью на плахе, в страшных мучениях... Среди тех страдальцев были и Иван Долгорукий, фаворит императора Петра II, и князь Василий Лукич.
Может быть, в последний миг своей жизни он все-таки догадался, за что наказуем столь жестоко. За попытку обмануть Анну? За «кондиции»? Да нет же, какие там «кондиции»! Анна мстила Долгорукому именно за то, что он пытался разлучить ее с Бироном.
Не удалось. И Анна надеялась, что это не удастся никому, что они с Эрнестом будут вместе до смертного часа.
* * *
Утро императрицы.
Анна подолгу оставалась в постели – по утрам ей вечно нездоровилось. Государыня любила плотную, обильную, жирную пищу и издавна страдала подагрой и скорбутом [3]3
То есть цингой.
[Закрыть]. А еще ее донимали почечные колики. По утрам она с отвращением принимала от низенькой, горбатой, но разодетой в пух и прах Бенигны-Готлибы Бирон чашу с лекарством. При скорбуте, всем известно, надобно пить отвар сосновых игл, однако Анну от одного только запаха этого отвара начинало выворачивать наизнанку. Лук она тоже на дух не переносила, поэтому пила какие-то безвкусные травки... не приносившие ни пользы, ни вреда.
Канцлер и фаворит тоже был здесь: стоял у изголовья постели, небрежно чистя ногти, холодно смотрел то на любовницу, то на жену.
Что и говорить, Бенигна-Готлиба – умнейшая из женщин, однако всего лишь женщина. Она нестерпимо кичится положением, в которое вознесла ее судьба. В своих платьях по сто тысяч рублей каждое, в бриллиантах на два миллиона, Бенигна-Готлиба принимает посетителей, восседая на некоем, специально для нее изготовленном подобии трона, протягивает гостям обе руки и сердится, если они целуют только одну. Впрочем, насмешливо прищурился фаворит, русские обожают лизоблюдство. Ничего, они с удовольствием целуют обе ручки госпоже Бирон! И чают за это награды или хотя бы покровительства.
А вот Анне Иоанновне не токмо ручки целуют! Спальник Алексей Милютин, который ночевал у дверей опочивальни государыни, каждый раз, когда императрица через него перешагивала, отправляясь в отхожее место, почтительнейше чмокал ее ножку. Эрнесту-Иоганну, когда тот проводил ночи с дамой своего сердца, тоже доставались подобострастные поцелуи спальника, и он знал, что Анна намерена щедро наградить Милютина, возведя его в дворянское звание и даже присвоив герб, на коем будут изображены три печные вьюшки: ведь Милютин был еще и истопником императрицы.








