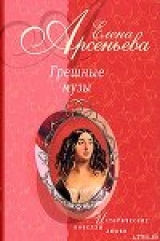
Текст книги "Термоядерная Гала (Сальвадор Дали – Елена Дьяконова)"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Елена Арсеньева
Термоядерная Гала (Сальвадор Дали – Елена Дьяконова)
Телеграмму принесли чуть свет, но она уже давно не спала. Сердце разрывалось от тревоги. Всю ночь, всю ночь однообразно, как биение маятника, в мыслях стучало: «Где он… ну где он?!»
На самом-то деле больше всего ее волновало – с кем он.
Но стоило себе признаться, что думает она только о каких-нибудь пышно-розовых телесах, в колыхании которых сейчас утопает его смуглое, сильное, поджарое тело, как у нее начинало першить в горле, и она начинала просто задыхаться от ревности. Помнится, такое уже было однажды. Ее великий и знаменитый муж тогда принимал в Нью-Йорке русского журналиста. Она была против, ну и правильно! Как погано тот описал увиденную сцену: «Великий художник сидел в глубине холла… Справа от него расположились две ослепительные девицы рубенсовского телосложения, почти голые и неотразимые… На обеих были надеты ошейники из черного бархата, а поводки их позолоченных цепочек держал в своих руках художник, изредка позвякивая ими. Девицы отвечали на эти звуки громким здоровым хохотом.
Слева от художника сидела его знаменитая жена… Она была явно не в духе. То ли ее раздражали трясшие неотразимыми телесами шведки, то ли предстоящая встреча с посланцем мира коммунизма, который она ненавидела всеми фибрами своей упрямой души…»
Здесь все вранье, здесь все правда. Она тогда отчаянно приревновала своего «малыша» к девкам, которые были всего лишь реквизитом. Оплачиваемым реквизитом при встрече. Ну не смешно ли? Она, которая сама нашла ему эту модель-певичку Аманду Лир, чтобы «малыш» мог слегка оживить свои угасающие эмоции и чувства, она, которая и сама бегала от него направо и налево, – вдруг приревновала к реквизиту. Ей ужасно хотелось, помнится, плюнуть на них, на этих девиц, или загасить об их «неотразимые телеса» горящую сигарету.
Кстати, как только журналист выкатился вон, она именно что плюнула на каждую девку – по два раза! Но насчет сигареты… нет, не решилась!
Тогда.
А сейчас… О, сейчас она только и могла, что снова и снова тыкать даже не сигаретой, а сигарой в столешницу палисандрового столика эпохи Луи XIV. Сигара, конечно, гасла, но она снова и снова подносила ее к свече – свечи горели всю ночь, они были пропитаны особым ароматизированным составом, дающим им силу гореть долго-долго…
«Как я, – подумала она, – я такая же, я горю уже… о господи, подумать страшно, как долго я горю. Но мне мало, мало, все мало этого огня! Но рано или поздно свеча догорит, и я тоже… Нет, нет, нет, не хочу об этом думать! Страшно, страшно, страшно… Что я буду делать, когда, посмотрев в зеркало, я увижу там не свое лицо, которое было предметом восторгов стольких мужчин (ну да, всякие дураки и дуры пожимали плечами, не понимая, что они нашли в этой уродине с длинным носом и слишком близко поставленными глазами, и сравнивали меня то с птицей, то с каким-то грызуном, а между тем я – я! – а не они, эти глупые подборщики глупых сравнений, увековечены в живописи, вознесены на все мыслимые и немыслимые пьедесталы в поэзии), а застывшую в последней судороге маску смерти… моей смерти!»
Она вдруг заметила, что сигара погасла и больше не оставляет следов на драгоценной древесине. Вновь раскурила ее и вновь вонзила в беззащитную поверхность стола. Если бы она была художником, то изобразила бы этот столик, его нежную столешницу вместо лица прекрасной женщины, лежащей с широко раздвинутыми в порыве страсти ногами. Если бы она была художницей…
Нет, почему – «Если бы была художницей»? Она была ею и осталась ею, потому что даже ее великий муж сам признавал: если бы не она, его картин (лучших из них) не было бы.
Ну, короче, она изобразила бы «лицо» драгоценной столешницы со следами пыток и назвала бы эту картину «Красота моя легка, и в этом счастье». Это строка из стихотворения одного поэта, которого она любила когда-то – давно, во времена незапамятные, и который любил ее. Нет, в том же стихотворении есть строка гораздо лучше: «Я стала сентиментальной». Именно так можно назвать портрет женщины, у которой вместо лица – обожженная сигарой столешница.
«Именно так можно назвать мой портрет сейчас, да? – продолжалось тяжелое течение ее мыслей. – Меня корчит от любви – и тревоги за человека, которого я люблю. Мне восемьдесят лет, но… о господи, прости меня, великую грешницу, но я умираю от любви к синеглазому безумному певцу. И чуть-чуть, самую капельку может извинить меня только то, что сейчас вся планета умирает от любви к нему, к этому поджарому парню, который сыграл Христа в рок-опере «Иисус Христос суперстар», и сейчас я одна из многих. Я стою в одной толпе с девчонками-глупышками, и дешевыми проститутками, и с кинозвездами, и светскими красавицами… Имя им легион, но все-таки я – одна, и он один, нас таких, уникумов, только двое, и как меня когда-то писал мой муж в образе Пресвятой Девы или Мадонны с младенцем, так и этот мальчишка отныне запечатлен в веках в образе сына моего…
А ведь и правда по возрасту он годится мне в сыновья. Вернее, во внуки. Нет! Не годится! Вот Сальвадора я легко могла называть «малыш», а этого мальчишку не могу. Я хочу быть девочкой рядом с ним, я хочу… я хочу невозможного! Я хочу вернуть молодость, и бог знает, сколько бы я заплатила за то, чтобы он вернулся ко мне, чтобы я снова стала ему необходимой! Где он, где он, где?!
Да будь он проклят!»
И тут позвонил секретарь.
– Мадам, вы разрешите зайти к вам? – В голосе отчетливо звучала опаска. – Телеграмма от мсье Фенхольда. Позволите прочесть?
– Я сама! – завопила она. – Немедленно несите ее сюда. Почему вы тратите время на звонки? Я ведь велела вам немедленно сообщать мне всякое известие от мистера Джефана Фенхольда, даже если его просто покажут в ночных новостях!
– Я боялся вас разбудить, мадам, – жалобно простонал секретарь. – Простите меня!
– Я вас уволю, – тихо сказала она, – уволю, если телеграмма не будет у меня в руках через… через полторы минуты!
В трубке послышались гудки. Ага, время пошло!
Она вытянула руку с пультом и отключила электронные замки. Она за честную игру, пусть секретарь не говорит потом, что на его пути возникли неодолимые преграды!
На часах, которые были вмонтированы в копию (авторскую) картины Сальвадора «Мягкие часы», отщелкало ровно полторы минуты, когда секретарь ворвался в дверь. Интересно, он бегом бежал или все же на лифте поднимался?
Не слушая утренних банальностей, она протянула руку:
– Ну?
Схватила телеграмму, поднесла ко все еще острым, черным – «птичьим»! – глазам:
«Срочно нужны тридцать восемь тысяч долларов, иначе умру. Джеф».
Тридцать восемь тысяч долларов!
– Мерзавец, – с нежностью сказала она. – Какой мерзавец! Он меня разорит. Мало ему студии звукозаписи, мало дома на Лонг-Айленде, мало картин моего гениального мужа, которые я ему дарила. Он так и норовит обчистить меня до нитки! Игрок! Актеришка, игрок!.. Пошлите ему, пошлите эти деньги, – кивнула она секретарю. – Да поскорей! И заодно дайте телеграмму. Нет, две телеграммы. Одну Джонни, в приложение к деньгам, другую в Кадакес, сеньору Дали. Аналогичный текст в оба адреса: «Люблю тебя, мое божество! Всегда твоя – Гала».
* * *
Она ненавидела свое имя всегда, сколько помнила себя, и проклинала родителей, которые назвали ее Еленой. Люди ведь мыслят готовыми клише, и у всех в головах мгновенно вспыхивает рядом с этим именем готовый эпитет: Елена Прекрасная. Леночка Дьяконова считала, что этот эпитет истаскан в веках настолько, что сделался пошлым и банальным, его и употреблять-то стыдно, однако ничего не могла поделать со всеми этими человечками, которые пожимали плечами, глядя на нее, и в глазах их отчетливо читалось разочарование: «Ну какая же она «прекрасная», эта маленькая, тощенькая, похожая на птичку, на мышку-норушку или даже вовсе на насекомое девица со смуглым поджарым телом? К тому же у нее, говорят, чахотка… Ну разве можно себе представить чахоточную Елену?!»
Да, у нее были слабые легкие. Матушке было вечно недосуг заниматься здоровьем дочери, она устраивала свои собственные дела: умер муж, она ужасно мучилась, возьмет ли ее к себе прежний любовник, адвокат Дмитрий Ильич Гомберг… Слава богу, взял и даже перевез из этой ужасной Казани к себе в Москву. Леночку Дмитрий Ильич очень любил, и это неудивительно: из болтовни двух горничных она скоро узнала (разумеется, тайно, потому что обожала подсматривать да подслушивать, что при ее крошечном росточке и худобе было легче легкого, ведь она в любую щелку пролезть могла), что он-то и был ее настоящим отцом, а скромный казанский чиновник Дьяконов просто-напросто женился на матушке и был таким простаком, что принимал чужую дочь за свою!
Ну, словом, выйдя наконец замуж, матушка спохватилась, что Гомберг женился на ней не столько ради прежней любви, сколько ради дочери. А если Леночка помрет от чахотки, он ее снова бросит? Нет, надобно девочку полечить. Казанский кумыс не помог, значит, нужно более серьезное лечение. Деньги у Дмитрия Ильича немалые – пусть-ка Леночка съездит в Швейцарию. В Давос.
Леночка поехала, но первое, что она сделала, как только вокзал исчез из виду, это решила: никогда и ни за что она больше не будет зваться своим постылым именем. Как ты себя назовешь, так тебя и примут люди. Имя должно быть праздничное, невероятное, ослепительное… пускающее пыль в глаза, причем такую пыль, которая навсегда в этих глазах останется!
В это время она как раз зубрила французский – чтобы не ударить в грязь лицом в Давосе. И вдруг ее осенило. Gala, Гала́ – вот подходящее слово! Gala – по-французски «торжество». Гениально! Конгениально!
– Mon nom – Gala, мое имя Гала, – отныне представлялась она – и испытывала подлинное торжество, видя, как вспыхивают у новых знакомых глаза. К тому же, не связанная больше постоянным недовольством матери, скучливостью приемного отца и докучливой заботливостью отчима (и родного отца в то же время), она развернулась вовсю, сама удивившись, сколько веселья и очарования таится в ее душе и натуре. Гала при новом имени, как в новом, необычайно идущем платье, чувствовала себя вольно и свободно, ощущала, что была невероятно обворожительна и даже обольстительна. Именно так подумал о ней юный светлоглазый француз, которого звали Эжен-Эмиль-Поль Грендель. Очень скоро Гала начала звать его просто Жежен, потому что они познакомились так легко, как знакомятся только чувствительные туберкулезники. А вскоре подружились так близко, как только могут подружиться юноша и девушка.
Словом, они влюбились друг в друга и дали друг другу, как обожают писать дамы-романистки, все возможные доказательства своей любви.
Не то чтобы Жежен доставлял Гала какое-то невероятное удовольствие… Но он был красив, молод, пылок, безумно влюблен, богат и к тому же талантлив. Он писал стихи, и хоть Гала они казались порядочным бредом, немалое преимущество им придавало то, что Жежен все их посвящал возлюбленной, воистину считая ее первоосновой всего сущего:
За проблеск дня счастья в воздухе этом,
Чтобы жить легко согласно вкусу цвета,
Чтобы наслаждаться, любовью смеяться,
Открыть глаза в последний миг:
ОНА – ВСЕ РАДОСТИ.
Эта готовность швырнуть к ее ногам не только жизнь, но и талант казалась Гала главным достоинством милого мальчика. Она прекрасно понимала, что обладает даром зажигать мужчину. Но зачем тратить эти драгоценные спички по пустякам? Зажигать – так зажигать! Может быть, с помощью ее неустанного горения Жежен сделается великим поэтом!
Только Гала решила сделаться спутницей его жизни, как настало время уезжать в Россию. Да и чертова чахотка почему-то вылечилась… Кто ее только просил?!
Обливаясь слезами и поминутно целуясь, Гала и Жежен прощались на вокзале.
– Я к тебе приеду, я приеду к тебе в Россию, – твердил Жежен. – Я мечтаю увидеть твою загадочную страну! Мы станем жить среди девственных полей и лесов, будем приручать диких медведей…
Именно тогда Гала в первый раз подумала, что ее возлюбленный, конечно, очень мил и талантлив, но особым умом не отличается. Еще не хватало – жить среди девственных полей и лесов! Она мечтала жить в городской суете и сутолоке. Причем это должна была быть суета и сутолока Парижа. На меньшее она не согласна.
– Нет! – сказала она, придав своим глазам (слишком темные, маленькие и слишком близко к переносице собранные, они тем не менее были очень выразительны, что и сообщало им почти неодолимое очарование) выражение страстной решимости. – Нет, я сама к тебе приеду. Жди меня!
И, впившись в его губы прощальным поцелуем, вскочила в вагон как можно скорей, чтобы Жежен не успел возразить.
Впрочем, заявить «приеду» оказалось гораздо проще, чем сделать это. Мамаша и папаша глаза вытаращили: куда, к кому? На что жить будешь? Разве мы сможем содержать тебя за границей?! К тому же в Европе неспокойно, говорят, вот-вот война грянет…
Гала испугалась. Если начнется война, она никогда не выберется из России!
Она пригрозила, что покончит с собой.
Мать пригрозила, что выпорет ее.
Гала схватила бритву и чуточку порезала запястье. Мать, не выносившая вида крови, упала в обморок. Отчим, не представлявший, что каждое движение, всякая мысль и всякое чувство его падчерицы (вернее, все-таки дочери) априори не являются спонтанными, а тщательно рассчитаны, перепугался чуть не до смерти и закричал:
– Ладно, ладно, ты поедешь!..
Гала поехала. Вернее – уехала. Потому что нога ее больше никогда не ступала на родимую землю. Гала не тосковала по России ни мгновения, а позднее даже возненавидела ее.
Как ни странно, виновен в этом был именно нежный и чувствительный Жежен, однако это дело далекого будущего, заглядывать в которое пока преждевременно.
Появление какой-то невзрачной русской девицы в жизни их милого и невинного мальчика немало огорчило родителей Эжена-Эмиля-Поля Гренделя (отец его был торговцем недвижимостью), особенно когда они поняли, что и девица-то уже не девица, а их мальчик, увы, не мальчик. Ну ладно, это, что называется, дело житейское, однако сын твердо намеревался жениться на этой особе… Только маменька приготовилась с помощью многочисленной родни воздействовать на разум ребенка, как началась война. Ребенку предстояло идти на фронт, и, конечно, родители не могли быть столь жестоки, чтобы сделать его несчастным и выставить на улицу его возлюбленную, которой совершенно негде было жить.
Гала поселилась в комнате Жежена, которая все равно же стояла пустая. А вырвавшись с фронта в трехдневный отпуск, молодой человек решил узаконить ее пребывание в этой комнате и немедленно потащил подружку в мэрию – сочетаться браком, поскольку шла война, отпуска были коротки, да и времени на жизнь у храбрецов могло быть отпущено совсем чуть-чуть. Поэтому и родители не возражали. Молодых людей поженили, и Эжен-Эмиль-Поль отправился на фронт солидным семейным человеком. Ни страх смерти, ни ужасы войны не остудили в его сердце любовь, напротив – она становилась все сильнее. Тем более что в России сделалась вдруг революция, которая показалась впечатлительному юноше столь же загадочной и волнующей, как его жена.
Наконец война кончилась, Эжен-Эмиль-Поль вернулся домой и понял, что ни на что более не годен, только воспевать в стихах метаморфозы своей души и любовь к Гала. И хоть у них в это время уже родилась дочь Сесиль, супруги поняли, что никакие буржуазные узы или предрассудки никогда не смогут сковать их чувство и их творчество. Сущностью их любви была свобода! Именно поэтому Эжен-Эмиль-Поль позволял своей жене позировать модному фотографу-американцу Мэну Рею. Позировала Гала обнаженной, и фотографии получились блистательными. Гала призналась, что бурный секс способствовал вдохновению фотографа, и Эжен-Эмиль-Поль, который черпал вдохновение в том же источнике, одобрил свою жену. Он восхищался всем, что она делала, и не переставал любить ее.
Она стоит на моих ресницах,
И волосы ее в моих струятся,
Она по форме моей руки,
Цвету глаз моих, в тени моей
Она тает, как камень в небе.
Она всегда раскрыв глаза
И мне не разрешает спать.
Сны ее света полны,
Чтобы сочиться солнцами,
Смешить меня и расстраивать,
Говорить, даже когда говорить нечего.
Его вдохновляла, впрочем, не только Гала, но и новые друзья. Их звали Луи Арагон, Робер Деснос, Гийом Аполлинер, Андре Бретон, и они в самом деле непревзойденно умели «говорить, даже когда говорить нечего».
Они говорили, что именно человек – мерило ценностей этого мира, именно его воображение – тот эталон, которому должна соответствовать реальность. Его собственное восприятие жизни – это и есть подлинная реальность, сверхреальность… сюрреализм!
Термин surréalisme предложил Аполлинер, а «Манифест сюрреалистов» написал Андре Бретон.
В связи с этим Эжен-Эмиль-Поль нашел, что пора бы перестать ему зваться своим мещанским именем. Отныне он называл себя Поль Элюар, и скоро его начали считать гением, потому что никто другой так, как он, не освоил нерифмованное
искусство любить, искусство прощать,
искусство хорошо умирать, искусство мышления,
некогерентное искусство, искусство курить,
искусство флирта, искусство средних веков,
прикладное искусство, искусство разводить руками,
искусство широко разводить руками, искусство
поэтическое, искусство механистическое, искусство
эротическое, искусство быть дедом, искусство танца,
искусство ладушки, искусство нежности, японское искусство,
искусство играть, искусство питаться,
искусство терзаться, искусство терзать, искусство дерзать,
искусство истязать…
…В это время сюрреализм объединял поэтов, писателей, художников, скульпторов, композиторов, театральных деятелей, кинематографистов. То, что собой представлял сюрреализм в поэзии, вполне видно по стихам Элюара. Основы сюрреалистической живописи замечательно поясняет Жан-Поль Креспель: «Что касается художников, то, имитируя первобытное искусство, творчество детей и душевнобольных, они, как и дадаисты[1]1
Дадаизм – от франц. dada – конек, детская игрушка, детский лепет – авангардистское направление в поэзии и изобразительном искусстве, суть которого – нарочитый, карикатурный примитивизм и шаловливая скандальность.
[Закрыть], широко использовали коллажи, фотомонтажи, композиции из различных предметов и деталей. Наиболее типичные черты сюрреалистического творчества – иррациональный мир, написанный с подчеркнутой объемностью, натуралистические детали, переданные с фотографической точностью в сочетании с абстрактными неизобразительными формами. Подобная смесь имеет одну цель: показать реальность подсознательного мистического, воздействовать на зрителя нестыкующимися кошмарными ассоциациями».
Здесь упомянуты дадаисты. С одним из них крепко подружился Элюар, а значит, и его жена. Звали этого немца из Кельна Макс Эрнст, и сначала Элюар был от него в таком восторге, что даже побратался с ним, выпив на брудершафт. Однако Гала, которая начала позировать Максу (он написал ее в образе «Прекрасной садовницы»), немедленно осуществила с Максом столь полюбившийся ей принцип свободной любви. Что касается дадаиста, то он очень даже не прочь был эпатировать общество очередной скандальной выходкой: все-таки это было его творческим методом. Но Элюар смутился: либертэ – это либертэ, а фратернитэ – само собой, фратернитэ…
Запахло не просто эпатажем, но и кровосмесительстом! Это несколько смутило даже самых отъявленных сюрреалистов, которые искренне сочувствовали Элюару: все-таки жена-потаскушка – это печально, господа… Тристан Тцара назвал эту историю драмой в стиле Достоевского. Интересно, кому он думал польстить? Гала или Настасье Филипповне?
Так или иначе, Макс Эрнст написал картину «Встреча друзей», где изобразил не только обнаженную Гала (вид сзади, ее спина почему-то особенно восхищала художников… не свидетельство ли это, что спереди просто рисовать было нечего?!), но и бюст Достоевского (вид сбоку).
Впрочем, Элюар предпочел оказаться в этой истории не Рогожиным, а князем Мышкиным и с гордостью вопросил:
– А вы думали, легко иметь русскую жену?
Вообще он очень старательно делал хорошую мину при плохой игре, однако стихи выдавали его:
Там в уголке инцест проворный
Вкруг девственности платьица кружит.
Там в уголке пролило небо
На иглы бури белой влаги капли.
Там в уголке яснейших этих глаз
Ждут всплеска томной рыбы беспокойства.
Там в уголке повозка с летним сеном
Застыла горделиво навсегда…
Гала, конечно, производила на мужчин очень сильное впечатление прежде всего тем, что на полшага опережала самые смелые их затеи. Таким образом, создавалось впечатление, что она их вдохновляет самым фактом своего существования. Например, в ту пору был моден психоанализ. Гала изысканно вдохновила свою компанию на сеансы коллективного психоанализа, и хотя наиболее сильным аналитиком был Андре Бретон (когда он отсутствовал, сеансы получались скорее сеансиками), а все же Гала бывала на них непременно. И вскоре медиум поэт Рене Кревель (очень красивый, кстати сказать, медиум!) сообщил, что натура Гала устремляется к гению художника и способствует его пробуждению. Но, как у всякой женщины, натура Гала – плотская, а значит, она возбуждает именно плоть мужчины…
Еще один, подумал Элюар…
Не уставай убеждаться в любви,
это может быть шансом.
Не уставай убеждаться в отчаянии,
это может быть правдой.
Человек-француз, человек-любовник, человек-герой,
Убедивший себя, что смерть случайней любви,
Узнай же последние новости из мира науки —
Открыты новые виды отчаяния:
Будущее заражено злом,
Будущее неизбежно.
От отчаяния, не иначе, он испугался неизбежности будущего, поддался модному поветрию, которым уже заражены были Бретон и Арагон, и вступил в компартию. Правда, Арагон этот вирус подцепил от своей тоже русской (ну ладно – российской, да какая разница!) жены Эльзы Триоле, иначе говоря – Эллы Каган, сестры, к слову, знаменитой Лили Брик, вдохновительницы и погубительницы Маяковского[2]2
Новеллу о сестрах можно прочесть в книге Елены Арсеньевой «Дамы плаща и кинжала».
[Закрыть].
Ну что ж, желание ощутить хоть какой-то идеологический базис под ногами вполне понятен: сюрреализм в то время начал слегка выдыхаться, Арагон и Пикассо уже покинули ряды сюрреалистической поэзии и живописи соответственно. С Бретоном Элюар поссорился, и тот со зла сказал:
– Если твое имя и попадет в мировые энциклопедии, то там будет написано примерно следующее: «Поль Элюар – первый муж Елены Дьяконовой».
– Как?! – ужаснулся Поль. – С чего ты взял, что мы с Гала расстанемся? Это невозможно!
– Ты с ней не расстанешься – она тебя бросит, – злорадно констатировал Бретон.
Недаром он считался отличным психологом. Он как в воду глядел, потому что именно в это время знаменитый французский кинорежиссер и сюрреалист до мозга костей Луи Бунюэль приехал в Париж и привез туда художника Сальвадора Дали – для оформления фильма «Андалузский пес». Кстати, Дали был и соавтором сценария фильма, который он называл «фильмом подростков и смерти» – и собирался вонзить его, как кинжал, в самое сердце элегантного, просвещенного и интеллектуального Парижа… «Фильм добился того, чего я хотел, – признался он. – В один вечер он разрушил все десять послевоенных лет лжеинтеллектуального авангардизма. Неземная вещь, которую называли абстрактным искусством, пала к нашим ногам, смертельно раненная, чтобы уже не подняться, – после первых кадров нашего фильма: глаз девушки, разрезаемый бритвой».
О живописи сюрреалистов один из критиков в свое время писал: «В картинах сюрреалистов тяжелое провисает, твердое растекается, мягкое костенеет, прочное разрушается, безжизненное оживает, живое гниет и обращается в прах».
Это сказано, чудится, именно о Дали, который, что называется, вдохнул, гальванизировал и оживил уже разлагающееся чудовище сюрреализма… заставив его, впрочем, разлагаться еще интенсивнее, живописнее и пролонгировав этот процесс почти до бесконечности.
Конечно, он был художником до мозга костей, а то и до лимфоузлов. Он родился художником, то есть человеком, воспринимающим мир через призму собственного творческого бреда. Он очень любил испанскую пословицу «Как видим, так и бредим». В соответствии с ней и творил. «Когда я понял, что мир умирает, по-настоящему теряет смысл, распадается на куски, которые уже никогда не собрать воедино, а самое бессмысленное и мертвое – это фасады разума и морали, это сама эстетика и собственно человек, тогда я понял и другое: раз уж довелось жить, достойнее всего – жить сюрреалистически. Жить и творить, разумеется…» Однако при всем при том этот сын провинциального нотариуса обладал не свихнутым сознанием, которое обладало свихнутым же миром, а железной логикой шахматиста-математика: каждое проявление его творческого безумия подсознательно выверено до микрона. Это и сделало его гениальным.
Безудержность фантазии хороша до определенного предела: иногда от нее становится скучно. От живописи Дали становится как угодно: тошно, странно, страшно, дико, восторженно, обалденно, противно… но только не скучно. Именно потому, что он никогда не действовал бессознательно. Он всегда отлично знал и понимал, что делает, хотя и казался порою чокнутым как в жизни, так и в искусстве. По этому поводу Дали однажды выразился очень категорично: «Единственная разница между сумасшедшим и мной состоит в том, что я не сумасшедший».
Коротко и ясно!
Кстати, в отличие от многих своих, не побоимся этого слова, коллег по сюрреализму да и вообще авангардистов, которые кинулись в строительно-малярные работы, которые они называли скульптурой и живописью только потому, что они категорически не владели формой, то есть не умели ни лепить, ни рисовать, Дали был превосходным рисовальщиком с твердой рукой. Он виртуозно владел линией, твердой, верной, реалистической – и в то же время зыбкой, нереальной. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на его работы, особенно «Фигура у окна», «Каннибализм вещей. Испания», «Безумный Тристан», «Сон, вызванный полетом пчелы» и др. И даже там, где он выступает как сугубый чертежник, эта твердая, уверенная рука придает особое очарование его изломанному мировосприятию и натуралистическому смешению красок и форм. Впрочем, размышляя о живописи (а он ведь и стихи писал, не только картины), Дали сам проповедовал: «Поэтический образ обретает лирическую силу, только если он математически точен». Какая разница, о слове или о линии это сказано?
Комплексы неполноценности, снедавшие этого молодого гения, родившегося в Каталонии (каталонские рыбаки о таких, как он, говорили: «У него луковица в башке проросла!»), сравнимы только с его бесконечным эгоцентризмом и гедонизмом. При этом он искренне считал себя ничтожеством и разбивал себе лоб о несовершенства мира, пытаясь обрести истину.
Да что есть истина-то?!
Неслабый вопрос.
«Небеса – вот чего взыскала моя влюбленная душа на протяжении всей жизни с некоторым смущением и, если можно так выразиться, с запашком дьявольской серы. О Небеса! Горе тому, кто не поймет этого. Увидев впервые выбритую женскую подмышку, я искал Небо; разворошив костылем разлагающийся и кишащий червями труп дохлого ежа, я искал Небо», – признается он в автобиографической книге «Тайная жизнь Сальвадора Дали».
Очень важна тут оговорка «с запашком дьявольской серы». Дали всегда придавал высокий смысл самым низменным своим исканиям – ну что ж, на то он и был гедонистом. Он мог видеть небеса, только стоя по колени в экскрементах. Чужих, своих – безразлично. При этом он был стыдлив! «Наклонив голову, она раздвигает ноги, при этом изящно подбирая юбки до высоты бедер. В полной тишине проходит почти минута, как вдруг сильная струя бьет из-под юбок, тотчас образуя между ее ногами пенистый островок… Дама под вуалью так поглощена, что не замечает моего остолбенелого внимания… Дамы хохочут… Еще две струи орошают почву… Мне ужасно стыдно…» Этот заядлый мастурбатор и созерцатель самых изощренных видений, на которые только могла быть способна мужская фантазия, был в то же время девственником. Распутный девственник! Катахреза сия определяет его внутреннюю сущность как нельзя более кстати.
«Мне не удалось отыскать элегантную женщину, – признавался сам художник, – которая отвечала бы моим эротическим фантазиям. Я, как бешеная собака, гонялся по улицам, но ничего не находил. Когда подворачивался случай, робость мешала мне подойти. Сколько дней подряд я слонялся по бульварам, присаживался на террасах кафе, ища случая перемигнуться. Мне казалось естественным, чтобы все женщины, прогуливающиеся по улицам, разделяли мои желания. Но нет! Предельно разочарованный, я преследовал одну дурнушку, не оставлял ее ни на минуту, не сводя с нее пылкого взора. Она села в автобус – я уселся напротив и прикоснулся к ее колену. Она поднялась и пересела. Мне надо было снова выйти и влиться в толпу женщин (я видел только их), в поток враждебного бульвара, который не замечал меня. Ну что? Где тот пояс, за который ты хотел заткнуть весь Париж?..
Вернувшись в свой прозаический номер в отеле с гудящими ногами, я ощутил горечь на сердце. Мое воображение занимали все недостижимые женщины, которых я пожирал глазами. Перед зеркальным шкафом я занялся «этим», как жертвоприношением себя, стараясь продлить это как можно дольше и перебирая в памяти все образы, увиденные в течение дня, чтобы они явились мне и явили то, чего я желал от каждой из них. Смертельно изнуряя себя четверть часа раздраженной рукой, я наконец с животной силой вызвал последнее наслаждение, смешанное с горькими слезами. Сколько было женских ляжек в Париже! И ни одну я не залучил в свою кровать, куда свалился в одиночестве, без мыслей и чувств. Перед тем как уснуть, я всегда произносил краткую католическую молитву».
К женщинам он чувствовал тягу, смешанную с отвращением. Недаром девушка, с которой он все же переспал, внушила ему столь странные чувства, что он, лежа на ней, искал какой-нибудь тяжелый предмет, чтобы прикончить ее. Зато Дали умел нежно дружить с мужчинами, например, с великим Федерико Гарсиа Лоркой, который был вполне бисексуален, однако если не привил своему молодому другу страсть к мужеложству, то, видимо, потому, что сам Дали был рожден лишь для того, чтобы подчиняться сильным женщинам, а не сильным мужчинам.
Вернее, одной сильной женщине!
Но это еще у него впереди.
Итак, в 1929 году на балу в саду Табарен Дали показали ужасно знаменитого в то время поэта-сюрреалиста. То был Поль Элюар. На балу он был с подругой, а его жена находилась где-то в Швейцарии. Все в ту пору были без ума от Элюара, и Дали, сам гений, пусть еще и не состоявшийся, мигом распознал «своего». Он очень быстро понял, что Элюар – поэт из поэтов, милостью божьей, как Лорка, из тех, кто исповедует кредо самого Дали: «Именно поэзия в ряду прочих искусств призвана явить зримый образ того, о чем повествует». На прощание Элюар пообещал приехать в Кадакес, к Дали, в гости летом.
И вот лето… Дали был горд тем, что такие люди, как Элюар с женой и Бунюэль, приехали в Кадакес только ради него. Жена Элюара сначала не произвела особого впечатления, она была утомлена поездкой, и весь ее вид говорил: «Ну и дыра этот Кадакес!» Но уже вечером, на прогулке, Дали обсуждал с ней все мыслимые и немыслимые вопросы бытия и искусства… Потом он кокетничал с Элюаром – это все еще была модель, навязанная ему Лоркой.








