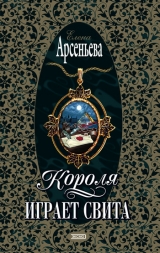
Текст книги "Короля играет свита"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Ноябрь 1798 года
– Господа, вам известно, что мы высоко ставим нашу российскую православную веру. Мы говеем все четыре поста, содержимые нашей церковью, исповедуясь и приобщаясь. Однако это не мешает нам полагать, что именно латинская, католическая церковь является самым твердым оплотом против таких злоупотреблений ума, какие привели к свержению правящей династии во Франции и распространению вольнодумства в Европе. Мы настаиваем, чтобы католикам были даны в России большие преимущества. Требую умножить число латинских епархий, папскому нунцию предоставлено новое помещение в Петербурге, уступить ордену траппистов несколько новых монастырей. Для капитула Мальтийского ордена отдать дом на Садовой, бывший графа Воронцова, а для погребения рыцарей отвести кладбище при Каменноостровской церкви. Кавалер ордена должен прямо приниматься в русскую службу с чином офицерским или прапорщика, даже если до этого он не имел никакого чина. Безусловно, всякий рыцарь Мальтийского ордена должен знать, что он найдет убежище в России в любой тяжкий час своей жизни. Кроме того, мы приняли твердое решение согласиться принять на себя звание великого магистра этого ордена. Это означает, что мальтийский крест стал вровень с двуглавым орлом Российской империи в гербе его, а к нашему императорскому титулу повелеваю прибавлять слова: «и великий магистр ордена Святого Иоанна Иерусалимского». Да будет так!
...Утром 29 ноября 1798 года на всем протяжении от «замка мальтийских рыцарей» – бывшего дома Воронцова, выстроенного некогда Растрелли в стиле барокко, – в две шеренги стояли гвардейские полки. Вдоль шеренги следовала вереница придворных карет в сопровождении взвода кавалергардов.
Процессия направлялась к Зимнему дворцу, куда уже собрались все самые знатные вельможи, придворные, высшие военные и гражданские чины и духовные лица.
Мальтийские кавалеры в своих черных мантиях, но по случаю особо торжественного дня в шляпах со страусовыми перьями, взошли в тронный зал, где их ожидали на троне император Павел и императрица Мария. На ступенях трона, почтительно взирая на государя и государыню, стояли члены Сената и Синода. Кавалерами Мальтийского ордена в эту пору уже были пожалованы все придворные священники. Один только митрополит петербургский Гавриил не принял ордена, говоря, что русскому архиерею неприлично исполнять католические обряды. Но это был глас вопиющего в пустыне, а Гавриила нынче в Зимнем не было.
Впереди рыцарей шел Юлий Литта. Это был звездный час великого приора! Недавно распоряжением императора ордену были возвращены все доходы острожского приорства, некогда взятые в казну России. Они простирались до 120 000 польских злотых в год. Павел увеличил их до 300 000 злотых, «свободных от всяких вычет и обыкновенных и чрезвычайных сборов». Особенной конвенцией, заключенной с одной стороны Безбородко и Куракиным от имени Павла, а с другой – Юлием Литта от лица ордена, Павел утвердил за себя и своих преемников существование Мальтийского ордена в России на вечные времена.
Влияние великого приора к этому времени достигло небывалых высот. Он получил титул русского графа и звание штатгальтера (заместителя) великого магистра – с годовым содержанием в десять тысяч рублей. Далее, по личному ходатайству Павла мальтийский рыцарь Литта, дававший обет безбрачия, был удостоен разрешения папы римского на заключение брака с Екатериной Скавронской, племянницей самого Потемкина. При этом Литта не должен был выйти из ордена и сохранил все свои звания и регалии. Огромное приданое этой дамы делало ее желанной добычей для иоаннитов. Юлий Помпеевич позаботился и о своем брате. Папский нунций Лаврентий получил при новом великом магистре должность, стоившую десять тысяч рублей в год. Французские рыцари, друзья Литты, также обрели прибыльные посты: де ла Хусайе стал начальником канцелярии ордена, а де Витри – директором пенсионной платы госпитальеров. Чуть ли не впервые после Бирона чужеземец вознесся при русском дворе на такие высоты и был так обласкан царствующей персоной! Однако Анна Иоанновна любила Бирона плотской любовью. На Литту же изливалась та самозабвенная романтическая любовь, которую питал Павел к Мальтийскому ордену вообще. Всякий влюбленный мечтает жениться на предмете своих чувств. 29 ноября в Зимнем дворце совершалось своеобразное бракосочетание русского императора с католической религией.
За великим приором один из рыцарей нес на пурпурной бархатной подушке золотой венец, а другой – меч с золотой рукоятью.
Приблизившись к трону и отвесив нижайший поклон императору и императрице, Литта вновь изложил все, что присутствующие уже не раз слышали: факты о бедственном положении мальтийских рыцарей, скитающихся по всему свету, лишенных своих наследственных владений, для которых забрезжил наконец свет во тьме после того, как император Павел дал согласие возложить на себя священное бремя – звание великого магистра ордена Святого Иоанна Иерусалимского.
Князь Куракин и граф Кутайсов накинули на плечи императора черную бархатную, подбитую горностаем мантию, а Литта преклонил колено, поднося ему корону великого магистра и меч – «кинжал веры».
Император был сильно взволнован: на глазах его выступили слезы. Вот теперь, только теперь, чудилось ему, он истинно достиг вершины своих мечтаний! Звание русского императора казалось ему сейчас чем-то вроде чисто номинального титула прусского князька. Гроссмейстер Мальтийского ордена... Кто знает, не тогда ли впервые зародилась в голове Павла мысль о том, что папа Пий VI, уставший от дел, может спокойно идти на покой: для него уже готова замена в лице нового великого магистра!
Сейчас даже эта бредовая мечта казалась вполне сбыточной. Обнажив «кинжал веры», Павел крестообразно осенил им себя, давая присягу в соблюдении орденских статусов, а себе клянясь, что когда-нибудь пройдет в белых одеяниях по коридорам Ватикана. И все рыцари враз выхватили свои мечи и потрясли ими в воздухе.
Раздался звон – довольно громкий, потому что взмахнули мечами все рыцари, стоявшие не только в ближайших к тронной зале покоях, но и на крыльце.
– Ишь, будто в колокола звонят! На все лады перебирают! – пробормотал молодой офицер по фамилии Сибирский, стоявший в толпе зрителей, и тут же покосился вокруг, не слышал ли кто его неосторожных слов.
Генерал-майор Талызин, который как раз в этот миг вышел из дворца, дабы проверить, расчищен ли обратный путь великому приору со свитой, бросил на неосторожного острый взгляд, но ничего не сказал.
Офицер несколько приободрился. Генерал Талызин считался в Измайловском полку человеком добрым и незлопамятным. К тому же молодой человек сам на днях слышал, как Талызин пошучивал в казарме над пристрастием «некоторых» к высокопарным званиям, хотя на самом деле титул великого магистра госпитальеров должен был звучать так: страж Иерусалимского странноприимного дома. Ведь первоначальной задачей рыцарей была забота о больных и раненых, оттого они и назывались госпитальеры!
Нетрудно было догадаться, кто подразумевался под этими «некоторыми». Право слово, несмотря на все строгости, наводимые императором, порою трудно было удержаться от того, чтобы не посмеяться над ним!
Лицо Сибирского расплылось в улыбке. Он вспомнил, как примерно месяц назад был в карауле в Гатчине, в покоях императора, и сделался свидетелем презабавной сцены. Караульная комната находилась близ самого кабинета государя. Рядом была обширная прихожая, в которой стоял караул, а из нее шел длинный узкий коридор, ведущий во внутренние апартаменты дворца. Здесь стоял часовой, который немедленно вызывал караул, когда император показывался в коридоре.
Услышав внезапный окрик часового: «Караул, вон!» – все поспешно выбежали из офицерской комнаты и едва успели схватить свои карабины и выстроиться, а начальник караула – обнажить шпагу, как дверь общего коридора распахнулась и император, в башмаках и шелковых чулках, при шляпе и шпаге, поспешно вошел в комнату. В ту же минуту дамский башмачок с очень высоким каблуком перелетел через голову его величества, чуть его не задев.
Император через офицерскую комнату проследовал в свой кабинет, а из коридора вышла фрейлина Екатерина Нелидова, спокойно подняла свой башмак и вернулась туда, откуда пришла.
Об отношениях императора с его самой первой фавориткой ходили разные слухи. Кто-то называл ее бескорыстной умницей, которая самоотверженно укрепляет отношения между государем и его супругой. Детей у этой пары было много, но любви – мало... Кто-то полагал Нелидову на редкость корыстной и расчетливой особой. Сибирский, к примеру, сам слышал, как один из старших офицеров, давно служивших при Павле еще в бытность того великим князем, вспоминал, как Нелидова окончательно отвергла Павла, когда прошел слух, что Екатерина Великая намерена назначить своим наследником Александра, – однако мгновенно помирилась с ним у одра скончавшейся императрицы. Нет, нрав у этой фрейлины был самый что ни на есть причудливый. И сейчас, размышляя о полете башмачка, Сибирский вспоминал, как господа офицеры, в числе которых был Талызин, гадали: к кому именно в тот вечер приревновала императора Нелидова? К Софье Чарторыйской-Румянцевой? К горничной императрицы Марьи Федоровны, Юрьевой (порою Павел становился неистовым поборником равенства)? К Наталье Федоровне Веригиной, невесте его ближайшего приятеля Сергея Плещеева? Или к Анне Гагариной, урожденной Лопухиной, год назад привезенной императором из Москвы вместе со всем семейством и еще не утратившей своей власти над государем? А может быть, к ее гувернантке, потом компаньонке госпоже Гербер, которая поначалу присутствовала при встречах государя с его фавориткой, но отыскала и для себя некий счастливый случай?..
Сибирцев так углубился в свои фривольные размышления, что едва не упал, когда кто-то сильно толкнул его в плечо. Обернулся возмущенно – это был все тот же Талызин. Досадливо скривившись и даже не подумав извиниться, генерал заспешил во дворец: процессия рыцарей Мальтийского ордена готовилась совершить обратный путь в свою резиденцию.
Сибирский огорченно свел брови. Всякому другому он уже указал бы на недопустимость такого поведения, но Талызин генерал, пусть и молодой совсем, а он, Сибирский, всего лишь поручик. И все-таки... Но в вопросах чести нет чинов, а генерал – порядочный человек... Он найдет способ извиниться, несомненно! Тем более впереди у Сибирского самые блестящие перспективы. Не дожидаясь назначения себя великим магистром, император отдал приказ подбирать в полках отборных молодых людей для зачисления в особую гвардию гроссмейстера. Росту у кандидатов должно было быть не менее шести футов с половиною, цвет волос – жгуче-черный, стать – богатырская, выправка отменная. Сибирский окольными путями успел узнать, что в особую гвардию он уже зачислен, потому что подходит под требования императора, как хрустальный башмачок – Сандрильоне[37]37
Так французы называют Золушку.
[Закрыть]. Конечно, очень многие желали бы попасть в эту гвардию, однако кого подводил рост, кого цвет волос, кого выправка. Беда только, очевидно, теперь придется в мальтийские рыцари вступить, однако Сибирский этим не очень смущался. Коли весь двор охотно шагает за императором в тартарары, отчего ж ему отставать надобно? Несмотря на молодость, он понимал, что в жизни надо уметь поступаться малым, чтобы достигнуть большего, и был к этому готов!
Однако сделать это Сибирскому не удалось. На завтрашнем смотру молодой прапорщик удостоился немилостивого взгляда императора.
– Как ваша фамилия? – ни с того ни с сего спросил тот, упирая взор в переносицу побледневшего Сибирского.
Тот едва ответил, испугавшись выражения его курносого лица с выступающими зубами.
– Сибирский? – хохотнул Павел. – Очень кстати! Коли Сибирский, тогда шагом марш в Сибирь! – скомандовал император, поворачиваясь на каблуках и уходя с плаца.
Прапорщик стоял будто громом пораженный. Да, общеизвестно было, что Павел отдает приказы об аресте и ссылке офицеров налево и направо, придираясь порою к таким мелочам, о которых и думать стыдно. Случалось, не угодившие ему офицеры прямо с парадов отсылались в другие полки и на самые большие расстояния. Это случалось настолько часто, что даже представители лучших фамилий не могли считать себя защищенными от произвола. Вошло в обычай, идучи в караул, класть за пазуху несколько сот рублей ассигнациями, дабы не остаться без денег в случае внезапной ссылки. Однако каждый втихомолку считал, что с ним такой беды приключиться не может.
Не был исключением и Сибирский. Однако гром грянул именно над его головой!
Бедняга был так ошеломлен, что растерялся и пролепетал обессиленно:
– За что, ваше императорское величество?
– Так вам, сударь, не нравится колокольный звон? – вопросом на вопрос ответил Павел. – Не тревожьтесь: вас отвезут в такую тмутаракань, что там даже часовни не сыщется, не только что церкви с колокольнею!
И сделал знак двум часовым встать по обе стороны несчастного арестованного.
Сибирский был отправлен по назначению в тот же вечер. А спустя месяц рослые гвардейцы, отборной стати, роста и внешности, одетые в красные мальтийские мундиры, поселились во внутренних казармах Зимнего дворца. На торжественных обедах, на балах они порою маршем проходили мимо гостей, нарушая картину общего веселья и вынуждая танцующих разлететься по сторонам, словно сухие осенние листья, взметенные студеным ветром. На место Сибирского в число гвардейцев был взят какой-то поручик. Правда, он уступал на пару вершков принятому ранжиру роста, да и цвет волос у него был не черный, как требовал император, а темно-русый с рыжиной. Но на такую уступку император согласился ради генерал-майора Талызина, открывшего ему глаза на измену, зревшую в душе поручика Сибирского, оскорбившего столь любезный сердцу Павла Мальтийский орден. Талызин получил чин генерал-лейтенанта и был назначен командиром Преображенского полка.
Нелишне будет сказать под занавес этого сюжета, что молодой человек, обладатель темно-русых с рыжиною волос, был племянником госпожи Свечиной, признанной любовницы генерала.
Май 1801 года
«...Благородный человек навсегда таковым останется и иным не сделается, как бы судьба над ним ни измывалась!»
Алексей открыл глаза.
Эти слова, чудилось, ему кто-то в ухо шепнул – взволнованно, жарко.
Он вскинулся, огляделся всполошенно, не вполне соображая, где находится. Какой-то закуток с косым, низко нависшим бревенчатым потолком, тщательно проконопаченным сухим мохом. Такие же стены, по которым на щепочках, воткнутых в пазы, понавешаны пучочки трав, превратившихся уже в сухие будылья, однако не утративших сладковатого, спокойного запаха, от которого так и клонит в сон. Сейчас, правда, эти тонкие ароматы перекрывает капустный дух щей, которые, конечно, томятся в русской печке. (Алексей уже успел усвоить, что это любимая еда хозяйки, тем же самым неизменно кормившей и своего нечаянного постояльца.) Ситцевая линялая занавеска ограждает убогий топчан, на котором простерт Алексей. В уголке стоит старый косарь – большой, тяжелый нож, сделанный из обломка косы, им хозяйка лучину щепает под вечер, чтобы Алексей не лежал в кромешной тьме. Но сейчас за косеньким окошком вполне светло, видно, что в каморке он один – и никого рядом, кто мог бы взволнованным голосом произнести эти слова.
«...Благородный человек навсегда таковым останется и иным не сделается, как бы судьба над ним ни измывалась!»
Не про него ли речь? Или почудилось? Во сне приснилось?
Алексей потер лоб, пытаясь отделить сон от яви. В последнее время столько всего навалилось! До сих пор иногда кажется, что вот откроешь однажды глаза – и проснешься в своей маленькой спаленке во втором этаже старого барского дома в Васильках, а в распахнутое окно будет вливаться сочный аромат цветущих лугов, приправленный суровым голосом тетушки, отчитывающей за нерадивость каких-нибудь Федьку, Трошку, Симку, Лушку, Прошку...
Прошка. Прошка!
Алексей усмехнулся – и снова откинулся на подушку, чувствуя, как уходит тревога. Удивительно, поразительно... Кто послал поперек его пути старинного друга? Не тот ли самый Случай, которого он просил о помощи – как мужчина мужчину? Это же надо – после всего, что Алексей в полубреду бахвальства наболтал о себе, дескать, чем хуже, тем лучше, Прошка не кинулся от него бежать бегом, а довел, вернее, дотащил, когда пешком, когда волоком, через весь город в этот маленький домик на Васильевском острове, притулившийся на отшибе под кривой старой яблонькой, которая была так избита ветрами, что ствол ее причудливо изогнулся от морской стороны: ветвями она почти касалась земли, и дивно было, как еще стоит, не падает эта измученная жизнью старушка.
При взгляде на обитательницу дома всякого человека тоже непременно взяло бы удивление – как у нее еще хватает сил топтать землю? Впрочем, она была до того мала ростом, иссушена годами и невзгодами, что, чудилось, и вовсе не касалась земли. Может быть, носили ее святые небесные силы, которые были, по всему видно, милостивы к Агафье Никитишне – в отличие от людей?
Как ни был слаб и изнурен Алексей, как ни погрузился он в свои беды, все же запомнил кое-что из того, что рассказал Прошка о бабе Агаше. Она была кормилицей молодой графини Анны Семисветовой, вырастила ее, последовала за госпожою в дом ее супруга, а потом сделалась нянюшкой ее дочери Елизаветы Демидовой, ставшей впоследствии княгиней Каразиной. У князя Василия Львовича Каразина и служил теперь Прошка, перешедший к нему с богатой конюшней за долги своего прежнего господина (того самого, которому некогда проиграл его старший Уланов). Княгиня Елизавета умерла десять лет назад, простудившись на масленичном гулянье, так что баба Агаша, по сути дела, вынянчила и вырастила дочь ее, княжну Анну.
Конечно, старушке, которой было далеко за семьдесят, следовало бы не ютиться в халупке на Васильевском, а доживать век в холе и приволье, лелеемой добрыми и благодарными господами своими. Так оно, без сомнения, и велось, когда бы год назад Василий Львович Каразин не взял да и не женился на единственной дочери своего приятеля, обедневшего дворянина Старовольского, Евдокии, засидевшейся в девицах, несмотря на ангельскую красоту печальных очей. Поскольку свадьба произошла чуть ли не вслед за похоронами самого Старовольского, в свете поговаривали, что дело тут не в любви, а в обыкновенной жалости к сироте и исполнению каких-то старинных долгов Каразина перед другом, которому он всегда старался помогать и даже держал на небольшом пенсионе.
Так ли, не так – во всяком случае, княгиня Евдокия (Eudoxy, как она велела себя называть на французский манер и, говорят, просто пламень изрыгала, когда кто-то обмолвится да и окликнет ее русским именем) очень быстро оправилась от горя, а главное – мгновенно забыла прежнее свое полунищенское существование и из кожи вон лезла, чтобы и остальных заставить забыть об этом. Была она придирчива и сварлива – просто спасу нет никакого! По словам Прошки, дворня боялась новой княгини пуще, чем старинного привидения, которое, по слухам, иногда любило прохаживаться в верхних этажах дома, пугающе постукивая деревянной ногой (некогда привидение было ветераном Крымской кампании 1739 года, зарезанным в собственной постели спятившим камердинером).
С особенным пылом Eudoxy старалась вытравить в княжеском доме память о своей предшественнице – и для начала выжила всех старых слуг, хранивших память о ней. Кого продали на сторону, кого выселили в вотчинные имения: петербургское, подмосковное и тульское. Перво-наперво избавились от бабы Агаши – потому что косо глядела на молодую, красивую, лютую мачеху своей «кровиночки», как она называла молодую княжну. Причем Eudoxy оказалась очень не простой особою. Она мигом прознала, что у Василия Львовича со старой нянькою жены были нелегкие отношения. Княгиня Елизавета ленива была до светской жизни, не любила выезжать, вдобавок все время чем-нибудь да прихварывала, ну а поскольку Василий Львович состоял в сенаторах при матушке-императрице Екатерине, от него требовалось постоянное присутствие при дворе. На этой почве они с женою постоянно вздорили, а баба Агаша всячески потворствовала своей барыне, поэтому мачеха сумела внушить мужу, что при «этой старой ведьме» из Аннеты, то есть молодой княжны, вырастет такая же «сонная провинциалка», как и ее покойная маменька. Видеть в дочери повторение бывшей жены Каразин нипочем не желал, поэтому покорился настырной Eudoxy и удалил старую няньку из дому, дав ей вольную и купив домик на Васильевском.
Домишко был так себе, халупа, по правде сказать, однако ни в какое более достойное жилье баба Агаша идти не пожелала. Наверное, ей доставляло удовольствие осознавать «неблагодарность» князя Василия. А может быть, привыкнув за жизнь к убогоньким каморкам под лестницами (ну где еще в барских домах ютились старые няньки?), она чувствовала бы себя неуютно в более роскошных условиях. Деньги от старого князя она тоже не хотела брать, а жила только тем, что ей еженедельно привозила княжна Анна Васильевна – привозила самолично, в тайне от мачехи и как бы от отца. В самом ли деле Василий Львович не знал, куда еженедельно отправляется его семнадцатилетняя дочь, или просто делал такой вид – об этом можно было только гадать. Гувернантку свою, мадам Жако, юная княжна держала в ежовых рукавицах, та и пикнуть не смела, когда девушка оставляла наставницу сидеть в коляске и час, а то и больше проводила у бабы Агаши, потому что и молодая княжна, и все домочадцы (включая и самого князя Василия!) очень скоро невзлюбили новую госпожу за зловредный нрав, мелочную придирчивость, грубость и алчность. Печальный ангел обернулся сущей демоницей... как это, впрочем, и бывает в жизни сплошь да рядом, в чем наш герой мог убедиться на собственном горьком опыте.
Об этом, как и обо всех подробностях жизни у Каразиных, Алексею тоже поведал Прошка. Конечно, это было просто чудом, что именно в тот день княжна Анна Васильевна не смогла проведать старую няньку и велела первому попавшемуся прислужнику отнести ей гостинца. Иначе... Иначе неизвестно, что приключилось бы с Алексеем. Не встреть он Прошку, может, помер бы с голоду, да и все тут. Ведь у него недостало бы сил даже пойти и сдаться властям! А такая мысль была, чего греха таить. Сдаться. Повиниться. Попытаться все объяснить.
Но кому – вот вопрос? Даже и теперь, отлежавшись под ласковым, хотя и несколько назойливым приглядом бабы Агаши, которой было все равно, о ком заботиться, лишь бы хлопот побольше, он никак не мог придумать, куда податься, у кого просить совета и помощи. Чем дальше, тем бесповоротнее он постигал, в какую паутину попал, в какой топкой грязи увяз, в какой дремучей чащобе заплутался. Нет выхода! Как ни вертись, ни бейся, ни дергайся – его нет.
– Что ж думаешь, светик, он только лишь притворяется божьим человеком, а на самом деле черные замыслы лелеет?
Алексей вздрогнул, внезапно вынырнув из своих черных дум, в которых уже и с головкой, и с ручками-ножками утонул.
Это баба Агаша – ее шелестящий старческий говорок ни с каким другим не спутаешь. А с кем же она беседует? С какой-то молодой женщиной, судя по звонкому, взволнованному голосу.
– Я чувствую, знаю, что злое у него за душой, однако он так умеет заморочить голову своей льстивой улыбкой и праведными речами, что все будто одурманенные ходят. Мачеха при виде его тает, как снег апрельским деньком, батюшка восхищается его умом, находит удовольствие в богословских спорах с ним и, хоть еще не читает день и ночь католический молитвенник, подобно мачехе, но, боюсь, станет утехи искать в чужой вере.
– Грех-то какой! – ахнула старушка. – Мыслимое ли дело... Что ж он таково озлобился на нашу веру-то православную, на отеческую?
– Да не в том дело, – с досадой бросила, словно отмахнулась, незнакомая девушка. – Не на веру он озлобился. А на людей! Не доверяет никому, не надеется уже, что судьба его к лучшему повернется, вот и гневит бога озлоблением. Мыслимое ли дело – сколько уж лет он не у дел! Как прогневал покойного императора, попытавшись остеречь его от этой актерки французской, она-де шпионит при русском дворе в пользу врага нашего, так и пошла его судьба под откос. Ожидал, конечно, батюшка, что новый император вернет его на службу – ан нет...
– Да неужто за него и заступиться некому?
– А кому? – усмехнулась девушка. – Батюшкины прежние друзья: граф фон дер Пален, Никита Васильевич Панин, братья Зубовы – все если не в опале, то со дня на день ее ждут.
– Да что ты несешь, ну сама посуди? – сердито спросила старуха. – Да разве такое мыслимо? Они для молодого императора... сама знаешь, на что они для молодого императора пошли!
– Так-то оно так, но теперь его величество желает от всего откреститься. Не знал, дескать, ничего, ни сном ни духом не ведал. А граф Пален, который к батюшке по-прежнему чуть ли не еженедельно наезжает, по старой-то дружбе, он клянется, что все с ведома государева приключилось, что, кабы не это, сами-то они не решились бы... А, что говорить! Батюшка в сем деле не был, однако же тень неприязни властителей на него как легла, так и по сей день лежит. При прежнем ли государе, при этом ли... То и дело заговаривает: не отъехать ли, мол, в вотчинное имение, не зажить ли на деревенском покое? К счастью, с места пока не трогаемся, и потому, конечно, что мачеха поклялась с места не двинуться, пусть, мол, силой ее увозят, в тенетах связанную. Батюшка и сам на отъезд решиться никак не может – все ждет, вот-вот покличет его государь. Ведь что ему надо? Не придворного блеска он жаждет – пользу отечеству приносить. А желание его никому не нужно, вот в чем беда. Силы его не нужны, ум. Оттого он и чахнет, оттого и несчастен. Ну а княгиня...
Голос девушки прервался на миг, потом зазвучал с новой, страстной силой:
– Думаешь, я не слышала, как они бранятся? Весь дом слышит. Мачеха ведь никого не стыдится, ни людей, никого. Это прежде, без нее, так велось, что люди о господских пересудах не ведали. А теперь небось последнему мальчишке кухонному известно: княгиня желает при дворе блистать и князя винит в том, что он не может этого сделать, хоть и манил блестящим будущим, когда сватался. Во всеуслышание клянет его и день тот, когда он воспользовался ее сиротством...
– Ах ты, аспидская сила! – возмущенно выкрикнула баба Агаша. – Как то есть воспользовался?! Пригрел, подобрал, приютил, власть над домом дал, позволил все перекроить, переиначить, вверх дном перевернуть. Вон до чего дошло дело: родимое дитятко без пригляду оставил...
– Ох, няня, няня, – вздохнула девушка. – Это и хорошо. Будь за мною такой пригляд, какого ты хочешь, разве могла бы я к тебе наезжать? Никогда в жизни меня бы одну не отпустили. А так... мачеха только рада, когда я из дому прочь, лишь только ее аббатик к ней заявляется. Сразу двери хлоп на замок – только и слышно жу-жу-жу, жу-жу-жу за дверью, а потом – тишина.
Девушка снова умолкла.
– Да милая моя, да ты что... – прошептала баба Агаша, но гостья вскрикнула тонко, отчаянно:
– Молчи, няня! Не то заплачу!
– Охти мне, охтеньки, – простонала баба Агаша, но послушно замолкла.
Алексей нахмурился. Не стоило труда догадаться, что неизвестная девушка уже плачет. Хотя почему – неизвестная? Не понять, что навестить старую няньку пришла ее воспитанница, княжна Анна Васильевна Каразина, затруднило бы только полного идиота, а таковым Алексей себя никогда не считал. До него дошел даже намек на некую французскую актерку, агентессу Первого консула, сиречь Наполеона Бонапарта, узурпатора французского. Кем еще могла быть эта актерка, как не шаловливой Луизой Шевалье? Странно – каких-то две, ну, три недели минуло после их разлуки, а Алексею почему-то казалось, что это было в некоем незапамятном прошлом, еще прежде отъезда его из Васильков. Не дрогнуло сердце при воспоминании о ней, Алексей только удовлетворенно кивнул: благодаря болтливости Луизы он кое-что узнал о событиях 11 марта, поэтому эти имена – графа Палена, Никиты Панина, Николая, Платона и Валерьяна Зубовых – уже не были для него пустым звуком... так же, впрочем, как имена дядюшки Петра Александровича и бедолаги Скарятина. Только, разумеется, мадам Шевалье отзывалась о них не иначе как с ненавистью, а в голосе княжны Анны звучало печальное уважение. Всплыли у Алексея и некоторые другие воспоминания. Луиза, конечно, была католичкой, вдобавок очень прилежной, и не раз роняла намеки на все увеличивающееся влияние католических аббатов в домах близких ко двору вельмож. Чего было ожидать, когда сам император Павел, и его семья, и все облеченные властью состояли в пресловутом Мальтийском ордене? Мадам Шевалье с особенным почтением говорила о каком-то пасторе Губере, который был во всякое время вхож к государю – якобы только за то, что некогда излечил злейшую зубную боль императрицы. Никто не мог ей помочь, а отец Губер в два счета избавил от страданий. Опять-таки умел он варить непревзойденный шоколад, который пришелся весьма по вкусу императору. Иметь в доме такого своего «Губера» сделалось среди придворных весьма модным. Так же, как и менять веру, переходить в католичество. Луиза Шевалье упоминала Александру Голицыну, графинь Ростопчину и Протасову, Толстую, Шувалову, Головнину, княгиню Васильчикову, которые совращались сами в латинство и совращали детей своих и ближайших родственников. Очевидно, и мачеха Анны не устояла против общего поветрия, если вспомнить какого-то там молодого аббатика, однако слова девушки о нем показались Алексею очень... как бы это сказать... двусмысленными. Может быть, он ошибался, может быть, неправильно понял молодую княжну?
А впрочем, какое его дело во всем этом? Его-то какая забота? Ему надобно отлежаться, здоровья набраться и сил, чтобы не только шпагою мог пыряться при надобности, но и головой думать, к кому постучаться со своей просьбою, искать, кто защитит его или хотя бы даст разумный совет.
Нет такого человека... нет! Кому придет охота просто так, ни с того ни с сего, тратить силы на беглого убийцу? Вот, к примеру, вывались он сейчас из-за этой линялой занавесочки, кинься в ноги незнакомой княжне, проси заступы у ее отца, пусть и бывшего царедворца, но все сохранившего влиятельные связи, – что скажет Анна Васильевна? Да ничего. Кинется с воплем прочь, сама на подмогу станет звать – кучера да мадам свою, которые госпожу в карете дожидаются, в голос вопить станет, чтобы оборонили ее от неведомого наглеца! А дойди дело до ее отца, он сам первый сдаст беглого властям и слушать его не станет...








