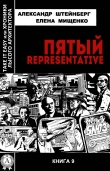Текст книги "Через Атлантику на эскалаторе"
Автор книги: Елена Мищенко
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
ПОЯВЛЕНИЕ МИСТЕРА БЕЙКОНА
В это время мои воспоминания прервало появление мистера Питмана, пригласившего меня в кабинет. Корифей архитектуры мистер Бейкон имел довольно скромный вид. Это был не очень молодой человек 87 лет, высокий, худой, седой, одетый в легкомысленную полосатую тенниску и согнувшийся под тяжестью огромного тома «Жизнь на Миссисипи».
– Мистер Бейкон – архитектор, вошедший в книгу лучших людей Америки, – представлял мистер Питман, – а это русский художник, еще пока не попавший в книгу лучших людей Америки, но я надеюсь, что с моей помощью он скоро туда попадет.
Мистер Бейкон, избавившись, наконец, от тяжелейшей «Жизни на Миссисипи», поведал мне, что он видел мои картины из серии «Наша Филадельфия», выполненные в акрилике, что они на него произвели очень сильное впечатление и даже довели до слез.
– Вы, очевидно, очень эмоциональный человек, – ответил я ему, – я не думал, что городской пейзаж может вызвать слезы. В таком случае перед картинами Каналетто вы, наверное, плачете навзрыд, а перед «Парижскими бульварами» Писсаро просто рыдаете.
Он ничего не понял и предложил приступить к делу. А дело заключалось в следующем. Мистер Бейкон решил представить эскизный проект реконструкции Independence Square – Площади Независимости. Это одна из основных исторических площадей Америки. Посредине ее шла эспланада для парадов с плитами и ступенями, которая никогда не использовалась. По обе стороны эспланады размещались павильоны с аркадами. Все это пустовало. Редкие прохожие забредали в эти колоннады по пустячному делу на минутку. Я уже давно приглядывался к этой площади и поэтому крайне оживился и заявил, что у меня есть конкретные предложения по ее реконструкции. Мэтр довольно сухо ответил, что архитектуру он уже решил, и поэтому мои предложения ему не нужны, а он хочет использовать меня как художника.
– Сейчас у нас 30 арок, – сообщил он, – но это не беда. Мы доведем их количество до 50 – по количеству штатов. И каждая арка, каждый участок павильона будет представлять один штат. Там будет киоск для продажи сувениров, книг, картин и фотографий, а на торцовой стене будет ваша картина, посвященная наиболее интересным сооружениям и природным явлениям этого штата. Картина будет иметь размеры 10 на 20 футов. Всего вы должны будете написать 50 картин.
– Но это же гигантская работа! Расписать 10 тысяч квадратных футов стен…
– Я все предусмотрел. Вы не будете расписывать стены. Вы сделаете картины в той же технике, что и серия по Филадельфии, а мы их потом смонтируем в арках. Так что начинать вы сможете одновременно со строителями.
Я был ошеломлен. Перед моими глазами открылись фантастические горизонты. Вот я за рулем своего вэна разъезжаю по всей стране, изучая достопримечательности всех штатов, встречаюсь с губернаторами, а потом работаю в огромной мастерской, в которой помещаются шестиметровые холсты… В своих мечтах я несколько отвлекся, но тут мне пришлось насторожиться, потому что дальше мэтр начал излагать чересчур экстравагантные мысли.
– После этого вы на фанере нарисуете наиболее популярных героев или характерных жителей этих штатов в натуральную величину, стоящих группами. Мы эти фанерные изображения вырежем и укрепим перед каждой аркой. И вот, представляете, приезжают туристы и фотографируются с наиболее интересными персонажами каждого штата на фоне ваших картин. Они делают 50 фотографий и получают альбом, как будто бы они объехали всю Америку.
Маэстро посмотрел на меня с победным видом. Я был страшно удивлен, с какой легкостью принимаются принципиальные архитектурные решения с помощью такого незатейливого материала, как фанера. У меня даже появились некоторые сомнения насчет состояния здоровья нашего творческого руководителя. Я представил себе площадь, по которой ходят ошеломленные туристы вперемешку с манекенами индейцев, господ в цилиндрах, дам в кринолинах, босяков и бродяг, вырезанных из фанеры (кстати, как насчет дождя), и перепуганных прохожих с фотоаппаратами, пристраивающихся к этим монстрам. Но спорить я не стал. Флаг вам в руки, господин Бейкон. Архитектор пусть рвется в бой, а я – художник-оформитель.
– Было бы интересно представить себе какой-нибудь пример.
Маэстро оживился.
– Вот, например, штат Миссури. Я для этого принес книгу «Жизнь на Миссисипи». Вы изображаете силуэт города Сан-Луис с гигантской аркой, а на переднем плане двухтрубный пароход плывущий по Миссисипи. О’кей?
– Насколько я знаю, эту гигантскую арку создал архитектор Сааринен относительно недавно, а двухтрубные пароходы уже давно исчезли.
– Это детали, не играющие никакой роли. Потом вы на фанере рисуете Тома Сойера, Геккльбери Финна и тетушку Салли в натуральную величину, а мы их вырезаем и ставим перед аркой. Каково?
– Ошеломляюще. А как насчет Тома Сойера, высеченного в мраморе вместе с тетушкой Салли?
– Нет, я думаю это будет слишком сложно. Я попрошу вас сделать эскизы через неделю. Я позабочусь о презентации.
Мистер Питман слушал нашу беседу с большим недоверием. Он так и не мог уловить всю грандиозность предстоящих фанерных шедевров. На этом наш нестойкий тройственный союз завершил свой первый митинг.
Я покинул заведение имени великого физика со смешанными чувствами: то ли мне предложили серьезную работу, то ли втянули в скверную бесперспективную аферу. Я двинулся по Уолнут-стрит до Риттенхауз-сквера, прошелся по аллее и уселся на скамейку. Я любил это место. В центре Филадельфии мало зелени. И эти два островка – Вашингтон-сквер и Риттенхауз-сквер – очень меня привлекали. Особенно второй из них. Здесь проводились различные шоу. Ежегодно мы посещали грандиозную выставку цветов. Кроме того, здесь устраивались осенние выставки художников и сгайзтеп (мастеров-прикладников). Эти шоу всегда меня удивляли.

В них участвовали художники-выпускники University of Art, Academy of Fine Art и просто университетов. Это я знал точно, так как возле каждого художника висела табличка с его биографией и перечислением заслуг. Но здесь, в отличие от официальных выставок, не ставили инсталляций, не выставляли куски искареженного железа и перепачканные доски. Здесь царил соцреализм. Очевидно, желание что-нибудь продать брало верх над стремлением к оригинальности.
Молодые люди и девицы валялись на траве в рискованных позах – здесь это разрешалось. Хомлесы с увлечением копались в урнах, выуживая коробки для завтраков и бутылки кока-кола. Юноши и девушки громко беседовали, поглощая чизбургеры.
Больше всего мне нравилось то, что тут растут каштаны, такие же, как и в Киеве, с настоящими свечками, к которым мы так привыкли, и которые вызывали так много воспоминаний. Чувствовал ли я ностальгию? Очевидно, да. Но это была ностальгия не по сегодняшнему Киеву, а по городу, где прошла моя молодость и большая часть творческой жизни. Я любил Киев времен моей институтской учебы. Я любил Киев шестидесятых. Я с удовольствием вспомнил свой родной институт с инфантильным названием КИСИ, куда я, нагруженный чертежными досками, добирался на трамвае номер 2.
ИНСТИТУТ (дела давно минувших дней)

– Молодой человек, вы на Евбазе выходите?
– Да-да! Выхожу, не толкайтесь. Здесь все выходят.
Я пробил себе дорогу двумя чертежными досками, и, выслушав не совсем лицеприятные комментарии пассажиров, вывалился из трамвая. Здесь уже давно не было еврейского базара, но название оказалось настолько живучим, что его ничто не могло изменить. Раньше это была Галицкая площадь, но все называли ее Евбаз, в 1952 году ее переименовали в площадь Победы, однако название Евбаз осталось.
Еще не было ни цирка, ни Центрального универмага, ни гостиницы «Лыбидь». Еще не построили парадные пропилеи из двух жилых домов с угловыми надстройками, в одном из которых был Аэрофлот, а в другом-гостеприимная квартира замечательного кинорежиссера Сергея Параджанова. Всего этого еще не было, но рынок уничтожили, площадь пустовала, и все равно ее называли Евбаз. Только в воспоминаниях старожилов остались легенды о бурной жизни старого еврейского базара, о хитроумных продавцах и колоритных покупателях, о неповоротливых балагулах, о богатыре-грузчике Иосифе по прозвищу Лампадка. Он приходил на рынок очень рано с жестокого похмелья, снимал шапку с какого-нибудь незадачливого еврея, выглядевшего поприличнее, поднимал одной рукой 10-пудовый ларек и клал шапку под него, предварительно подложив газетку. После этого он вежливо обращался к господину:
– Уважаемый, я очень извиняюсь. Вам бы хотелось получить свою шапку, а мне хотелось бы получить гривенник поправить здоровье. Я думаю, мы договоримся. Ведь здесь же базар.
На него не обижались, ибо это уже была традиция. Получив гривенник, он вежливо благодарил, возвращал шапку и шел поправлять здоровье молодым молдавским вином.
Сейчас от всех базарных дел остались только две скобяные лавки в старом доме.
Я шел по Брест-Литовскому шоссе. Ярко светило солнце, снег скрипел под ногами, настроение было прекрасное – последний курс, диплом и впереди масса интересных дел: проекты, конкурсы, новостройки. Я повернул за угол, прошел мимо табачной фабрики и подошел к портику института. Обычно в это время здесь было оживленно, масса студентов и студенток с досками, этюдниками и сумками, шум, гам, приветственные возгласы. Но сегодня была тоскливая пустота – еще не кончились каникулы.
– А ты чего явился? – проворчал Маркелыч, дежурный на входе. – Дома не сидится? Можешь еще два дня прохлаждаться.
Маркелыч должен был проверять студенческие билеты, но он знал всех студентов в лицо. Курсы на архитектурном факультете были маленькими – по 25 человек, да и половина билетов были просроченными. Творческая молодежь не отличалась большой аккуратностью.
– Небось в рисовальный класс, малевать не терпится. Антигноя, небось.
Маркелыча когда-то засунули в инвентаризационную комиссию как представителя хозчасти. На него сильное впечатление произвели гипсы в рисовальном классе – особенно Антиной. Впоследствии он комментировал:
– Представьте себе, все мужики голые, а один даже со снятой кожей. А головы у них есть красивые. Особенно Антигной – инвентарный номер 1423.
С тех пор он не упускал случая блеснуть своей эрудицией. Сейчас Маркелыч явно скучал.
– А зачем доски? Сдавать, небось? Только и знаете носить туда-сюда. Сидели бы себе в институте и вкалывали. А что у тебя за книга?
– Диккенс.
– Не знаю такого романа. А сколько она стоит?
Я взглянул на обложку.
– Одиннадцать рублей.
– Я тебе вот что скажу. Если это про войну, то она таких денег не стоит, а если про любовь, то это сплошной обман зрения. Вот, например, у меня Арбузов книгу оставил – 17 рублей, а я глянул – одни разговоры.
Я понял, что литературный диспут может затянуться и поспешил ретироваться. Арбузов – проректор по хозчасти – был для него непререкаемым авторитетом, а для нас, студентов, его мощная фигура – хорошим объектом для карикатур. Говорили, что когда он встречался с Юровским – корифеем конструкторов, имеющим аналогичную комплекцию, то для рукопожатия они заходили боком друг к другу, так как напрямую руки не дотягивались.
Я поднялся на второй этаж, оставил доски на кафедре конструкций и пошел по коридору. Это место студенты не очень любили. Здесь чувствовалась власть Дубины и в прямом, и в переносном смысле. Тут располагалась кафедра марксизма-ленинизма и кабинет ее бессменного руководителя – доцента Дубины. С ним у всех архитекторов были постоянные конфликты. Во всех юмористических газетах он выискивал крамолу и требовал эти газеты снимать. Последняя стенгазета прошлого семестра была посвящена бурному комсомольскому собранию по вопросам излишеств в архитектуре. Газета имела 10 метров длины, и в основу ее была положена «Вакханалия» Рубенса, которая по теме и по накалу соответствовала событию. Сначала преподаватели посмеивались, но когда славный доцент Дубина увидел себя в виде козлорогого сатира да еще с нимфой (ассистенткой кафедры), судьба газеты была решена.
У меня с ним возник конфликт еще на втором курсе, когда он после всех моих, трудом и потом заработанных, пятерок по другим предметам, влепил мне тройку по марксизму. Когда я пришел к нему пересдавать, он отнесся ко мне весьма скептически.
– Марксизм – это не тот предмет, который можно выучить за две недели. Это тебе не сопромат.
Он сидел с кислой физиономией и слушал мои ответы. И только, когда я сказал, что первые произведения Сталин опубликовал в газетах «Ахали Цховребо» и «Дро», он страшно удивился:
– Ты что, грузинский знаешь? Ведь ты же еврей.
– Да, я не грузин, но эти слова я выучил специально, из любви к товарищу Сталину, – ответил я, не моргнув глазом.
Сработало. Он переглянулся со вторым экзаменатором и тихо исправил отметку.
Я прошел по коридору и заглянул в крайнюю аудиторию. Там сидели два студента, очевидно, третьекурсники, так как между ними лежал конспект по статике сооружений. Они сидели по обе стороны стола и лихорадочно переписывали формулы с конспекта на шпаргалки. Я подошел поближе.
– Чего такое рвение? С Платоновной не смогли договориться?
– Берем измором. На третий заход уже идем.
– Вот тут вы неправы. Алла Платоновна Бажан дама строгая, но не жестокая, как некоторые марксисты. Вы бы ей стихи ее брательника почитали, она бы и смягчилась.
– Ты насоветуешь. Тут ни одной эпюры не запомнить, а ты еще стихи. Ну тебя!
– Не груби старшим. А, кстати, ты почему переписываешь вверх ногами?
– А мне все равно. Я эти формулы рисую как орнамент.
– В тебе погибает большой художник-декоратор. Кстати, ты, говорят, здорово красишь. Мне нужен будет «китаец» через месяца два.
– За так или за коньяк?
– Конечно за так, но второе, естественно, само собой. Уважай традиции, тогда и тебе не дадут погибнуть в трудную минуту.
По традиции старшекурсники помогали дипломникам делать проекты. Этих добровольных помощников называли в Киеве «китайцами», в других городах по-другому: «негры», «рабы» и т. д. «Китайцы» частенько знали проект лучше, чем дипломник, и на защите подсказывали. Небезызвестен случай, когда нерадивый дипломник, защищая проект аэровокзала, на вопрос члена комиссии, что это за помещение на плане подвала, обозначенное «кл.», задумавшись, ответил: «А это клозет. Я, знаете ли, специально так написал. Уборная – грубо, а туалет как-то не по-русски». «Ну, а рядом, что это за «кл.»? «А это дамский клозет». «А на правой части плана, посмотрите, там 8 таких клозетов». «Ну, знаете, все-таки аэропорт – много посетителей». «А внизу?» И тут его «китаец» не выдержал и сказал громким шепотом: «Кладовые, дубина!» Завкафедрой марксизма-ленинизма Дубина нервно передернулся и мрачно посмотрел в зал.
Покинув трудолюбивых страдальцев, я поднялся на третий этаж. Тут я заглянул на кафедру рисунка, где жил легендарный Антиной, любимец Маркелыча. Там-таки рисовали, и именно Антиноя, Маркелыч как в воду глядел. Я вспомнил, что в этом году перебрали при приеме первокурсников, хотя количество мест увеличили до 50, но и блатных тоже, как известно, немало. Всех принятых предупредили, что тех, кто хуже будет рисовать, отчислят. А так как Репиных и Серовых среди них было негусто, приходилось коротать каникулы за мольбертами. Я подошел к одному из первокурсников и произнес елейным голосом.
– Молодой человек, встаньте из-за мольберта, давайте отойдем на пару шагов и посмотрим на ваш рисунок. Давайте взглянем на него с точки зрения теории пластичности и выявления, так сказать, основных форм и пропорций. Это нам необходимо для правильного отражения рисуемого объекта. Я надеюсь, что вы не станете утверждать, что сама схема построения классической головы…
Студенты заулыбались. Этот номер я проводил неоднократно, и все узнавали в этих высказываниях заведующего кафедрой Юрия Михайловича Петрова, который, очевидно, в силу своей деликатности (злые языки находили другие причины), никогда не садился за мольберт, как другие преподаватели, но зато мог излагать теории часами.
Под жидкие хлопки я покинул рисовальный класс и двинулся к актовому залу.
Там работали столяры и плотники. Оттуда слышался стук молотков, отдельные слова и сложные построения неформальной лексики. Зал имел три прохода – один посредине и два сбоку у окон. Вместо боковых проходов там сооружали загородки для дипломников. Диплом-никам-архитекторам всегда не хватало места, и для них создавали фанерные пеналы, как в общежитии имени монаха Бертольда Шварца. Это обычно вызывало бурю эмоций у пожарного инспектора, но после длительных интимных бесед с товарищем Арбузовым, он успокаивался.

Я подумал, что через два дня нужно будет прийти, чтобы заранее занять место. Потом, как правило, месяц никого не будет. Это тоже традиция. Но место нужно забить, и доски нужно получить. После этой процедуры каждый дипломник упражнялся в творчестве на обратной стороне досок: «Если ты спер эту доску в дипломантской, немедленно покайся и верни ее Сидорову» и т. д.
В том году положение дипломников было весьма щекотливым. Постановления ЦК КПСС и Совмина уже осудили всех, кого можно было осудить, и появились призывы покончить с излишествами и разобраться с классикой. На небезызвестном собрании, изображенном впоследствии легкомысленными карикатуристами в виде «Вакханалии» по Рубенсу, товарищ Дубина прямо спросил: «Как мог допустить комсорг третьего курса Манечкин излишества в проектах своих сокурсников?» На что несознательный Манечкин пробурчал: «А как допустили все это вы, как допустили все это там?» и показал дрожащим пальцем вверх, чем вызвал большое недовольство представителя райкома, которое он не преминул высказать в своей гневной заключительной речи.
Что проектировать дальше, было неясно. С одной стороны, Корбюзье – представитель продажной архитектуры империализма, а с другой стороны, – Жолтовский – ретроград, заведший советскую архитектуру в тупик. Уже ходили слухи, что гостиница «Москва» в Киеве будет без башни, и шпиль в высотном здании «Дружбы», что напротив ул. Ленина, утопили наполовину в башенку, чтоб не сильно бросался в глаза. Злые языки утверждали, что корифей архитектуры Вадим Иванович Гопкало, запроектировавший 60 керамических шишек на жилом доме, ходит по проектным институтам и предлагает их – эти шишки – архитекторам в розницу по 2, по 3. Архитекторов называли «шпилягами», так как совсем недавно закончилась предыдущая кампания по борьбе со стилягами. Наиболее эрудированные студенты занимались вольнодумством и уже шепотом поговаривали о возвращении конструктивизма и даже функционализма. В курилках произносились запрещенные имена: Фрэнк Ллойд Райт, Ле Корбюзье, Эрик Мендельсон, Вальтер Гроппиус.
В общем, все было неясно. Наш тишайший руководитель – доцент Сидоренко, увидев наши новые эскизы, навеянные новаторами архитектуры 20-х годов, совсем потерял голос, но оказаться консерватором ему не хотелось. «Ребята, – прошептал он, – вы думаете, что я не понимаю. Я тоже за, но еще не настало время». Когда оно наступит, было непонятно. Руководство кафедрой уехало в Москву на совещание по строительству, где Никита Сергеевич, ставший главным агрономом, главным искусствоведом и главным архитектором страны, должен был разобраться в стилях и разъяснить нам дальнейшие пути развития советской архитектуры. На кафедре архитектуры было пусто. Сидел лишь один лаборант – бессменный хранитель эпидиаскопа, кафедральных тайн и интриг Михаил Наумович. Он пребывал в меланхолии и пил чай. Увидев меня, он несколько оживился.
– А, соцреалисты-конструктивисты, – обрадовался он. – Что нового на архитектурном фронте?
– Скажу только вам по секрету: говорят, что всех космополитов реабилитируют. Так что доставайте книжечки Голосова и Леонидова.
– Так… Значит опять на 180 градусов. Ну, это нам знакомо. То-то я смотрю, никто из дипломников заявки на доски не пишет. Не знают, горемычные, куда идти, куда заворачивать. А ты возьми и напиши. Раньше возьмешь – лучше выберешь. Все равно придется что-то делать.
– Спасибо, не горит. Можно от вас позвонить? – Я набрал телефон Виктора. Он очень обрадовался.
– А мы тебя по всему городу разыскиваем, с ног сбились.
– Кто мы?
– Володя да я, Женя, Батя, да Илья.
– Чего это ты на стихи перешел?
– Это от волнения. Батя сказал, что нужно тебя разыскать во что бы то ни стало и перекопать твою библиотеку на предмет выявления крамольной литературы, которая могла сохраниться у твоего отца как передовика космополитов-беспаспортных бродяг. Он говорит, что видел у тебя Ремпеля и Аркина. Есть идеи.
Следует отметить, что Илья был совсем не Ильей, а Юрием. Но все дело в том, что его фамилия была Репин, и когда при первой перекличке на первом курсе в аудитории назвали фамилию Репин, и он поднялся, Виктор выкрикнул: «приветствуем Илью Ефимовича», и с этого дня его основное имя было забыто – он стал Ильей.
Батей называли Толика. Он на четвертом курсе, к ужасу всего партбюро, кафедры марксизма и лично товарища Дубины, вырастил бороду лопатой «а-ля рюс» и ни за что не хотел ее сбривать. Еженедельно его вызывали в партбюро и уговаривали побриться. Почти каждый день его встречал на пороге института парторг Тутевич со словами: «Только вчера мы говорили о стилягах, а вы опять с бородой». Не действовало ничего: ни угрозы, ни посулы. В критических ситуациях он ссылался на классиков, для чего носил с собой портреты Маркса и Энгельса.
Я поспешил домой. Опять незабвенный Евбаз, и через полчаса я уже был на площади Богдана Хмельницкого. Я проходил мимо знаменитой Софийской колокольни, возле нее росли каштаны, на которые я лазил с приятелями еще в 1945 году. Тогда через площадь ходили трамваи, она была вымощена булыжником, и ассирийцы, жившие колонией на углу Короленко и Софиевской, играли на ней в футбол. Мы тоже играли в футбол тряпичным мячом, который мне сделала мама. Она оказалась в этом деле большой специалисткой, так как в эвакуации для подработки набивала игрушечных мишек. Выкройку я сделал сам, чем был очень горд. Мамины мячи пользовались большим успехом. Мы наблюдали за игрой ассирийцев либо с моего балкона, либо сидя на ветках каштанов. Приближение к играющим было чревато конфликтами. Заправлял ассирийцами взрослый парень – Пиня, отличавшийся скверной репутацией и крайне нервным характером.
Каштаны были очень раскидистыми. Такие же, как здесь, по другую сторону океана. Я поднял голову, поглядел на свечки каштанов, потом на часы и понял, что пора кончать с воспоминаниями. Take it еasy! Пора домой, а дом мой нынче здесь, в Филадельфии.