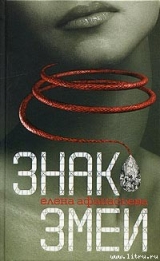
Текст книги "Знак змеи"
Автор книги: Елена Афанасьева
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
В мастерской все было как всегда – то есть вверх ногами. Первый и последний раз я попыталась навести здесь порядок вскоре после официального вступления в брак. Как черт от ладана сбежав от зашедшего к матери Тимки, придумала себе оправдание, что надо у мужа в мастерской порядок навести. Кимка тогда уехал к друзьям в Танаис, раскопанный на полпути от Ростова до Таганрога древнегреческий город. А я от дикой злости на себя, на Тимку, на Кимку, на весь мир, за полдня навела в этой годами не убираемой мастерской почти стерильный порядок. И, гордая собой, улеглась на кушеточке спать. Проснулась от дикого рыка Кима. Никогда в жизни, ни до, ни после, не слышала, чтобы Ким так кричал. Я вообще не слышала, чтобы Ким кричал. Напротив, показателем его ярости всегда был не увеличивающийся, а уменьшающийся звук, чем тише он говорил, тем становилось жутче. Но в тот раз он орал, отчаянно и самозабвенно. Оказывается, вместе с грязными дощечками, служившими законному супругу палитрами, я выбросила единственно возможное сочетание красок, дикими муками найденное им для цвета ноябрьского неба, и в качестве старой испачканной тряпки снесла на помойку шедевр новейшей инсталляции, подаренный гостившим у Кима немецким художником.
– Была б хоть идиотка художественно необразованная, не так обидно было бы! – вопил муж. – Так ведь не идиотка же! Чему я учил тебя полтора года?! За что тебе зачеты ставил?! Чтобы ты никакого нюха на настоящее в искусстве не выработала?!
«Настоящее» пришлось отрывать на общей помойке. Удачно найденный колорит ноябрьского неба в мусорном баке успел дополниться пылью из пылесоса – отчего, на мой, по мнению мужа, нехудожественный взгляд, предзимнее небо стало только правдоподобнее. Инсталляцию, в свою очередь, украсила варварски вскрытая ножом банка «Тюльки в томате», в чем, впрочем, при желании тоже можно было найти особый философский смысл.
Сейчас инсталляция эта смотрела со старого шкафа, на котором кучей были свалены шедевры Кимки. А я осторожно, как в ледяную воду, шаг за шагом входила в пространство, энергетика которого, судя по всему, не должна была меня принимать. Или, напротив, должна была всосать меня и не выпускать обратно. Слишком больно я сделала хозяину этого пространства. И слишком поздно это поняла. Но тогда я так панически боялась собственной боли, что не замечала, как делаю больно другим.
* * *
За печкой, натуральной побеленной печкой, которую Кимке зимой приходилось топить углем и дровами, стояли несколько холстов. Зная, что в этот угол Ким обычно составляет важные для себя работы, достала их, расставила вдоль печки.
… дикие олени, бегущие куда-то к закату…
…странные перемешанные краски и контуры, складывающиеся в непонятные лица…
…мой старый портрет, нарисовав который, Ким впервые попробовал меня поцеловать…
…контуры нашего двора – край лестницы, старые камни кладки сарая. Я, или мне показалось, что это я, выходящая из какого-то дьявольского пекла. Сам Ким, мелькающий где-то на краю этого заката, в самой его огненной части превращающегося в рыжие волосы женщины-птицы, нависающей и надо мной, и над Кимом, и над миром.
Странная для Кима работа. Совсем не похожая на все, что делал он прежде. Не узнай я отдельные характерные для бывшего мужа мазки и сочетания красок, решила бы, что это чья-то чужая картина, случайно занесенная в его мастерскую. Но это был какой-то его собственный безумный сюр.
…снова эта незнакомая рыжая женщина на стандартном портрете. Узкие-узкие губы, не самые добрые глаза. Неужели ревную? Быть такого не может. Или придираюсь? Или, как нормальная баба, не прощаю иного женского присутствия в жизни любого из своих прежних мужчин?
Прошлась по мастерской, едва не стукнувшись головой о низкую притолоку, ведущую из крохотных сеней в собственно комнату. Что-то в ауре этой мастерской было не то. Что-то не так. Хотя с чего я взяла, что через столько лет придя из иной жизни, с ее коттеджами и дворцами, которые я вынуждена была декорировать, в эту нищую полуразвалившуюся халабуду, я найду дверь в ее прежнюю ауру. Преуспевающая столичная дизайнерша не может смотреть на этот обломок собственного прошлого глазами истерзанной провинциальной девочки, которая чертову дюжину лет назад пришла сюда впервые. И почувствовала, что здесь меньше болит душа.
* * *
Металлический грохот в сенях заставил вздрогнуть. Выглянула из Кимкиного полуподполья. Общая дверь на улицу была приоткрыта. Хотя я помню, что плотно прикрыла ее, зная, как здешние постоянные обитатели ругаются на сквозняки. В сенцах со стены свалился огромный таз, в котором баба Нюся из третьей квартиры всегда летом варила варенье. Аромат абрикосов и плавящейся сахарной патоки разливался по сырому дому, проникая даже в Кимкины холсты. Невзирая на сюжеты, в них каждое лето возникали абрикосовые оттенки и сладостная тонкость линий. Варенье бабы Нюси ворожило.
Попыталась повесить таз на место – не дотянулась. Бабе Нюсе таз с его законного места снимал обычно Ким. Пошла на второй этаж – спросить, куда убрать с дороги сие сокровище.
– Не варю, унученька, не варю. До сада сваво уж и не доеду – ноги болять. И абрикоса не та пошла, мелкия, кислыя. Дерево, оно ж, нык, как я, отжило свое. Таз, почитай, года три без дела висит. А свалился чего, бес его знает. Мож, домовой какой завелся.
Баба Нюся дошаркала до облупленного синего стола, служившего одновременно и шкафом, кряхтя нагнулась, достала прикрытый пожелтевшей марлей трехлитровый баллон с мутной закваской, плеснула в чашку с навечно въевшимися в ее стенки чайными следами.
– Хлебни кваску, а то парит нонче. Думала, россказни это бабок необразованных… – к таковым баба Нюся себя никак не относила. – …Но чего-то у нас тута творится. На той неделе ночью усе горело. Просыпаюся – зарево. И не знаю, куды бечь. Полыхаить все подо мною. Думала, стерская Кимушкина горит, мож по пьяному делу пожег чтой-то.
Слово «мастерская» баба Нюся всегда сокращала до более короткого «стерская».
– Пока оделася, да до низу дотелёмкала, тихо – ни дыма, ни гари. Не приснилося ж мне. Вот те крест, не приснилося! А на Спас привидение приходило.
– Так уж приходило! – Я уже не знала, как потактичнее ускользнуть от словоохотливой старушки. – Привидения, скорее, летают.
– Приходило-приходило. Привидение. Усе белое, размахаистое, только нимб на голове черный. Нимб золотой, поди, должон быть. А энтот черный. И привидение тожить это в Кимушкину стерскую шасть!
– А вы не ходили смотреть, что за привидение и что ему в Кимкиной мастерской надо?
– Боязно. Из двери сунулась как есть, в рубахе, простоволосая. Хотела шаличку накинуть, поглядеть, да ноги не слухають. И околела враз…
– Привидение, значит, с пожаром, – повторила я, чтобы хоть что-то говорить, пока буду пятиться к двери. В сумке весьма кстати заверещал мобильник.
– Ты где?! Соли и перца купить не забыла?! – инспектировала меня свекровь. Интересно, кого она инспектировала в мое отсутствие?
– Извините, баб Нюсь, срочно вызывают! – пробормотала я и быстро выскользнула за порог. Теперь осталось только закрыть дверь в Кимкину мастерскую. Добро его вряд ли кому нужно, но алкаши залезть могут. Так что лучше замок навесить.
Вошла в мастерскую забрать оставленный на столе замок и ощутила странное беспокойство. Сколько меня здесь не было – минут пять-семь, не больше. Но что-то поменялось в самом чуть затхлом, пропитанном красками воздухе. Словно тревога какая-то разлилась.
С трудом повернула ключ в заржавевшем замке, потом долго не могла его вынуть. И не успела дотянуться до трехлитрового баллона на полке, чтобы спрятать ключ на его обычное место, как поняла, что меня встревожило. Перед тем, как загрохотал таз, я рассматривала картины. Они стояли, прислоненные к побеленной печке. Последней я смотрела эту странную мистерию с нашим двором и женщиной-пожаром. Но сейчас, закрывая дверь, я последним увидела мой старый портрет. И если я заметила его, значит, он оказался сверху остальных.
Снова вставила ключ в замок, открыла дверь и вошла внутрь. Так и есть. Поверх всех выставленных около печки работ осталась лишь я в темно-бурых тонах. А где пожар?
Перебрала картины, прислоненные к печке за моим портретом. Все не то. Странно. Неужели кто-то мог специально сбросить таз, чтобы выманить меня из мастерской и забрать картину? Зачем?
* * *
Снова затореадорил мобильник.
Со съемной подмосковной дачи звонила нянька: Тимыч налил Кимычу клея в ботинок, а Кимыч искупал Тимыча в бочке – на подводника готовил. Засунул голову младшего в бочку и не давал вынырнуть – нормальная счастливая братская жизнь!
– Мам, я тебя люблю!
– Приезжай поскорей!
– Мам, Пашка дерется!
– Это Сашка дерется! Скажи ему, что нельзя обижать младших!
– Так он всю жизнь будет младшим, и что мне теперь, его всю жизнь не обижать?
– Мам, привези бионикла!
– Папам привет передай, – по очереди кричали в трубку два моих чада.
С биониклом было проще – теперь что столица, что провинция, в любом детском магазине все игрушки на выбор. С папами дела обстояли сложнее. Прежде чем передать им привет от сыновей, их надо было найти.
4
ТЬМА
(ЖЕНЬКА. СЕЙЧАС)
Меня не было.
Я умерла. Закончилась. Растворилась. Превратилась в пепел, рассеянный над этим злосчастным океаном, который все-таки нас разделил.
Я закончилась в миг, когда, отрадовавшись удачно завершившейся эпопее с Магеллановой жемчужиной и не успев решить, что же теперь делать с таинственным счетом тихоокеанской диктаторши, открыла машущую крыльями летучей мыши электронную почту и увидела письмо от Джил – американской жены моего мужа…
«…airplane crash…»
Я исчезла вместе с самолетом, который увозил от меня Никитку и увез его теперь уже навсегда.
Я растворилась в тот миг, когда что-то сломалось в этом проклятом «Боинге», и жизнь моя вместе с этим «Боингом» рухнула в океан.
Отозванный из своего телевизионного «космоса» Димка в тот же день улетел в Штаты. Опознание, символические похороны, оглашение завещания (оказывается Китка, как порядочный американец, успел оформить и завещание), некий раздел собственности с американской семьей, так и оставшейся для погибшего Никитки официальной, все эти ненужные для нас формальности свалились на Димкины плечи. А я сидела в углу своего дивана-космодрома, выдвинутого по случаю ремонта в центр комнаты и не шевелилась.
Я не могла дышать. Не могла чувствовать. Не могла хотеть. Меня не было.
Не было.
И больше быть не могло.
5
ПОБЕГ ИЗ МЕШХЕДА
(ИВАН ЛАЗАРЕВ. 1747-1783 ГОДЫ)
«Злодей прошедшей зимой занимался только тем, что калечил, душил и сжигал людей заживо. И все это с целью добыть деньги и показать себя грозным государем, наводящим ужас на весь мир.
Не насытившись злодействами, негодяй явился в столицу Хорасана, где возвел семь очень высоких башен из человеческих голов. Затем ему пришло в голову предать мечу всю свою личную гвардию, состоявшую из четырех тысяч человек. Но они узнали о намерении монарха, и десяток самых храбрых явились ночью в шахский шатер, и разрубили тирана на куски, и послали их во все концы страны. Голова же была отделена от тела и водружена на острие копья…»
Да-а! Брат Себастьян, викарий из Джульфы, чьи мемуары о христианской миссии тридцатипятилетней давности взялся в долгой дороге читать Иван Лазаревич, краски явно сгустил. Но все равно не передал и малой толики того ужаса, который наводил на своих подданных грозный Надир-шах.
Это здесь посередь бескрайних южнорусских степей страхи давней персидской жизни кажутся делом давно забытым. Когда позади уютный столичный Петербург с доброй Императрицей, расположенной к нему более, чем ко многим ее советникам, а впереди исполнение миссии, ставшей для него оплатой давнего долга, можно и не помнить о том, что запало в душу в детские годы.
Не был он тогда еще ни русским графом, ни действительным статским советником, ни влиятельным сподвижником Ее Императорского Величества. Даже Иваном Лазаревичем Лазаревым еще не был. В той далекой жизни звали его другими именами, в зависимости от того, куда заводила его семью торговая и прочая царедворная надобность, коей под цокот копыт и скрип колес их бесконечных странствований с севера на юг несколько веков промышляли все в их старинном, известном с XIV века, роду. Род их, вышедший из армянских земель, как только не кликали в разных странах, и Газарянами, и Егиазарянами, но сами себя звали Лазарянами.
При рождении армянского мальчишку нарекли Ованесом. Но когда пришлось бежать на север, поспешно оставляя позади лишившуюся своего правителя, но еще не рухнувшую великую империю Надир-шаха, и навсегда переходить под покровительство российской короны, то и имена и фамилия их переписались на российский лад.
Надир-шах был зарезан через три месяца после трапезы, к которой он пригласил армянского купца Лазаря Лазаряна. Двенадцатилетнему Ованесу, выросшему в стране жестокого правителя, где громко возносились лишь хвалы мудрости Надира, а рассказы о его жестокости могли отыскать чужие уши даже в родных стенах, казалось невероятным, что кто-то может посягнуть на жизнь шаха. Надир казался вечным. Но теперь, три десятка лет спустя, обладая его нынешними знаниями и опытом придворной жизни, Иван Лазаревич мог понять все, не осмысленное мальчишкой Ованесом.
Годом ранее Надир обложил феодалов новыми налогами. Из Систана сборщики податей должны были привезти налог на неслыханную прежде сумму в 500000 туманов. Но взбунтовался Систан. Не только простолюдье, но и феодалы отказывались безропотно платить шаху. Беспорядки перекинулись и на близлежащий Белуджистан. И в жарком воздухе Персии звуком лопнувшей в кеманче струны зазвенело: «Мятеж!» Посланный на его подавление племянник Надира Али Кули-хан вдруг перешел на сторону мятежников. Надир приказал заживо сжечь его сыновей и ослепить жену и мать, а сам отправился в поход.
Что случилось там, в лагере под Хабушаном, теперь уже не узнает никто. Вот брат Себастиан пишет, что тирану пришло в голову предать мечу всю свою личную гвардию, состоявшую из четырех тысяч человек. Откуда католическому священнику знать, что приходит в голову восточному правителю? Западу и Востоку друг друга не понять. В этом Иван убеждался уже не раз. На этой разности сознаний делал свою выгоду его отец, этот промысел, выстроенный на разностях Запада и Востока ему и завещал.
Вряд ли можно верить священнику, как и прочим «очевидцам». Сам он помнит лишь одно – гонца, душной июньской ночью 1747 года ворвавшегося в их дом. Губы воина потрескались от долгой скачки и кровили, бурая лента кровяного сосуда, крутым бугром выступившая на шее, отбивала дикий ритм его сердца.
– Шах зарезан!
Столь стремительно Ованесу приходилось действовать лишь два раза в жизни – во время того мешхедского побега и в недавнем алмазном деле, возведшем его к вершинам уже российской власти. Той персидской ночью надо было бежать. И надо было исполнить долг.
После трапезы с шахом Лазарь понял, что Надир не жилец, смерть уже явила ему отблеск своего холодного огня. Все, что из нажитого в Иране можно было отправить в Россию, Лазарь отправил заранее. Во дворе дома всегда ждали готовые лошади, а в арбу задолго до рокового дня было уложено все самое необходимое.
Отец платил огромные деньги нескольким воинам из ближней охраны шаха, и платил не зря. Вот и тогда он отдал гонцу сто туманов за принесенную прежде ему весть и еще триста туманов за то, чтобы лошадь гонца «расковалась» в пути. И захромала. И продлила этот путь на три часа. По сто туманов за каждый час лошадиной хромоты!
– Запрягай! – скомандовал отец.
Слуги закладывали в повозки последние тюки и сундуки, рыдающие няньки, которых приходилось бросать в Мешхеде, несли в карету спящего Екимку, прислужницы под руки вели тяжелую мать, растирая ей виски и то и дело поднося к носу флаконы с благовониями, способными унять разыгравшуюся мигрень. Ованес хоть и не садился еще за стол со взрослыми мужчинами, но многое уже мог понять и боялся, чтобы мать не разродилась в пути.
Отец хотел как можно скорее отправить семью, а сам спешил в шахский дворец, дабы исполнить то, что было обещано. Но задумался, не зная, как все устроить. Как пройти на женскую половину шахского дворца и как пробраться в тронный зал по узкому тайному ходу, протиснуться по которому под силу лишь хрупкой наложнице…
– …или ребенку, – договорил за отца Ованес.
Обряженный в одежды одной из материнских прислужниц двенадцатилетний мальчик, лицо которого скрывал некаб [4]4
Некаб – женский головной убор, закрывающий лицо и оставляющий лишь прорезь для глаз.
[Закрыть], и впрямь мог сойти за прислужницу из шахского гарема.
Он и отыскал Надиру и тайным ходом, заранее сообщенным Лазарю Надир-шахом, вывел ее на шахскую половину, прямо к подножию Павлиньего трона. Драгоценный трон, как и весь тронный зал, охраняли снаружи три десятка воинов, миновать которых было невозможно. Но в самом зале близ трона не было ни одного охранника. Так решил шах, дабы сияние золота и драгоценных каменьев не мутило сознание воинов. И возникнув из потайного хода почти под самым троном, Ованес и Надира смогли уйти обратно в него, никем не замеченные. Только уходить пришлось с пустыми руками.
Рядом с троном было несколько прикрытых златоткаными коврами мраморных плит, по которым ступали лишь ноги повелителя. Прочим под страхом смерти было запрещено подходить к трону ближе, чем на двадцать ступней. Ованес и Надира подошли. И открыли известную Надире плиту. И достали из тайника ларец. Но ларец, в котором хранились главные алмазы Надир-шаха, был пуст. Обрезана была и золоченая нить, на которой с балдахина Павлиньего трона к глазам шаха свисал желтый алмаз с двумя надписями. Кто-то успел побывать около шахского трона прежде них.
У стен этого дворца действительно были уши, и то, что шах шептал в пылу любви своей любимой наложнице, стало известно кому-то еще. Да и деньги Лазаря оказались не всемогущи. Или у кого-то было больше денег? Или другой гонец принес кому-то весть о кончине шаха быстрее, чем Лазарю?
Тем же путем выбрались к потайному выходу из дворца, около которого уже ждала кормилица со спящим наследником на руках. Надира сказала что-то кормилице, Ованес не смог разобрать что. Он понимал, что нельзя терять ни минуты. Если алмазы исчезли, значит, весть о кончине шаха уже не тайна и любое промедление теперь грозит им смертью. Надо скорее выбираться за третью ограду, где с запряженной повозкой ждет отец.
Кормилица удивленно вскинула брови, но Надира тихо, но резко повторила сказанное вновь. Кормилица передала ребенка Ованесу и исчезла. Он же в женском наряде изображал прислужницу и должен был теперь под покровом своего сложного платья прятать малыша. Ребенок, почувствовав не привыкшие к ношению детей руки, зашевелился и зачмокал во сне, закривил рот, грозя разреветься. Нужно было уходить. Ованес потянул персиянку за край ее накидки, но женщина не шевельнулась.
– Надо скорее! – Шептал мальчик сквозь мешающий ему говорить некаб. – Убьют!
Но женщина словно вросла в землю и только смотрела на дверь, за которой исчезла кормилица. Ованесу казалось, что время замерло, а сердце стучит так громко, что слышно даже в шахском дворце. Сейчас от этого стука проснется ребенок, закричит, и тогда смерть неминуема.
Женщина не шевелилась.
Зато зашевелился ребенок и стал издавать пока еще тихие, но все нарастающие звуки. Женщина чуть повернула голову, посмотрела на не справляющегося с ребенком мальчика. Из глубин сложного одеяния вынырнула рука наложницы и протянула украшенный каменьями флакончик.
– Капни ему в рот. Уснет.
Едва справляясь с непривычной женской одеждой и шевелящимся ребенком, Ованес с трудом смог раскрыть флакончик. Капли попали не в рот, а на лицо малышу, чуть терпковатый запах полыни и еще чего-то неведомого, сладко-дурманящего, поплыл вокруг. Ребенок, чуть поморщившись, облизнулся и начал успокаиваться.
Теперь, проезжая по разморенной летней жарой придонской степи и вдыхая обычный для этих мест запах полыни, Иван Лазаревич как наяву вспомнил ту мешхедскую ночь, и стук сердца, и дрожь в руках. И ту грань азарта и ужаса – что, если не успеем?!
Ованес всем существом своим чувствовал, как истекают минуты. Словно в момент, когда на их пороге возник шахский охранник и с его пересохших губ горячим шепотом сорвалось «Шах зарезан!», кто-то перевернул огромные песочные часы и пустил быстрый бег отведенных им минут. Скоро оплаченное отцом время лошадиной хромоты истечет, гонец доскачет до дворца, и рухнет эта мертвенная тишина, и взорвется, и погребет под собой эту женщину, и этого ребенка, и его, совсем чужого им, не имеющего никакого отношения к этому проклятому шаху мальчика Ованеса.
Кормилица возникла из потайной двери, когда в песочных часах времени, отмеренного им для побега, сквозь тонкий перешеек протекали уже последние песчинки и Ованесу казалось, что он сам превратился в сосуд, наполненный страхом. Сейчас этот страх начнет выплескиваться через край.
Кормилица протянула Надире… ларец с детскими погремушками. Ованес не поверил глазам – и этих игрушек они ждали, рискуя жизнью?! Но Надира, тонкой рукой переворошив погремушки, кивнула.
– Можем идти.
И указала кормилице на потайную дверь, чтобы та возвращалась во дворец. Лишних мест в кибитке беглецов не было…
Отец, который хорошо знал систему охраны шахского дворца, ждал за третьим кольцом, которое – в отличие от первых двух заметных всем колец – составляли воины тайного отряда Надир-шаха. Переодетые в простолюдинов, сливаясь с тенями от стен и деревьев, они совершали непрерывный обход дворца на расстоянии семи улиц от первого «открытого» оборонительного поста. Пятнадцать сменявших друг друга тайных агентов опоясывали дворец, появляясь на одном и том же месте с разницей в три-четыре минуты. Главное было не попасть в эти минуты, а вписаться в их срединную волну.
– …утсун ут, утсун ины, иннысун [5]5
Восемьдесят восемь, восемьдесят девять, девяносто (арм.).
[Закрыть]…
Вжавшись сам и затащив Надиру в небольшую арку одного из домов и моля Бога, чтобы в доме этом не оказалось собак, Ованес, как научил его отец, считал до ста. Лучше до ста десяти. Тогда больше шансов не спугнуть своими шагами впереди идущего тайного охранника и не попасть на глаза идущему следом.
– …хайрур ины, хайрур тасы [6]6
Сто девять, сто десять (арм.).
[Закрыть], – досчитал он до ста десяти. На всякий случай произнес и «хайрур таены мэк», чтобы магия трех единичек в числе сто одиннадцать охранила их, и потянул Надиру за собой.
Еще через три улицы их ждал отец.
– А ничего нет… – разочарованно сказал Ованес, передавая спящего ребенка со своих затекших рук в руки отца. Но в глазах Надиры, едва видных сквозь прорезь накидки, мелькнул странный блеск. Или от пережитых волнений и страха ему это только показалось?
* * *
С тем и уехали. Даже не найдя обещанных правителем пяти алмазов, Лазарь Лазарян не смог бросить женщину и ребенка. Увез их в Россию, себе на беду. Или на счастье?
Теперь уже Иван Лазаревич не знал, как точнее ответить на этот вопрос. Строки записок католического аббата вызвали давние детские воспоминания. И, словно заново вчитываясь в старую забытую книгу, он смог увидеть то, что открыто глазам мальчика, но доступно лишь мудрости мужа.
Дабы не мозолить глаза и не волочить на хвосте идущих по следу ищеек, в полдень века они поселились в Астрахани. Надиру, которой и лет-то было едва ли многим больше, чем Ованесу, выдали за дочь отца-матери, и, как след, за сестру Ованеса и братьев его. Из Надиры ее переименовали в Наринэ, а сына ее, малолетнего шахзаде Надира II, который для всех посторонних приходился отцу внуком, а им племянником, для чужих ушей стали звать в честь их деда Назаром.
Позднее, когда южные просторы уже сокрыли новоявленную Наринэ и Назара, выписанный из Парижа гувернер пересказывал им с братьями сказки «Тысячи и одной ночи». Болтливый Минас, Минька, не удержался, спросил у мосье Доде про Надиру.
– На колени пала, голову ниц. И так лежала, пока матушка батюшку не увела.
Мосье Доде поведал о многобрачии мусульманских мужчин.
– Она думала, что отец ее во вторые жены забрал! – радостно засмеялся Минька. – То-то матушка криком зашлась, все требовала свезти нечестивицу со двора.
Ованес разозлился на брата, что тот едва не выдал их семейную тайну. Но сейчас живо вспомнил ту картину – распластанная ниц простоволосая наложница, ее босые ступни на холодном полу, унизанные браслетами щиколотки. И покорность во взгляде, внушенная ей с детства покорность новому мужчине, новому господину. Не может быть, чтобы в батюшке мужское естество не шевельнулось! Или шевельнулось, только он, мальчишка, не умел тогда этого заметить? Шахская наложница хороша была! До сих пор помнится, как хороша! И с чего это он решил, что, громогласно объявив Надиру собственной дочкой, Лазарь отнесся к ней только как к дочке?
Лишь теперь, когда эта почти кощунственная мысль пришла в голову, в сознании Ивана Лазаревича картина за картиной стали всплывать отроческие воспоминания.
Астрахань, где поселились они в первое время после побега из Мешхеда. Матушка с сыновьями отправилась «на променад». Соскучившись от крика младших братьев, бесполезного катания по главной улице и необходимости раскланиваться с новыми знакомыми, он отпрашивается и на углу своей улицы выпрыгивает из экипажа. Уже подбегая к дому, видит, как из ворот, бормоча, крестясь и поминая нечистого, спешит нанятый в услужение к отцу отставной солдат.
– Свят! Свят! Грех-то какой! С дочерью-то! Грех! Грех! Мальчика отставной солдат не замечает и, едва не сбив его с ног, бежит прочь от их дома. Как черт от ладана бежит. Ованес не поймет, что так напугало храброго служаку. С виду все тихо. Только через неприкрытое оконце из дома доносятся тихие стоны и странная помесь персидской, армянской и неведомой ему речи.
Слова, как струны, то звенят низким голосом отца, то переливаются сладким щебетом Надиры. Но слов мало. Больше других, неведомых ему звуков. Стоны, такие мягкие, вязкие, что хочется в них провалиться, как в перину пуховую, и в их блаженстве не шевелиться. От тихих этих стонов в голове, где-то под самой черепушкой, тысячи мурашек, но не больно колющих, а умиротворяющих и возбуждающих, как пузырьки шампанского, которое привез из Франции отец и позволил Ованесу сделать несколько глотков на Рождество.
И в горле комок. И хочется не шевелиться, не двигаться, застыть, замереть, чтобы не спугнуть, не разрушить это дивное, неизведанное прежде состояние блаженства.
Стоны тихой волной нарастают, сливаясь с хрипами отца, и мальчик удивленно замечает, как вздыбились его штаны, и там, между ног, плоть напрягается, каменеет, пылает жаром.
– Беда, Наринушка, беда!
Тихий шепот отца, мешающего персидские, армянские, русские слова, еле слышен сквозь прочие заворожившие мальчика звуки.
– Беречь я должен тебя, девочка! Лелеять. А не могу.
Надира-Наринэ отвечает что-то, но Ованес не разбирает слов. Лишь чувствует, что от звуков ее голоса напряжение в нем нарастает, ведет к какому-то непознанному доселе пределу, за которым наслаждение сливается с мукой.
– Не могу! Не могу! Долг, будь он проклят! – хрипит отец все сильнее и сильнее, пока не срывается на крик. Отчаянный сладкий и горький крик, повисающий над заснувшим в полуденной дреме двором. Крик этот, как ветром опавшие листья, разметывает все приятно царапавшиеся в голове мурашки. Ованесу жалко этого стремительно вытекающего из него ощущения блаженства. Только вязкая сырость, невесть откуда взявшаяся в его штанах…
* * *
Даже теперь, вспомнив те мурашки, Иван Лазаревич ощущает возбуждение своей чуть уставшей плоти. И понимает то, чего отроком понять не мог. Не удержался отец, не устоял перед чарами Надиры. Оттого и отправил ее от греха подальше? Или, кроме греха, была и иная угроза?
Матушка стращала:
– За выродком его придут, твоих сынов перережут!
И напирала:
– Свези ты их подальше со двора? Подальше свези…
Чувствовала опасность, нависшую над семьей, или ее больше тревожила опасность иная, нависшая над ее супружеским ложем?
Может, и не прислушался бы отец. И не такие натиски случалось выдерживать Лазарю Лазаряну, когда спасал он своих людей и свой груз от терских контрабандистов. Может, и устоял бы, смирился бы и с атаками жены, и с мыслью о собственной греховности, но случаи нехороших происшествий стали множиться.
Камень, упавший с колокольни во время крестного хода, в коем участвовал батюшка, убил шествовавшего рядом диакона, лишь случайно не покалечив самого Лазаря.
Вскоре матушкина повозка рассыпалась на полном ходу. А когда кучер, с трудом удержав коней, смог повозку остановить, выявилось, что все оси подпилены и не убилась матушка только чудом да редким кучерским умением.
Еще через несколько дней младшего брата Екима, прозываемого все чаще Иоакимом, едва не своровал бусурманский разбойник. Кто-то подсыпал маковых зерен прислуге в чай, все мамки да няньки позасыпали. Впотьмах окно детской комнаты было разбито, и негодяй кинулся заталкивать Иоакимке кляп в рот. Благо не отъехавший с родителями на ассамблею Ованес прибежал и спугнул бусурмана. Тот, бросив раскричавшегося Иоакимку, бежал через окно, порезав щеку осколками разбитого им же стекла. Кровь осталась на осколках и дорожкою не засохших капель вела через забор, на улицу, где обрывалась рядом со следами конских подков возле пожелтевшего прежде осени клена. Иоаким потом долго не мог засыпать по ночам, все твердил про змею, какая была на руке бусурмана.
Так или не так, но отец решил убрать Надиру-Наринэ с подросшим мальчишкой подальше от своей семьи. На удачу, к «дочери почтенного и уважаемого Лазаря Лазаряна» прислали хиами – сватов.
Жених оказался издалека. Жить по долгу службы должен был в устье Дона в небольшом поселении, названном Полуденкой.
– Сам государь Петр Алексеевич близ Полуденки открыл источник, полный дивных вод, и назвал его «Богатым источником». Поселение пока небольшое, в несколько десятков семей. Но вы, Лазарь-джан, как человек, бывающий при дворе государыни, знаете, что Елизавета Петровна в прошлом годе своей грамотой учредила на том месте таможню.
Жаждущие заполучить красавицу невесту сваты показывали список с государевой грамоты.
«Для сбору тарифов и внутренних пошлин с привозимых из турецкой области и отвозимых из России за границу товаров таможню учредить по реке Дону вверх от устья реки Темерник против урочища, называемого „Богатый колодезь“.
– С прошлой весны при таможне пристань построена и пакгауз. И расквартирован гарнизон, где жениху нашему и надлежит служить. Вам ли, Лазарь-джан, объяснять, какие выгоды сулит таможня, да еще и в устье двух рек, дающих единственный путь во все моря. Через зятя свои торговые пути в новые земли проложите!








