На горбатом мосту
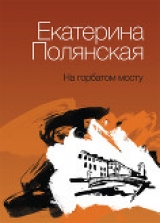
Текст книги "На горбатом мосту"
Автор книги: Екатерина Полянская
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Мариенбург
12
Сквозь едкий дым дешёвых сигарет,
Сквозь крохотное спичечное пламя
Недолгой памяти ещё глядит мне вслед
Скупыми станционными огнями
Мариенбург. И снова я лечу,
Прижавшись низко к шее лошадиной,
Дорожкой парка бесконечно длинной,
И веточки стегают по плечу.
Из поселковой церкви, с привокзальной
Пустынной улочки, вечерний тихий звон
Плывёт и замирает, будто стон —
Не то призывный стон, не то – прощальный.
И голубь у дороги сиротливо
Воркует всё: «…умру…умру…умру…»
И треплются нечёсанные гривы
На душу выдувающем ветру.
3
Мне уже никогда не вернуться туда,
Где в глубоких прудах остывает вода,
Словно времени тёмный и терпкий настой,
Горьковато-полынный, недвижно-густой,
Где в закатных окошках мутнеет слюда,
Где, качаясь на лапах еловых, звезда
Подлетает всё выше и месяц над ней
С каждым взмахом всё тоньше и словно ясней.
И в траве разогретой, глубокой, как сон,
Мне уже не услышать сквозь стрекот и звон,
Сквозь плывущий под веками медленный зной,
Как шуршат облака – высоко надо мной.
Никогда – это веточки сломанной хруст,
На иных берегах расцветающий куст,
Это голос, летящий сквозь мёртвую тишь,
Долгим эхом становится. И только лишь,
Задержавшись над лугом, дыханье моё
Всё колышет былинки сухой остриё,
Да ещё отраженья на глади пруда
Смотрят в синюю бездну чужих «никогда».
В краю далёком, в городе Марии
Душа осталась пленною навек.
Озябший парк и улицы пустые
Заносит снег, заносит первый снег.
Там стук копыт и глухо, и тревожно
Трёхтактным ритмом разбивает тишь
И сонные деревья осторожно
Нашёптывают: «Стой… Куда спешишь?..»
А небо отчуждённо и высоко,
И хрупкий лист ложится в снежный прах.
И скачут кони далеко-далёко,
И ветер сушит слёзы на глазах.
«Охлюпкой, стараясь не ёрзать…»
Охлюпкой, стараясь не ёрзать
По слишком костистой спине,
Я в Богом забытую Торзать
Въезжаю на рыжем коне.
Деревня глухая, бухая,
Вблизи бывшей зоны. И тут
Потомки былых вертухаев
Да зэков потомки живут.
В пылище копаются куры,
Глядит из канавы свинья:
Что взять с городской этой дуры?
А дура, понятно же, – я.
А дура трусит за деревню
Туда, где и впрямь до небес
Поднялся торжественно-древний,
Никем не измеренный лес.
Где пахнет сопревшею хвоей,
Где тени баюкают взгляд,
И столько же ровно покоя,
Как десять столетий назад.
Где я ни копейки не значу,
А время, как ствол под пилой,
Сочится горючей, горячей
Прозрачной еловой смолой.
«Рыжая псина с пушистым хвостом…»
Рыжая псина с пушистым хвостом
Дремлет в тенёчке под пыльным кустом
И, полусонная, в жарком паху
Ловит и клацает злую блоху.
Рядом, приняв озабоченный вид,
Вслед за голубкой своей семенит
Самый влюблённый из всех голубей…
На воробья налетел воробей —
Бьются взъерошенные драчуны,
Не замечая, что к ним вдоль стены
Тихо крадётся, почти что ползёт
Весь напряжённый, пружинистый кот.
Как хорошо, что они ещё есть
В мире, где горестей не перечесть,
В мире, дрожащем у самой черты, —
Голуби, псы, воробьи и коты.
Трёхстрочия
* * *
купила проездной —
нет, не дождусь
счастливого билета.
* * *
утром в небо взглянула,
а там – пустота:
ласточки улетели.
* * *
после грозы
капли дрожат на ветвях —
тихо смеются деревья.
* * *
тёмная влага на сучьях
подстриженной липы —
дерево плачет безмолвно.
* * *
сломанной ветке
вновь зеленеть по весне,
но на иных берегах.
«Я, скорее всего, просто-напросто недоустала…»
Я скорее всего просто-напросто недоустала
Для того, чтобы рухнуть без рифм и без мыслей в кровать.
Что ж, сиди и следи, как полуночи тонкое жало
Слепо шарит в груди и не может до сердца достать.
Как в пугливой тиши, набухая, срываются звуки —
Это просто за стенкой стучит водяной метроном.
Как пульсирует свет ночника от густеющей муки,
Как струится сквозняк, как беснуется снег за окном.
То ли это пурга, то ли – полузабытые числа
Бьются в тёмную память, как снежные хлопья – в стекло.
Жизнь тяжёлою каплей на кухонном кране зависла
И не может упасть, притяженью земному назло.
Троллейбус
Неизвестным безумцем когда-то
Прямо к низкому небу пришит,
Он плывёт – неуклюжий, рогатый —
И железным нутром дребезжит.
Он плывёт и вздыхает так грустно,
И дверьми так надсадно скрипит,
А в салоне просторно и пусто,
И водитель как будто бы спит.
И кондуктор слегка пьяноватый
На сиденье потёртом умолк.
Ни с кого не взимается плата,
И на кассе ржавеет замок.
Он плывёт в бесконечности зыбкой,
В безымянном маршрутном кольце
С глуповато-наивной улыбкой
На глазастом и плоском лице.
И плывут в городском междустрочье
Сквозь кирпично-асфальтовый бред
Парусов истрепавшихся клочья
И над мачтами призрачный свет.
«Когда сквозь дым и суету…»
Когда сквозь дым и суету,
Сквозь запах шашлыка и пива
Размытым берегом залива
Я безнадёжно побреду
По серому песку,
Тогда
В случайном и нестройном хоре
Я вдруг услышу голос моря —
Непостижимый, как всегда.
Прорежет воздух птичий крик,
И ветер, чешущий осоку,
Очнётся и взлетит высоко.
И запоёт иной тростник.
Иной —
о яростных мечтах,
О чёрных кораблях смолёных,
Мечах, от жажды раскалённых
И медноблещущих щитах.
О том, как, разбиваясь вдрызг
И возрождаясь без потери,
Иные волны хлещут берег
Осколками счастливых брызг.
«Воздух густ и влажно-фиолетов…»
Воздух густ и влажно-фиолетов.
Как во сне, замедленно летишь
Сквозь него, сквозь питерское лето:
Грозы – днём, а вечерами – тишь.
Чуть слышны шагов глухие всхлипы,
Да ещё, влюблённым на беду,
Страстью и тревогой дышат липы
В обморочно замершем саду.
«Князь-Владимира сын Позвизд…»
Князь-Владимира сын Позвизд —
Звёздный морок, стрелы посвист.
Потревоженное моими —
Столь чужими – губами имя
Дрогнет дудочкой тростниковой,
Резко звякнет в ночи подковой,
Разъярится в разбеге вьюжном,
Вспыхнет на рукаве кольчужном,
Чиркнет ласточкой острокрылой —
Будто знала я, да забыла.
Будто время от боли сжалось,
Будто жизни на вскрик осталось…
И – потухнет, замрёт… Позвизд —
Звёздный морок, стрелы посвист.
Порхов
Медленно тающий
Зыбким своим отражением
В тихой реке,
Чьё забытое имя – как вздох,
Город, похожий на
Воспоминанье о городе —
Шорох дождя,
Полыхающая бузина.
Зябкая, хрупкая
Бабушка с детской улыбкою
Кротко вздохнёт,
Отпирая тяжёлую дверь
В царство безмолвное
Старых афиш, фотокарточек,
Тёмных икон,
Утюгов, самоваров, монет.
Тихие заводи,
Странные омуты времени,
Тонкая связь
Неисчисленных координат.
Морщится гладь,
И дробится моё отражение
Прежде, чем я
Успеваю его разглядеть.
«Когда зацветёт «декабрист»…»
Когда зацветёт «декабрист»,
И шторы раздвинутся шире,
Мир, запертый в тесной квартире,
Вдруг станет просторен и чист —
Когда в декабре обветшалом
Лучистым фонариком алым
Невзрачный украсится лист.
Когда на холодном окне
В белёсой пустыне бесплодной
Цветок оживёт благородный,
В морозы желанный вдвойне —
Судьбы ненадёжные звенья,
Рассыплются наши мгновенья
И тень пробежит по стене.
Когда «декабрист» зацветёт
Над тёмным и гулким колодцем,
Наш маятник резко качнётся,
Сметая костяшки со счёт.
И всё повторится: метели,
Печаль Рождества и веселье,
И – к новой весне поворот.
«Звучат шаги размеренно и чётко…»
Звучат шаги размеренно и чётко,
В неверном свете редких фонарей
Дрожат ограды кованые чётки
И ветка, наклонённая над ней.
Лишь хлопнет дверь, и снова только эхо
Невидимым конвоем за спиной
Да еле слышный отголосок смеха
Там, на мосту, над чёрной глубиной.
И плавится в ночном канале город,
Изнемогая от дождей и смут…
Объятия Казанского собора
Ещё распахнуты, ещё кого-то ждут.
«Чай с вишнёвым вареньем – о Господи, счастье какое…»
Чай с вишнёвым вареньем – о Господи, счастье какое! —
Розовеет окно за дремотными складками штор,
Добродушнейший чайник лучится теплом и покоем,
Тихо звякает ложечка о мелодичный фарфор.
Чай с вишнёвым вареньем – о Господи, хоть на минуту
Задержи, не стирай эту комнату, штору, окно —
Неизведанный мир, детский образ чужого уюта,
Недосмотренный сон, дуновение жизни иной.
Гренадёрский мост
Спешит прохожий запоздалый,
Звенит задумчивый трамвай,
Волна баюкает устало
Луны подмокший каравай.
Дома, прищурясь близоруко,
Сберечь пытаются тепло,
Слезится в бесполезной муке
Часов разбитое стекло.
А мне, шепча чужое имя,
Брести сквозь зябкий неуют,
Пока душа навек не примет,
Как боль последнюю свою,
Глухую песню стен кирпичных,
Посеребрённую луной,
И минареты труб фабричных
Над Выборгскою стороной.
«Меж домами пространство сгущается, словно смола…»
Меж домами пространство сгущается, словно смола,
Покрываясь ледком в предвесенние звонкие ночи.
Вот в проулке луна желтоватую лампу зажгла
И тревожащим светом пугливых прохожих морочит.
Написав пару глупостей на терпеливом листе,
Я к стеклу прижимаюсь лицом и далёко, далёко
За морозными окнами вижу бескрайнюю степь
И всё той же луны желтоватое, круглое око.
И матёрый бирюк[3]3
Бирюк – волк, живущий вне стаи.
[Закрыть], обманувший судьбу в сотый раз,
На подтаявшем насте худыми боками поводит
И спокойно глядит на туманно мерцающий лаз
В бесконечность, куда от последней погони уходят.
«А в декабре бесснежном и бессонном…»
А в декабре бесснежном и бессонном
Бежит трамвай со звоном обречённым
И пешеходы движутся вперёд,
Как будто их и правда кто-то ждёт.
И пропадают в трещине витрины
Чужие лица, каменные спины,
А следом отражение моё
Торопится, спешит в небытиё.
Любимый муж, любовник нелюбимый,
Эквилибристы, акробаты, мимы
Бредут сквозь ночь дорогами тоски…
И время слепо ломится в виски.
Стук метронома, взвинченные нервы,
Брандмауэра тёмный монолит…
Который час – последний или первый
По грубым кружкам вечности разлит?
Который – разошедшийся кругами?..
Но подворотня давится шагами,
Невнятно матерится инвалид,
И Млечный Путь над крышами пылит.
Вечернее
День кончился – и слава богу.
И если взглянешь из окна —
Там по-осеннему темна
И по-осеннему убога
Ослепшей фабрики стена.
На кухне охает соседка,
В шкафу посуда дребезжит,
И, тонким холодом прошит,
Качает ветер тень от ветки
И сухо листьями шуршит.
А тут у нас с тобою всё же
Светло и – чайник на столе…
Исчезло прошлое в золе,
И каждый день так ненадёжен —
Но что надёжно на земле?
Что нашей хрупкости прочнее?
На сердце руку положив,
Скажу: хоть прост был наш мотив —
Есть и сложнее, и звучнее, —
Он не был никогда фальшив.
В нём – наших судеб перекрестье,
Вернейшая из всех защит.
Пусть время то ползёт, то мчит —
Мы сквозь него прорвались вместе,
И вечность нас не разлучит.
Удельная
А давай-ка дойдём до шалманчика средней руки,
Где шумит переезд и народ ошивается всякий,
Где свистят электрички и охают товарняки,
Где шныряют цыгане, где дня не бывает без драки,
Где торгуют грибами и зеленью, где алкаши
Над каким-нибудь хлипким пучком ерунды огородной
Каменеют, как сизые будды, и где для души
На любой барахолке отыщется всё, что угодно,
Где базар и вокзал, неурядица и неуют,
Где угрюмо глядит на прохожих кудлатая стая,
Где, мотив переврав, голосами дурными поют,
И ты всё-таки слушаешь, слёзы дурные глотая.
Там хозяин душевен, хотя и насмешлив на вид —
У него за прилавком шкворчит и звенит на прилавке.
Он всего лишь за деньги такое тебе сотворит,
Что забудешь про всё и, ей-богу, попросишь добавки.
Он, конечно, волшебник. Он каждого видит насквозь
И в шалманчике этом работает лишь по привычке.
Вот, а ты говоришь: «Всё бессмысленно…» Ты это брось!..
И опять – перестук да пронзительный свист электрички.
«Остерегаюсь ленивых коней…»
Остерегаюсь
ленивых коней,
сентиментальных мужчин
и женщин мужеподобных.
Первые непредсказуемы,
вторые
склонны к жестокости,
в третьих полно
тлеющей вредности бабьей.
Всю жизнь
я их опасаюсь,
стараюсь держаться подальше.
Но
у первых такой кроткий взгляд,
вторые
так красноречивы,
а третьих
патологически жалко.
К тому же,
если в себя заглянуть
спокойно и беспристрастно —
нечто ведь есть и во мне
от первых,
вторых
и – от третьих.
«Не задумываясь, трачу…»
Не задумываясь, трачу
Всё, что можно и нельзя…
За удачу, за удачу
Выпьем, милые друзья!
За удачу, за удачу,
Что одним движеньем рук,
Резким выдохом горячим
Размыкает жёсткий круг.
И ведёт сквозь жар и холод
Всех, кто ярче и смелей,
Всех, кто яростен и молод,
Всех, кто просто верен ей.
Два варианта
Отдать долги и жить спокойно.
Пить крепкий кофе по утрам.
Газету не читать – там войны,
Реформы, цены, прочий хлам.
Читать рассказы и романы,
Которым лет не меньше ста,
И на старинном фортепьяно
Этюды разбирать с листа.
Слегка страдать от геморроя,
Найдя в том пользу для души.
Под настроение порою
Стишки пописывать в тиши.
Нет, не писать. Пусть Пушкин пишет.
А впрочем – написал уже…
Пусть у других съезжает крыша
От рассуждений о душе.
И – не читать. Играть на нервах,
Само собою – на чужих.
Оно приятнее, во-первых,
И безопасней, во-вторых.
Играть в одни стрелялки только —
Под пиво, эдак после дел.
Долгов не отдавать, поскольку
Делиться, типа, Бог велел.
«Думал – Дед Мороз приходит к детям…»
Думал – Дед Мороз приходит к детям,
Оказалось – дяденька за деньги.
Думал – это крылья вырастают,
Оказалось – уровень гормонов.
Думал – это минимум до гроба,
Оказалось – на год не хватило.
Думал – потерпеть ещё немного,
Оказалось – минимум до гроба.
Думал, что выходит на свободу,
Оказалось – в камеру другую.
Думал, прямо к Богу постучался,
Оказалось – адресом ошибся.
Думал – вот без этого уж точно
Жить нельзя. А оказалось – можно.
Думал – выжил!.. Ну теперь-то можно…
Оказалось – время жизни вышло.
«Целый день чинили крышу…»
Целый день чинили крышу
Ты да я да мы с тобой.
Пробивалась муза свыше —
Вышел музе непробой.
Вдохновенье обломилось,
Вся рассыпалась строка…
Ах, за что, скажи на милость,
Аполлон нам дал пинка?
«Глянь, – кричит, – с суконной рожей,
А туда ж – в калашный ряд!
На поэта не похожа!
Кыш! Тебе, блин, говорят!»
Муза – в слёзы: ей досадно.
Но сказала я: «Не плачь!
Живы? – Живы. Вот и ладно!
Мало ль в жизни незадач?
Кифаред воротит рыло?
Да и плюнь ты на козла!»
Постояла, покурила
И за реечкой пошла.
Попытка начать новую жизнь
Бог наказал расстройством ЖКТ
Меня за безобразное обжорство.
Теперь сижу, грызу сухарик чёрствый,
И думаю – ну да – о суете
И бренности, увы, всего земного.
Ромашку пью и трескаю сорбент,
В сортир влетаю за один момент,
А после чинно пью ромашку снова.
Ах, будь они неладны – шашлыки,
И острый соус, и ещё – винишко,
Которого, пожалуй, было слишком,
И хохмочки, и стрёмные стишки,
Которыми я слух друзей терзала,
Пытаясь удивить невесть кого
Невесть – зачем, а только и всего,
Что просто воздух даром сотрясала.
Я больше никогда, нет, НИ-КОГ-ДА
Не дам себе подобную поблажку.
Я буду кушать кашку, только кашку,
Основа коей – чистая вода.
Диета и зарядочка с утра!
О сигаретах больше нет и речи…
Здоровый образ жи…
Мне вроде легче…
Ей-богу, легче!
Кофе пить пора!
В духе куртуазного маньеризма
Ежедневно, ежечасно,
Нынче там, а завтра – тут
Волны глупости прекрасной
Лодку лёгкую несут.
Волны глупости роскошной,
Будто в раннем детстве – сны,
Беспечальны, бестревожны
И воистину вольны.
Волнам глупости – беспечно
Пену в кружево свивать.
Мимолётно или вечно —
Мне на это наплевать.
Косяками ходит рыба,
Светит солнца медный грош…
За «орла» – судьбе спасибо,
Ну а если «решка» – что ж,
Пусть рокочут громогласно
В дикой пляске штормовой
Волны глупости прекрасной
Над моею головой.
«Я на левое ухо – Бетховен…»
– Извините, я немного Бетховен на это ухо.
– Хорошо, что не Ван Гог.
Из разговора
Я на левое ухо – Бетховен,
А на правое ухо – Ван Гог.
И герр Питер средь разных диковин
Меня б заспиртовал, если б мог.
Но сравнения падают в лузу,
Словно шарики. Так, например,
Я на правое око – Кутузов,
А на левое – явно Гомер.
Я – Маресьев на левую ногу,
Хоть ты смейся, пожалуй, хоть плачь.
А на правую ногу, ей-богу,
Я – Джон Сильвер, искатель удач.
И без всякого газа и флёра
Я скажу, чтоб прошибла вас дрожь:
Я на левую руку – Венера,
А на правую – Нельсон. Так что ж?
Что там уши да очи – взгляни-ка:
Я на самом-то деле, увы, —
Просто Самофракийская Ника
В отношеньи своей головы.
«Решила навести порядок в доме…»
Решила навести порядок в доме.
И навела.
Потом уж заодно
Со старыми долгами рассчиталась,
Со всеми помирилась,
И тогда
Мне стало почему-то неуютно:
Как говорится – можно помирать.
Ну нет! Пойду, пожалуй, до получки
Стрельну…
Потом поссорюсь с кем-нибудь.
А беспорядок – дело наживное.
«Прибавляю даже в росте…»
Б. Г. Друяну и Д. П. Шулаевой
Прибавляю даже в росте
От негаданного счастья:
Я иду к Друяну в гости,
Я скажу Друяну: «Здрасте!»
Я с Друяном выпью водки,
С Диной Павловною – тоже,
Чтоб сиять светло и кротко
За столом хмельною рожей.
А душе довольно крошек,
Чтоб кулак её разжался,
Чтобы жизни медный грошик
Сторублёвкой показался.
«Похолодало резко. Лишь вчера…»
Похолодало резко. Лишь вчера
Разбойный ветер рвал с деревьев листья,
И в грязь бросал, и шлёпал мокрой кистью.
А нынче словно росчерком пера
Всё изменилось: истончился куст,
И на берёзовой прозрачной ветке
Позвякивают редкие монетки,
И странно резок непривычный хруст
Под каблуком. Подмёрзшая земля
Застыла в бесприютности дорожной.
Но вздрагивает конь мой и, тревожно
Пофыркивая, просится в поля,
Где так пронзителен и звонок свет,
И безграничен так, что сердцу тесно,
И меж земной дорогой и небесной
Уже почти совсем преграды нет.
«Господи всемогущий…»
Господи всемогущий,
увеличь мои сутки
хотя бы на полчаса,
чтоб могла я заняться
чем-то вполне бесполезным —
лёгким, как воздух,
плывущим,
чуть горьковатым на вкус,
к примеру французской грамматикой.
Господи милосердный,
Ты меня знаешь
лучше меня самой.
Ты знаешь точно:
мне ведь только позволь,
уступи хоть немного —
и я начну клянчить
всё больше
и всё будет мало.
В итоге понять захочу,
на каком языке
деревья беседуют с птицами.
Господи беспечальный,
Ты разъясняешь,
Ты позволяешь понять:
за временем – не к Тебе,
у Тебя его нет,
у Тебя только вечность.
А язык деревьев и птиц
ясен и так.
Надобно только прислушаться.
Осень
Это всё уже было когда-то:
Подворотня, стена, водосток,
В пальцах старческих и узловатых
Слишком яркий пахучий цветок.
Всё привычно и очень похоже:
Пестрота, а потом – нагота…
Но тревожит, сознайся, тревожит,
Словно вечно играет с листа.
Потому что опять приоткрылись
В неуюте покинутых гнёзд
Высота как последняя милость
И простор – бесконечный до слёз.
Мальский погост
Вместе с белою звонницей древней
Церковь спряталась в самом низке,
От холмов, от полей, от деревни
Убежав к обмелевшей реке.
И, быть может, поэтому только
На земле уцелела она —
В груду мусора, в хаос осколков,
В облак пыли не превращена.
Схоронившись под влажною сенью,
Под отчаянным взмахом креста,
Всё, мне кажется, ищет спасенья
Та испуганная красота…
Непривычною нежностью знобкой
Дрогнет сердце, когда пред тобой
Улыбнётся печально и робко
Меж берёз – куполок голубой.
«Бездумно провалялась целый день…»
Бездумно провалялась целый день,
Простуде предпочтя без боя сдаться.
И вот теперь за собственную лень
Перед собой пытаюсь оправдаться:
«Ну полежала, отдохнула… Да.
Неделя суеты, и всё такое…
Усталость… Возраст… В общем – ерунда.
Пусть воли нет, зато чуть-чуть покоя
Мне выпало…»
Но тающий в окне
Вечерний свет спокойный и серьёзный —
Он кроток был. И стыдно стало мне
Пред истиной его простой и грозной.
Как будто бы не день один, но – жизнь,
Где этот день сменялся многократно,
Растрачена на сны и миражи —
Бессмысленно, бездарно, безвозвратно.
Переводы
Когда тебя сомнения изгрызли
И сузилось пространство для полёта,
Возьми чужой язык, чужие мысли —
Ремесленником скромным поработай.
Измучайся, но рифме дай огранку,
Расставь слова в чужом размере тесном.
Хоть вывернись, пожалуй, наизнанку,
А всё ж – освойся в мире неизвестном.
Трудись, как вол, в терпенье и смиренье,
Не ной, что понапрасну тратишь силы,
Что отблески чужого вдохновенья
Тебя лишь только дразнят легкокрыло.
Не жалуйся, что жизнь проходит мимо:
Ведь, притворяясь лёгким и случайным,
Как смерть и как любовь, неотвратимо
Оно придёт в свой час тропою тайной,
Чтоб снова выжечь сердце.
«Сегодня, несмотря на спешку…»
Не возьмёшь мою душу живу…
М. Цветаева
Сегодня, несмотря на спешку,
Я в самой середине дня
На полчаса зайду в кафешку,
В кармане мелочью звеня.
И там, представьте, будет тихо,
Тепло, свободно и светло.
И я, поняв, что дремлет лихо,
Что мне безумно повезло,
На целых полчаса забуду
Жужжание обид и бед:
Немытые полы, посуду,
Неприготовленный обед.
Свободе больше не переча,
Так бесконвойно задышу,
Что словно полечу навстречу
Рифмованному миражу,
И, обретая душу жи́ву,
Иные слыша голоса,
Я стану наконец счастливой —
На полчаса, на полчаса.
«Здесь никто никого не жалеет…»
Здесь никто никого не жалеет.
За привычною гладкостью фраз
Нелюбовь уголёчками тлеет
В глубине этих выцветших глаз.
Здесь никто никому не поможет
И с пути своего не свернёт.
Только цену твою подытожит
Равнодушное щёлканье счёт.
Здесь чем ты холоднее, тем круче…
Но ведь кто-то шепнул мне: «Живи
Со своим бесполезным, певучим
И мучительным жаром в крови!»
В нелогичном, непознанном мире,
Где всей жизни на вздох или взмах,
И слеза тяжелее, чем гиря,
На божественно-шатких весах.
«И вновь запела скрипка у метро…»
И вновь запела скрипка у метро
О чём-то мимолётном и печальном,
Ненужном, неоплаканном, случайном —
О гулкой бесприютности дворов,
О стихнувших шагах твоих, о том,
Чему уже вовек не повториться,
О стёртых именах, забытых лицах,
О доме, предназначенном на слом.
Я не хочу ни знать, ни вспоминать.
Скрипач, прошу тебя, смычка не трогай —
О безнадёжной хрупкости земного
Земному не спеши напоминать.
Да и мотив затаскан, полужив,
Как с времени полученная сдача…
А я над ерундою этой плачу,
В пустой футляр червонец положив.







