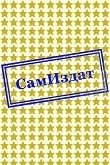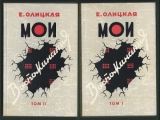
Текст книги "Мои воспоминания"
Автор книги: Екатерина Олицкая
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Молодой парень с суровым лицом принял меня и просто напросто отказался разговаривать со мной. Не знаю, была ли я огорчена, возмущена я была очень и самым фактом исключения и тем, как реагировало студенчество на чистку в вузе. Не внесенные в список старались не задерживаться перед объявлением, скорее проходили к аудитории. Занесенные в список принялись обивать пороги сильных мира сего. Товарищи, поджидавшие меня, услышав мой рассказ, с перепуганными лицами, пробормотавши нечленораздельно слова сочувствия, поспешили куда-то смыться.
Без сожаления захлопнула я за собой дверь вуза. Я понимала – с учебой покончено навсегда. Меня интересовало, чем же, в конце концов, мотивировано исключение. Какими материалами против меня располагал институт? Социальное происхождение? Известна им моя принадлежность к партии с.-р. в 1917 году? Проведали о моих настроениях сейчас?
Теперь предо мною стал вопрос о моем трудоустройстве. С работой в Москве было очень трудно. Мне удалось все же узнать, что при бирже труда созданы экспертные комиссии, выдающие свидетельства на право получения работы по специальности. Библиотечная работа
Получить какую-либо конторскую работу не было никакой возможности, ее добивались тысячи людей, часто опытных, с большим стажем. Легче обстояло с работой библиотечной. Достав программы и ряд руководств, я стала готовиться к экзаменам. Экзамены сдавались при экспертных комиссиях биржи труда. Сдавалось библиотековедение и, конечно, политграмота. Последнее меня не смущало, так как все необходимые знания были приобретены при подготовке в вузе к зачетам, но над библиотековедением я прокорпела месяц. Сдала экзамен, получила свидетельство, стала на учет в секции библиотечного дела. Тогда начались бесконечные хождения на биржу труда в ожидании направления на работу. В конце концов, я получила нечто напоминающее посылку на работу. С биржи труда меня направили в качестве практикантки в библиотеку им. Гоголя. Библиотека помещалась в Кудринском районе Москвы, совсем недалеко от зоосада, где мы жили.
В библиотеке заведующая – маленькая, сухонькая, хроменькая женщина – встретила меня неприветливо. Прежде всего она осведомилась, принадлежу ли я к партии, и, получив отрицательный ответ, вовсе нахмурилась, но до работы практиканткой допустила, не допустив, однако, до выдачи книг.
Мне было поручено составление библиотечных карточек. Работа была несложная, но неинтересная. Почерк у меня был неважный, и карточки, написанные мною, по красоте уступали карточкам, написанным другими сотрудниками.
Взаимоотношений ни с кем из работников библиотеки у меня не сложилось. Молча приходила я на работу, молча уходила, точно так же держали себя остальные сотрудники. Только коммунистки были как-то связаны между собой. У них проходили какие-то собрания, совещания, на которые другие работники не допускались.
Месяца через полтора, вынужденная срочной необходимостью, заведующая послала меня в помещение библиотеки. Большая комната в подвальном этаже сверху донизу, начиная с бесконечных полок и кончая полом, была завалена книгами. На единственном огромном столе стройными пачками лежали новые, нуждающиеся в обработке книги. То были кипы современной политической литературы, выходившие тысячными тиражами. Их и поручила мне разобрать заведующая. Сама она приходила и уходила, наблюдая за моей работой. К тому времени я уже невзлюбила эту сухую, черствую женщину. Я возненавидела ее теперь.
Старательно пробиралась я между книг, валявшихся на полу. Она небрежно топала прямо по ним своими хромыми ногами.
Конечно, в ее отсутствие я ознакомилась с книжными богатствами, брошенными на пол. Здесь были массы изъятых книг. Нашла и папку с бумагами и списками книг, подлежащих изъятию из библиотек. Перечесть их всех мне не удалось, но груды изъятых книг говорили сами за себя. Часть их стояла по полкам: Достоевский, Толстой, Арцыбашев, Куприн, Бунин, Короленко… Это была беллетристика, что же говорить об истории? Она, по-моему, была изъята вся. Изъятыми оказались работы о декабристах, о народовольцах, конечно, весь Михайловский, весь отдел философии, социологии и политэкономии. Бедный Туган-Барановский, по которому я когда-то сдавала зачеты по политэкономии! На полу, по которому топала заведующая, лежали ценнейшие книги, реквизированные из частных библиотек, на них не было библиотечного штампа. Тут были книги старинные, в толстых кожаных переплетах, роскошные издания-альбомы с репродукциями лучших мастеров России, Западной Европы. Как хотелось мне подобрать их, вынести наверх, сделать доступными читателю. Нелегальное студенческое движение
В декабре 1923 или в январе 1924 года, вернувшись из библиотеки, я застала дома гостей. Веру Хрусталеву я знала давно, с мужем ее, Мощенко, я познакомилась только теперь. Вера в дореволюционные годы дружила с Дутей, она вместе со своим братом и его репетитором Алешей Ивановым бывала у нас в Сорочине. Тогда вся их компания левонастроенной молодежи была мне далека, я была еще совсем девочкой.
Узнав от Дути, что папа в Москве, Вера с мужем зашла к нему. С Дутей у Веры дружбы давно уже не было. Жизнь они принимали по-разному.
К этому времени и наши отношения с Дутей и ее мужем обострились настолько, что мы жили уже врозь, хотя и в одной квартире.
В связи ли с пьянкой, в связи ли с буржуазным окружением, которое, очевидно, составляли мы, или в связи с тем и другим вместе, Степана сняли с руководящей работы и вернули на производство в типографию. Сестру тоже исключили из партии.
Мы жили уже не на старой квартире при конторе. Наша комната и комната сестры были разделены большой проходной комнатой, которой никто не пользовался.
В этот день я застала папу, Диму, Веру и ее мужа за оживленной беседой. Говорилось обо всем, что волновало людей тех лет. По настроениям Вера и ее муж оказались нам очень близки. Не помню, как это случилось, но после ряда встреч Мощенко предложил нам с Димой познакомить, связать нас с группой студенческой молодежи, социалистически настроенной, и, если не прямо, то косвенно связанной с партией эсеров, находящейся в глубоком подполье.
Мы радостно благодарили его, но просили предупредить посланца о том, что с Дутей и ее мужем и при них нельзя вести никаких разговоров. Мощенко ответил, что он это знает, что он хотел даже предупредить нас, чтобы мы не говорили о нем с сестрой.
Неделю или две спустя к нам пришел юноша лет двадцати трех. Тонкий, стройный, с своеобразным, приметным, может быть, немного угрюмым лицом. Он представился нам как студент Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии. Мы сразу поняли, кто прислал Сергея Сидорова. Мы были ему рады. После довольно долгой беседы, в которой и папа принимал участие, Сергей предложил познакомить нас со своими товарищами. Он дал нам адрес, по которому мы должны были зайти в условленный день и час. Сергей нам всем очень понравился.
В назначенный день и час мы с Димой пошли на Поварскую. Мы легко нашли проходной двор и дом. Комната, в которую мы вошли, была маленькая, типично студенческая, а ее хозяин, Григорьевич, походил как две капли воды на вечного студента. Уже немолодой, лет тридцати, с длинной взлохмаченной шевелюрой, с длинными свисающими усами, высокий, сутуловатый, худой. На нем была поверх косоворотки наброшена студенческая поношенная тужурка.
Когда мы вошли, он сидел на своей койке позади стола. Стол был завален книгами и газетами. Кроме стола и кровати в комнате было три простых деревянных табурета. На широком подоконнике стоял чайник, стакан на блюдце, какая-то кастрюлька и примус. Вид у комнаты был довольно-таки неопрятный, холостяцкий. Кроме хозяина в комнате находилось еще два студента.
Раз в неделю собирались мы в этой квартире. Здесь мы говорили на возвышенные темы, обсуждали студенческие дела. По настроениям мы все сочувствовали партии эсеров. Но то, что наша группа была связана с партией, по-моему, знали только мы с братом и Сергей. Наша группа была одним из звеньев цепочки, связывающей нелегальное студенческое движение.
По конспиративным соображениям каждое звено состояло из 5 человек. Каждый член звена должен был соорганизовать вокруг себя новую пятерку.
Мы с братом не знали ни подлинных имен, ни фамилий никого из товарищей, кроме Сергея. Не знали и они наших. Лица, о которых сообщалось, шли обычно под кличками. Все эти предосторожности соблюдались потому, что в студенческой среде шли аресты. В высшей школе шли беспрерывные чистки студентов, увольнения профессоров. Молодежь, еще хранившая традиции прежней школы, боролась за свободную, независимую от государства, самоуправляющуюся школу, за свободу собраний, сходок, за свободное избрание студенческих организаций.
Может быть, наивно было бороться за свободную школу в стране диктатуры, но молодежь ни с чем не хотела соглашаться и отстаивала свои права.
На наших собраниях зачитывались или получались для прочтения отдельные номера «Социалистического вестника» (нелегального органа с.-д.) и «Революционной России» (нелегального органа партии эсеров). Из них, кроме руководящих статей, мы узнавали о событиях в стране, о новых арестах, из них мы узнали и о расстреле заключенных 19 декабря 1923 года на Соловках. Узнавали мы на наших собраниях об арестах среди студенчества Москвы и Ленинграда. Одной из наших задач было собирание средств для оказания помощи арестованным и сосланным студентам. Материальную помощь мы обычно оказывали через существовавший тогда «Красный Крест Помощи Политзаключенным». Возглавляла его жена Горького, Екатерина Павловна Пешкова.
Лично знакома я с нею не была, но слышала о ней много восторженных отзывов. В последующие годы, вплоть до 1937 года, мне и моим товарищам она оказывала большую помощь.
Очевидно весной 1924 года правительство решило окончательно сломить сопротивление высшей школы, по крайней мере, аресты среди студенчества стали массовыми. В студенческом сопротивлении властям разброд царил потрясающий. Против линии партии, проводимой партией в высшей школе, выступали самые разнообразные группы студентов, от революционно до реакционно настроенных. Нашей задачей стало разъяснение в среде студенчества студенческих требований, выявление определенного направления, выкристаллизовывание соц. групп. Эпизодически социалистическим студенчеством выпускались листовки, освещавшие те или иные события, протекавшие в стране и школе теперь. Мы ставили перед собой задачу создания студенческой газеты, которая должна была освещать жизнь студенчества в различных учебных заведениях Москвы, сообщать о жизни студентов других университетских городов, обосновывать требования, выдвигаемые студентами.
Не помню, какое название хотели мы дать своей газете, но выходить она должна была под аншлагом эсеров «В борьбе обретешь ты право свое». Конечно, мы и не мечтали о печатном станке. Приобретение шапирографа, краски, восковки, пишущей машинки, даже просто бумаги в те годы было очень затруднено. Все эти товары распределялись по ордерам. Мы занялись собиранием средств и точно проверенного материала о жизни высшей школы. Передовую статью обещал достать Сергей у старших товарищей. Дома никто, кроме отца, не знал о наших встречах, о наших собраниях. Наша жизнь стала содержательней.
* * *
В феврале или марте Дутя предложила мне работу, очень увлекшую меня. При Госиздате организовывалось отделение по массовому издательству книг для сельских читателей. Возглавил это отделение известный профессор русской литературы С. Предполагалось сокращение ряда крупнейших литературных произведений. Дутя была знакома с профессором и от него узнала, что издательству требуются сотрудники для обработки и сокращения отобранных книг. Сестра предложила мне попробовать свои силы на этой работе. Я ухватилась за предложение обеими руками. Литературная работа всегда влекла меня. В Гизе, поговоривши со мной, профессор С. предложил мне взять для пробы роман Джека Лондона «Мартин Иден». В случае удачи роман будет принят к печати, а я зачислена в штат сотрудников. Дни и ночи просиживала я за работой. Очень волновалась, чувствовала большую ответственность. Я любила Лондона, а «Мартина Идена» считала прекрасной книгой. Изо всех сил старалась я не исказить, не обеднить автора, сохранить его литературный стиль и в то же время уложиться в нужное количество листов. Работу я проделала. Прочитала отцу и получила его одобрение. Только мы с отцом недоумевали, почему была выбрана эта вещь, так не вязалась она с соответствующими установками большевиков, была, как говорится, «не созвучна с переживаемой нами эпохой».
Я понесла листы в Гиз. Я трепетала. Я была неуверена в себе: ведь это был мой первый литературный опыт.
Через неделю мне вернули рукопись. Редактор нашел ее неподходящей. Конечно, я была очень огорчена. Я заглянула в рукопись. Вся она была испещрена пометками, исправлениями. Чуть не бегом мчалась я домой. Хотелось ознакомиться с ошибками. Я забралась в самый уединенный уголок зоосада и погрузилась в чтение.
Домой, к папе, я влетела взбешенная. Я потрясала листами и задыхалась от волнения. Ни с одним исправлением я не была согласна. Мало того, я находила их неверными, неграмотными. Многие из них исправляли не меня, а Лондона. Я показывала свою рукопись всем, кто соглашался смотреть. Никто не понимал причины исправлений.
Тогда я отправилась в Гиз. Я добилась свидания с профессором. Чуть не со слезами на глазах доказывала я свою правоту, просила об объяснении допущенных ошибок. Он взял рукопись и начал листать. Мне кажется, ему стало жаль меня. Он сказал, что сам посмотрит мою рукопись и тогда скажет мне свое мнение. За ответом он просил зайти недельки через две, так как очень занят. Окончательный отзыв профессора окрылил меня. Казалось, чему было радоваться? Профессор сказал, что вещь не пойдет по независящим от него обстоятельствам, но что он не согласен с исправлениями, что он считает мою работу удачной. Литературная сторона сокращений его вполне удовлетворяла. Не моя вина, а вина Гиза, сама вещь была выбрана неудачно. Она не подходит по тематике для изб-читален. Профессор сказал, что намерен принять меня в число сотрудников и просил зайти к нему в концу месяца, так как сейчас они загружены другой, срочной работой. Я обещала зайти. Я страшно хотела зайти, примкнуть к литературной работе, но сомнения мучили меня. «Мартин Иден» оказался неподходящим для редакции, окажутся ли подходящими по содержанию для меня те книги, которые предложат мне для сокращения? Смогу ли я взять социальный заказ? Соблазн литературной работы был велик. Устою ли я перед соблазном?
Жизнь не поставила меня перед решением сложных вопросов вхождения в советскую литературу, компромиссов с совестью. Жизнь решила этот вопрос помимо меня. В Госиздат я больше не пошла.
* * *
Сергей Сидоров предупредил меня и Диму:
– Идя к Григорьевичу, поколесите по Москве и смотрите внимательнее, не следит ли кто-нибудь за вами. Нам кажется, что за квартирой установлено наблюдение. Если заметите что-нибудь подозрительное, не приходите вовсе. Если за вами слежки не будет и на окне будет стоять свеча, заходите. Собираемся там в последний раз.
Слежки за собой мы не заметили. Свеча на подоконнике горела. Мы вошли в дом. Товарищи были в сборе. Григорьевич рассказал, что у дома все время торчит какая-то подозрительная личность, похоже, шпик. Дворничиха тоже рассказала ему, что у нее наводили справки, бывают ли у студента товарищи и часто ли они собираются. Может быть, у страха глаза велики, во всяком случае, в целях предосторожности собираться у Григорьевича больше не стоит. Собственно, мы планировали перерыв во встречах, но не сейчас, а после выпуска первого номера нашей газеты. Для выпуска первого номера у нас было все уже подготовлено. Шапирограф, чернила, бумага – все запасено. Найден был человек, который должен был на пишущей машинке напечатать восковку, подобраны люди для распространения газет. Нам необходимо было собраться еще раз для обсуждения газетного материала в целом и установления явок для получения напечатанных листовок. Печатать, то есть делать оттиски, было решено у нас дома. Ночами думали мы с Димой вести эту работу. Комната была изолированной, нас двое, помощников нам не надо, а явка за листами в зоологический сад тоже могла протекать незаметно. Мало ли людей идут смотреть зверей. Конечно, проводить собрание там, где предполагалось печатание, не следовало, но другого выхода не было. И порешили собраться у нас. Осторожно, по одиночке, разошлись мы по домам, с тем, что завтра собираемся у нас в последний раз.
Дома мы обо всем рассказали отцу. Бедный папа! Он боялся за нас. Хмурил брови, проклинал свою инвалидность, но ни одного слова возражения мы от него не слышали. Папа полностью разделял наше возмущение тем, что творилось вокруг. Понимал наше желание принять посильное участие в борьбе студенчества за свободную школу в «свободной стране». Так формулировались нами требования в передовой статье нашей газеты.
Вечер следующего дня начался очень удачно. Сестра и ее муж ушли куда-то и, когда пришли товарищи, никого, кроме нас с отцом, дома не было. Папа лежал на своей кровати, занавески на окнах были спущены, каждый из приходивших сообщал, что за ним наблюдения не было, что хвоста за собою он не привел.
Усевшись за столом, мы в последний раз пересмотрели материал, сведенный уже в один лист и расположенный в должном порядке. Я не помню уже всего собранного нами материала. Помню, что была там моя заметка об изъятии книг из библиотек, информация о последних арестах среди студентов, произведенных в Москве, с перечнем фамилий, заметка об увольнении ряда профессоров из университетов, предлагающая студентам бойкотировать профессоров, назначенных на место исключенных. Был в газете раздел «За что бороться?» Там выдвигалось требование независимости высшей школы от государства, экстерриториальности ее помещений, свободы слова, собраний, сходок для профессоров и студентов, возвращения в университетские книгохранилища и библиотеки изъятых книг, возвращения из ссылок всех арестованных за студенческие выступления студентов, прекращения чисток в высшей школе по социальному положению и по политическому убеждению.
Прочитав материал, условившись о количестве оттисков, и о том, где, кто и когда будет получать напечатанные листы для их распространения, товарищи ушли. Последним вышел Сергей. Он сказал на прощанье:
– В случае, если меня арестуют, связь с партией будете держать вы. Кроме вас и меня никто не имеет нити.
Я молча кивнула головой, а Дима сказал:
– Будем верить, Сергей, что ты еще продержишься.
В комнате было сизо от табачного дыма, и как только Сергей вышел, я быстро подошла к окну и толкнула плотно закрытые оконные створки. Занавески всплеснули, взвились за окно. Я до половины высунулась вдохнуть свежей прохлады весеннего вечера.
Что это? Или мне только показалось, что кто-то шарахнулся во тьму, в кусты, растущие вокруг нашего домика? Я вглядывалась пристально, прислушивалась… Нет никого, тишина. «Причудилось», – решила я и ничего не сказала ни отцу, ни брату. Поспешно убрали мы все в нашей комнате, уничтожили все черновые заметки. Оставался один уже перепечатанный на машинке экземпляр газеты. Мы с Димой хотели заложить его в одну из книг, но папа решительно потребовал, чтобы этот лист был заложен в матрац, на котором он лежал. Мы не противоречили. Только успели мы это сделать, как в дверь постучали. Первый арест
– Здесь живут Олицкие? – раздался мужской голос. Одновременно дверь отворилась. На пороге нашей комнаты стоял человек в форме чекиста. За ним следовали еще двое. Четвертый был в штатском.
Я взглянула на отца. Папа был очень бледен.
– Мне поручено произвести обыск в вашей квартире, – сказал чекист.
– Предъявите, пожалуйста, ордер, – ответила я. Достав из портфеля очень толстую пачку ордеров, он полистал ее, вынул одну бумагу и положил на стол. Я, наклонившись, прочитала ее и подала брату. Ордер был на обыск и арест Екатерины и Дмитрия Олицких.
– Пожалуйста, – сказала я и отошла в сторону. Брат тоже отошел в сторону и сел на кровать к отцу.
Во время обыска никто из нас не проронил ни слова. Чекисты рылись всюду. Они перетряхивали, перелистывали книги, простукивали пол и стены.
– А кто это сейчас вышел от вас? – спросил главный.
– От нас? – удивились мы. – Никто от нас не выходил.
– Напрасно отрицаете, мы знаем, что у вас были люди.
Я все время думала про шорох под окном. «Донос, явно донос, и они ищут газету». Но я врала, что у нас никого не было, может, из квартиры кто и выходил. Я знала, что муж сестры недавно возвратился и снова ушел.
Обыск был закончен. У нас ничего не нашли. Чекисты составили протокол, его подписали мы и понятой.
– Можете идти, – сказал ему чекист. Понятой как-то сгорбившись, попятился к двери, вышел и закрыл за собою дверь. Следом она снова открылась, на пороге стояла Дутя, она только что вернулась домой. Из-за ее спины виднелось насмерть перепуганное лицо Пети.
– Это к вам? – спросил чекист и направился к двери.
– Это сестра, – ответила я.
– А-а-а… – протянул он, – простите, здесь производится обыск, посторонним вход воспрещен. Сестра молча отступила и закрыла за собой дверь.
– Оденьтесь и идите со мной. Вещей с собой брать не надо.
Я одела жакет и шляпу, брат надел тужурку. Мы подошли проститься с отцом. Мы крепко поцеловались. Слабые руки отца дрожали.
У подъезда стояли две легковые машины. В одну из них сели мы с братом и один из чекистов.
– Вези на Лубянку, – сказал старший и направился ко второй машине.
«За следующими», – мелькнуло у меня в голове. Я вспомнила толстую пачку ордеров, из которой он выбрал наш.
Мы с братом сидели рядом на открытой машине и крепко держались за руки. Мы молчали, ведь рядом сидел спутник, но я знала, что оба мы думаем об отце. Когда мы выходили из своей комнаты, в проходной комнате стояла Дутя. С нахмуренным, сердитым лицом смотрела она в сторону, но все же бросила нам:
– За отца можете не беспокоиться. Мало успокоила меня эта фраза, я знала, каково сейчас отцу. На Лубянке-2
У Лубянки-2 машина заехала во двор и остановилась против большой двери. По узкой лестнице предложили нам подняться наверх. На площадке третьего этажа брату велели войти в дверь направо. Под окрик сопровождающих мы все же пожали друг другу руку. Я поднималась выше.
На четвертом этаже дверь открылась и передо мной. Из коридора я попала в маленькую, совершенно пустую комнату. Первым поразило меня то, что все двери открывались и закрывались как бы сами. Беззвучно по устланным дорожками коридорам двигались надзиратели, без слов понимавшие друг друга. Изредка они стучали ключами по пряжке пояса.
Через минуту после меня и конвоира в комнату вошла пожилая женщина.
– Обработайте, – сказал ей конвоир и вышел. Женщина подошла ко мне и сказала:
– Разденьтесь. Обыскать мне вас нужно.
Я сняла платье. Обыскала меня эта женщина очень поверхностно, без придирчивых гнусных приемов, что поняла я, впрочем, потом, когда прошла через целую вереницу обысков разных лет.
При обыске у меня ничего взято не было. Я снова одела платье. Молча стояли мы друг перед другом. Потом дверь отворилась и появился надзиратель. Молча рукой указал он мне на дверь. Теперь мы долго шли коридором. Он был разделен перегородками на части. У каждой перегородки с обеих сторон двери нас встречал и провожал постовой. По обеим сторонам шли двери камер. Над каждой дверью стоял номер. В каждой двери был прорезан круглый глазок. Наконец, мы дошли до камеры, дверь в которую была открыта. Сопровождавший рукой указал на нее. Я переступила через порог, и дверь за мной закрылась. В замке щелкнул ключ.
Первое, о чем я подумала, очутившись в камере, что щелканье замка, так жутко описываемое в рассказах о тюремной жизни, не произвело на меня тяжелого впечатления. Напротив, первым чувством было чувство облегчения – наконец-то я одна. Одна, и в тюремной камере. В тюремной камере, через которую прошло столько лучших людей России. Я даже считала себя недостойной быть посаженной в тюрьму. Ведь я ничего-ничегошеньки не успела сделать. С интересом стала я осматриваться вокруг. До удивительности все было знакомо по воспоминаниям отца. Окно за решеткой, койка, правда, не привинченная к стене, столик, в углу у двери – параша. Стены до половины, пол и все предметы выкрашены коричневой краской. В двери прорезан волчок – круглое застекленное отверстие, со стороны коридора оно задернуто пластинкой…
Сперва мне показалось, что окно упирается в стену противоположного здания, но нет, на расстоянии четверти от окна подвешен к нему железный, тоже коричневой краской окрашенный щит. Это усовершенствование – о таких щитах я не слышала. Под окном – батарея центрального отопления, вдоль стены трубы идут в другие камеры… и мелькает мысль: «А по ним можно перестукиваться». Над волчком двери большая картонка с правилами внутреннего распорядка: Заключенные обязаны… Заключенным запрещается… Заключенным разрешается…
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОБЯЗАНЫ: а) поддерживать чистоту в камере; б) исполнять все законные требования администрации; в) вставать при обходе камер начальником тюрьмы; г) ежедневно выносить и вымывать парашу.
ЗАКЛЮЧЕННЫМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: а) нарушать тишину в камере; б) подходить к окну и класть что-либо на решетку и подоконник; в) входить в общение с соседними камерами, стучаться в стены и трубы водопровода; г) громко разговаривать, петь и кричать в окна; д) делать надписи на стенах камер.
ЗАКЛЮЧЕННЫМ РАЗРЕШАЕТСЯ: а) ежедневная 16-минутная прогулка; б) хранить в камере зубной порошок, зубную щетку и мыло; в) хранить в камере разрешенные продукты питания; г) получать с разрешения следователя передачи раз в декаду; е) с разрешения следователя раз в месяц свидание с родными.
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО: а) подавать жалобы и заявления через начальника тюрьмы раз в декаду во время обхода начальником камер; б) в случае надобности вызывать дежурного по корпусу или врача.
Я внимательно изучала правила, меня очень интересовал внутренний распорядок советских тюрем. И тут я услышала, уловила в окружающей меня тишине легкий размеренный стук в стену. Доносился он откуда-то сверху. Четкие удары. Раз, два, три – пауза. Опять раз, два, потом раз-два-три-четыре и раз-два-три. По рассказам отца я знала о перестукиваниях заключенных и о тюремной азбуке. «Папа! что-то он делает сейчас? Не спит? Думает о нас? Как он будет жить без нас?»
Я ни в чем не раскаиваюсь. Я знала и раньше, что так, в конце концов, случится. Я ничего не могла изменить. Но теперь, когда это случилось, мне было невыразимо больно за отца. Бросив свои исследования и наблюдения, я подошла к койке и легла, не раздеваясь. Ведь я пробовала жить всячески. Но мне, очевидно, нет места там, на воле. Нет места в институте, нет места на работе. Как жить? Мириться со всем, что окружает? Молчать о безобразиях, молчать или прикидываться сочувствующей? Восторгаться всем тем, что возмущает? Подделываться и подмазываться… Вот тогда можно жить. И хорошо жить!
Мысли мои прервал шорох у дверей. Это щелкнул волчок. В круглое стеклышко, вделанное в дверь, смотрел человеческий глаз. Встретившись с моим взглядом, он исчез. Стеклышко закрылось. Через минуту или две волчок снова щелкнул. И вслед загремел ключ в замке. Дверь открылась.
– Получите одеяло, простынь, наволочку, полотенце.
Я взяла поданные вещи и постелила постель. Раздеваться мне не хотелось. Я прилегла одетая. Через небольшой промежуток времени надзиратель приоткрыл дверь.
– Раздевайтесь и ложитесь спать.
Я никак не реагировала на его голос. Больше меня никто не тревожил, я могла думать, думать, сколько хочу. Кругом меня тихо стучали стены.
«Надо вспомнить тюремную азбуку», – подумала я, но ничего не вспомнила. Очевидно, я задремала. Разбудил меня звук отпираемого замка и стук открываемой двери. Порог переступила молоденькая девушка с узелком в руке. Она решительным шагом вошла в камеру, положила свой узелок на стол и села на свободную койку. Я тоже села на своей койке.
– Здравствуйте, – сказала я, – вас только что арестовали?
– Да, – ответила она. – А вы давно сидите?
– Меня тоже сегодня арестовали и привезли сюда.
– Тогда давайте знакомиться. Я Вера Рыбакова, студентка исторического факультета. А вы – тоже студентка?
– Нет. Пожалуй, что нет. Меня вычистили из промышленно-экономического института еще осенью. Но взяли по студенческому делу.
Вера чуть приподняла брови.
– А меня без всякого дела. Ужас, сколько студентов сегодня арестовали. Перед 1 мая, конечно.
Так начался разговор с Верой. Мы сказали друг ДРУГУ, что мы беспартийные, что мы взяты случайно. Но не больше, как через час, мы знали друг о друге многое. Я поняла, что Вера причастна к с.-д. студенческим организациям; она поняла, что я сочувствую эсеровскому движению. Мы даже успели поспорить на одну из социологических тем. Но это не помешало тому, что между нами сразу установилась близость. Усевшись рядом на тюремную койку, мы сообщали друг другу про последние аресты товарищей, которые были взяты раньше нас. О тех, кто пошел на Соловки, в Суздальский политизолятор. Обе мы ставили перед собой вопрос, в чем причина нашего провала, нашего ареста? Донос?.. Чей? Кто выдал? Не раз во время нашей беседы к двери нашей камеры подходил надзиратель. Не раз щелкал волчок. Мы не обращали на это внимания. Ни я, ни Вера не считали нужным скрывать установившуюся между нами близость. Мир теперь делился для нас на две группы. Мы – арестанты, они – тюремщики. Наконец, Вера встала с койки и, как я немного раньше, стала осматривать камеру. Мы заходили по камере, задвигали Вериной койкой, стоявшей у противоположной стены. Вероятно, это услышали наши соседи. В стену камеры над Вериной койкой послышался легкий, осторожный выбивающий дробь стук. Вера быстро подошла к стене и косточкой согнутого пальца застучала в ответ. Тогда в стену послышались четкие ритмические удары. Вера взглянула на меня вопросительно.
Я морщила брови. Папа рассказывал. Азбука разбивается на ряд строк. Первый удар – строка, второй – буква. Сколько строк, сколько букв в строке? Соседняя стена стучала, а мы ничего не могли понять.
– Кажется 5 строк по шесть букв, – фантазировала я.
Но как запомнить, где стоит какая буква? Ни карандаша, ни бумаги у нас с Верой не было. Были папиросы и спички. Развернули окурок, обугленной спичкой мы стали выцарапывать азбуку, разбивая ее по строкам. Пока мы возились с азбукой, стена вызывающе постукивала. Изредка Вера подходила к ней и давала частую дробь. Или гладила стену.