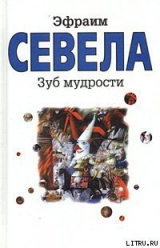
Текст книги "Зуб мудрости"
Автор книги: Эфраим Севела
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Я этого не утверждаю, но допускаю, – невозмутимо ответил Б.С.
– Второй пример, – сказала мама.
– Что еще такое? – сонно отозвался Б.С.
– Ей было, боюсь соврать, годика три или четыре. Зашел к нам как-то сосед и решил пошутить с ребенком. Неумная шутка. Сделал страшное лицо, потянулся руками к шее моего мужа и зловещим таким голосом прохрипел:
– Я задушу твоего папу.
Знаешь, что она сделала? Она топнула ножкой, сжала кулачки так, что они побелели, и крикнула соседу, которого она прежде любила и часами сиживала на его коленях:
– Если ты тронешь папу, я тебя разрежу на мелкие кусочки, пропущу через мясорубку, сделаю котлеты, поджарю, съем и… покакаю. Ты останешься в ночном горшке.
Б.С. рассмеялся. Я у себя в комнате тоже завизжала, от удовольствия.
– Что ты об этом думаешь? – спросила мама. – Мне тогда совершенно не было смешно. Откуда в ней столько злости? Как в этой маленькой головке созрел такой изощренный чудовищный план мести?
– Прелестно, прелестно, – продолжал смеяться Б.С.
– Ты мне ответишь? – настаивала мама.
– Завтра, завтра. Пора спать. Я пошел к себе.
– А поцеловать на прощание? – жалобно протянула мама.
– Обойдешься. Нельзя все сразу.
– Свинья.
– Спокойной ночи.
Мимо моей двери прозвучали шаги Б.С. по коридору. Доски пола прогибались и скрипели под его весом, хотя он ступал осторожно, чтобы меня не потревожить.
Я в эту ночь уснула с улыбкой. Узнала кое-что занятное о себе. А еще позлорадствовала, что он ушел, не поцеловав ее.
Сколько мне суждено прожить, я никогда не забуду сцены прощания в московском аэропорту, когда мы с мамой навсегда покидали Россию. Навсегда, навсегда. Нас не пустят обратно, даже если мы очень будем просить. Потому что в Советской России считается, как неписаный закон, что каждый, кто ее покидает – предатель Родины, отщепенец и негодяй. А уж еврей – тем более.
Мы прошли таможенный осмотр. И теперь мы уже были одной ногой за границей. В зале, где мы ожидали посадки на самолет, все надписи были по-английски, а в буфете принимали плату в иностранной валюте. Советские деньги тоже принимали, но не так охотно. Мы уже были за границей, но не совсем. Лишь одной ногой. В любой момент нас могли вернуть обратно. В Советский Союз. За стеклянную стену, отделявшую наш зал от всего аэропорта. Они еще могли выкинуть любой трюк, поиздеваться над нами, как захотят. Потому что мы все еще были в их руках. На советской территории. Поэтому все взрослые, и в их числе моя мама, сильно нервничали и все поглядывали на часы и на радиорупор, откуда объявляли посадку на самолеты. По-русски и по-английски. И еще на каком-то иностранном языке, который я не смогла определить.
Даже дети перестали шалить и вели себя тихо-тихо. Словно боялись потревожить кого-то страшного, навлечь беду на родителей.
А за стеклянной перегородкой от потолка до пола был Советский Союз. Страна, в которой мы родились и которую мы сейчас покидали навсегда. Через эту стенку было все видно, но ничего не слышно. Она была звуконепроницаемой. И за ней теснились провожающие. Бледные, испуганные люди. Плакавшие и что-то кричавшие. Беззвучно. Как в телевизоре, когда выключишь звук. Шевелили губами, махали руками. Они уже были, как не живые.
За стеклянной стеной, навсегда от нас отгороженные, стояли плечом к плечу шесть стариков. Единственные люди на этой земле, приходившиеся мне родней. Три бабушки, два дедушки и прадед Лапидус.
Они казались ужасно маленькими и несчастными. И хоть я не всегда была с ними ласкова, мне очень захотелось погладить каждого и сказать ему в утешение доброе слово.
Их глаза были устремлены на меня. Не на маму. Словно с моим отъездом для всех для них прерывается нить, связывавшая их с жизнью, и они останутся на земле осиротевшими. Шесть стареньких сироток. У которых больше нет ни детей, ни единственной внучки. И будут хоронить один другого, каждый дожидаясь, когда придет его черед.
Я уже не буду на их похоронах. И от этого им будет очень тяжело умирать. Как будто они напрасно прожили свои жизни.
Мы их предали. Мы их бросаем. Одних. Беззащитных. В стране, где не любят евреев.
– А где их любят? – как любил говорить дедушка Лева.
Я чувствую, что моя мама совершает страшный грех, бросая этих стариков. Я не в счет. Я не решаю. Меня и увозят, не спросив моего желания. Мама объясняет, что старикам лучше оставаться в Москве. Здесь у них квартиры, пенсии. И друзья, к которым они привыкли. А там? Кому они нужны в чужой стране? Кто их возьмет на содержание? Нельзя их трогать с места. Это лишь ускорит приход смерти.
Это жестоко, говорит мама, но разумно. А у самой текут слезы.
Может быть, она думает о том, что когда-нибудь я так же оставлю ее. Одну-одинешеньку. Старенькую и беспомощную.
Потому что у меня впереди будет жизнь, а у нее – могила.
И это тоже будет жестоко, но разумно.
От этих мыслей у меня делалась гусиная кожа. А лица стариков за стеклом, с приплюснутыми носами, расплывались, потому что горючие слезы застилали мне глаза.
Маме звонит папин друг-подружка Джо. Этот американский гомосексуалист с коровьими моргающими глазами. Жалуется на папу. Тот ему, видать, изменяет. Ну и папашка у меня! Хоть и гомик, а порядочный кобель! Бедняжка Джо! Вот он и ищет утешения у бывшей жены своего любовника в надежде, что она замолвит за него перед папой словечко. Потеха! Как говорила в Москве бабушка Сима: сойти с ума и то мало!
Мама терпеливо выслушивает в трубке занудное поскуливание своего «соперника-соперницы», даже пытается утешить его по-английски с железным русским произношением, путая времена глаголов и опуская артикли. И обещает поговорить с папой, пристыдить его.
Б.С. нервно ходит по комнате, краем уха ловя обрывки этой задушевной беседы. Ему нужен телефон. И он злится.
– Да кончай ты, – говорит он маме в сердцах. – Пошли его в жопу!
И вначале сам не понял, какой он отвалил каламбур, отправляя гомосексуалиста в жопу. Я пришла ему на помощь:
– А ему только туда и надо!
Б, С. глянул на меня, аж разинул рот, когда до него дошло, и расхохотался, сотрясаясь всем своим огромным телом мужчины-быка.
Мы обменялись взглядами отлично понимающих друг друга единомышленников.
Мама ничего не расслышала, она все еще кудахтала утешения в трубку и поэтому не была шокирована.
У меня с прадедушкой Лапидусом свои тайны. Мы с ним играем в свои игры. Чтоб ни мои родители, ни дедушки с бабушками не слышали. А то бы прадедушке влетело за то, что он ребенку забивает голову всякой чепухой. Ребенок – это я. А всякая чепуха – это жизнь прадедушки Лапидуса, по которой можно лучше, чем по школьному учебнику, изучать историю России и революции. С той разницей, что прадедушка от меня ничего не утаивает, а в учебнике, как выражается моя мама, имеются большие пробелы.
– Старик впал в детство, – сокрушаются наши, видя, как мы с пра гуляем вдвоем и без умолку болтаем. – Что стар, что млад.
Они завидуют нашей дружбе. Потому что не умеют со мной разговаривать без сюсюканья, на равных. А пра Лапидус только такой разговор и признает.
Мы играем с пра Лапидусом в Красную Шапочку и Серого Волка. Я – Красная Шапочка, задаю вопросы, а он отвечает.
Как это в сказке?
– А скажи, отчего у тебя такие большие уши?
– Чтоб лучше слышать тебя.
Так в сказке. А в нашей игре немножко другой текст.
– А скажи, пра, за что ты сидел при царе?
– Потому что хотел свергнуть царя и установить советскую власть – власть рабочих и крестьян.
– А скажи, пра, за что ты сидел в тюрьме при советской власти?
– Честно сказать? Не знаю. Я только добра хотел советской власти.
– А скажи, пра, сколько ты сидел в тюрьме при царе?
– Два года и три месяца. По сравнению с советской эта тюрьма была как курорт. И охраняли нас так, – что даже ребенок мог бы сбежать. Вот я и сбежал, – чтоб свергнуть царя.
– А скажи, пра, сколько ты сидел при советской власти?
– Двадцать лет. От звонка до звонка. И если б Сталин не умер, не видать мне свободы никогда.
– А скажи, пра, тебя пытали в царской тюрьме?
– Боже сохрани.
– А скажи, пра, а в советской тюрьме?
– Охо-хо. Еще как, деточка. До сих пор косточки ноют.
– А теперь ты ответь мне, пра, зачем же было делать революцию и заменять царя советской властью?
– Спроси меня что-нибудь полегче, внученька. За что боролись, на то и напоролись. А ты будь умницей. Что я сказал
– запомни, но никому не говори. В школе на уроке отвечай по учебнику. Там точно сказано, как надо отвечать.
– Хорошо, пра. Я буду умницей. Честное ленинское! А то тебя за такие разговорчики снова погонят старенького в Сибирь.
Вот в такие мы игры играем с прадедушкой. В исторические.
На нашей даче в саду есть беседка. В самом конце сада. Старая беседка, трухлявая. Кустами обросла до крыши. Утонула в кустах. Там удобно хорониться, когда, мы, дети, играем в прятки.
Эту беседку облюбовали самые старые жители дачного поселка – старые большевики, которые уцелели после сталинских расстрелов и вышли на свободу еле живыми. Человек пять древних дедушек. Для моего поколения – прадедушек. Седых я лысых, сгорбленных, еле ноги передвигающих. Их при Сталине долго таскали по тюрьмам и били. Другие быстро умирали, а эти оказались самыми живучими. Они всех пережили. И царя, и Ленина, и Сталина. И даже Хрущева.
Самый знаменитый среди них мой пра.
При царе, когда готовилась революция, они, тогда совсем молодые революционеры, собирались в укромных местах, подальше от полиции и обсуждали положение.
Теперь при той власти, которую они сами установили и которая им за это заплатила тюрьмой и Сибирью, они снова собираются в укромном месте и там шепчутся. Чтоб никто не слышал.
Это укромное место-наша беседка. А нас, правнуков, просят постоять в саду на часах и при появлении опасности, например постороннего человека, дать им условный сигнал. Они тогда прикусят язык и умолкнут. И станут себе играть в домино, как ни в чем не бывало.
Нам, детям, поначалу нравилась такая игра. Мы чувствовали себя, как те юные революционеры, которые совершали подвиги в царское время, приближая час революции. Как об этом мы читали в детских книжках. И стояли на часах и следили за всеми дорожками. Нет ли посторонних. Посторонними считались даже наши родители.
Мой отец сказал однажды, видя, как старики ковыляют к беседке:
– Старые болтуны? Не могут успокоиться! Сибирь их не остудила!
Хорошо, старые большевики были глуховаты, им при допросах слух отбили, и не слышали папиных слов, а то обиделись бы.
А зачем обижать стареньких?
Вот и я не хотела обижать. Думала лишь пошутить. Мне скучно стало наблюдать за прохожими, и я тихонько подкралась к беседке, раздвинула ветки, а там седые и лысые головы склонились друг к другу и шамкают беззубо. Что-то вроде:
– Идеалов нет… Всю Россию разворуют… От революции запаха не осталось… Тирания…
А я как гаркну грубым мужским голосом:
– Руки вверх!
Я ведь только пошутить хотела. А получилось такое! Один старый большевик, как младенец, в штаны наделал, а другого отпаивали валерианкой. Слава Богу, никто не умер. Закаленный народ.
Сол Лэп – родной брат моего прадедушки Лапидуса. Младший брат. И хоть он моложе и не сидел в тюрьмах при царе и при Сталине и не воевала гражданскую войну, а уехал совсем еще несовершеннолетним в Америку и всю жизнь занимался только одним – делал деньги, выглядит он хуже моего прадедушки. Тот – сухой, кожа и кости. И все суетится, бегает. Энергии – хоть отбавляй. А этот какой-то одутловатый, словно у него водянка. И глаза тусклые-тусклые. Такие бывают у очень старых собак.
Должно быть, не такой уж у него был сладкий кусок хлеба. Как сказала бы бабушка Люба, которая осталась в Москве. Жизнь капиталиста, даже миллионера, тоже не усеяна розами. Как сказал бы мой папа – бывший лектор общества «Знание», который живет в Нью-Йорке, но не с нами, а отдельно. И не совсем отдельно. А со своим напарником Джо. Потому что они оба – го-мо-сек… Дальше не нужно договаривать.
Сол Лэп – это по-английски. Он переделал свое имя на американский лад. В России, откуда он приехал с дыркой в кармане, его звали Соломон Лапидус. Ну, что ж. Лэп – так Лэп. Сол – так Сол. В чужой монастырь со своим уставом не лезут.
Он не совсем забыл русский язык. Но допускает иногда очень смешные ошибки. Должно быть, американцам также хочется смеяться, когда я говорю по-английски.
Со мной он разговаривает только по-русски. Чтобы вспомнить язык. И по-моему, даже любит меня. По крайней мере, из всей американской родни он – самый теплый.
Но странный. Я все время изумляюсь, когда бываю с ним. У него богатый дом. И на стенах висят картины, подобные которым выставлены в лучших музеях. Цена им – уму непостижима. Миллионы.
В первый раз, когда я была у него в гостях, спросила:
– Дедушка, кто у тебя висит в гостиной?
– А, – отмахнулся он. – Какие-то европейцы.
А эти европейцы оказались, когда я их рассмотрела: один – Гоген и два – Матисса.
Мы в Москве часами простаивали в музеях перед их картинами, млели от наслаждения. Всей семьей. И даже прадедушка Лапидус стоял очень близко и щурился. И у него текли слезы.
А его единокровный брат Соломон в Нью-Йорке даже ухом не ведет на эту красоту. Хотя она висит у него дома, а не в музее. Для него, бедного, нет красоты. Матисс и Гоген – лишь хорошее капиталовложение. Они не падают в цене, как доллары. А наоборот, все время растут. Ну, чем он отличается от моего учителя в ешиве, раввина Моргенштерна? Который на уроке литературы про Шекспира сказал, пожав плечами:
– А-а, этот гой…
Однажды мы ехали с Солом в такси. Он машину не водит из-за старости и вызывает такси, когда ему нужно. За рулем сидит негр. Когда мы приехали, Сол посмотрел на счетчик, разбирая цифры, и, когда платил, попросил с последнего доллара пятьдесят центов сдачи. Шофер очень неохотно, не скрывая своего презрения, отсчитывал ему сдачи по пять центов. Даст монетку – и тянет. И смотрит. Язвительно и высокомерно. Сол сидит с протянутой ладонью и ждет.
Как нищий. Я даже покраснела от унижения. И прошептала ему на ухо. По-русски:
– Хватит! Мой папа дает на чай доллар!
Сол покосился на меня и ответил по-русски:
– Поэтому твой папа будет всегда голодранцем. А я – миллионер.
– Скажи, Сол, – спросила я его как-то, когда никого рядом не было и мы могли поговорить наедине – он был со мной откровенней и теплей, когда мы оставались без чужих глаз и ушей. – Что бы ты сделал, если б был ужасно голодным, а сам вез целый эшелон хлеба?
– Почему я должен быть голодным? – заблестел своими водянистыми глазками Сол и стал сразу похож на своего брата, моего прадедушку Лапидуса. – И с какой стати я повезу целый, как ты выражаешься, эшелон с хлебом? Хлеб возят люди, которые этим занимаются. А у меня совсем другой бизнес.
– Забудь на минуточку слово «бизнес» и представь, что ты в России, а там революция и голод…
– Зачем мне это представлять? – не понимает меня мой американский родственник – миллионер Сол Лэп. – У меня от таких мыслей поднимается давление. Я же, деточка, был умнее твоего прадедушки и бежал из России до революции и до голода…
– А знаешь ли ты, – сказала я ему с вызовом, – что прадедушка, которого ты умнее, во время голода вез в Москву эшелон с хлебом, а себе не позволил всю дорогу лишней крошки в рот положить. И когда пришел к Ленину, в Кремль, доложить, что хлеб доставлен, упал на пол – у него был голодный обморок.
– Да-а… – задумался брат моего прадедушки, и я все ждала, что в его водянистых глазках вспыхнет гордость от услышанного, но не дождалась.
– А как его Ленин за это отблагодарил? Посадил в тюрьму?
– Не Ленин, а Сталин посадил его.
– От этого твоему прадедушке легче не было.
– Нет, но ты ответь мне, смог бы ты сидеть на хлебе и голодать?
– Сумел ли бы я? Не знаю. Не пробовал. Но то, что не стал бы, знаю точно. Быть праведником в наш век – невыгодный бизнес. Расходы не окупаются.
– Замолчи! Несчастный бизнесмен! – закричала я на него как на маленького.
А он, так ехидно улыбаясь, ответил:
– А ты, Олечка, все еще коммунист. У тебя ко мне классовая ненависть.
– Я вас всех презираю. Все вы хороши.
– Красавица ты моя, – обнял меня Сол. – Узнаю характер моей мамы. Унаследовала через три поколения..
О том, что я не такая, как все, а еврейка, я узнала поздно. В семь лет. Когда училась в первом классе. До этого времени мама с папой и вся дружная стая дедушек с бабушками мужественно ограждали меня от низкой прозы жизни. От близкого знакомства с национальной проблемой в такой прогрессивной стране, как СССР.
Наша учительница Мария Филипповна, деревенская баба с красными большими руками и круглыми глупыми глазами, как у подаренного мне ко дню рождения кукольного мопса из ГДР, решила объяснить нам, неразумным, что такое дружба народов СССР, в какой чудесной многонациональной семье народов нам посчастливилось родиться и жить. Беспрестанно улыбаясь и открывая металлические зубы, она стала нам демонстрировать свои мысли на живом примере, то есть на нас самих.
– Иванов, Телятников, Софронова… – она насчитала еще с десяток ребятишек и велела им:
– Встаньте!
Когда они встали из-за своих парт, не понимая, за что их выделили, и пытаясь припомнить, не нашалили ли они на перемене, за что их собираются теперь наказать, Мария Филипповна умиленно сказала:
– Вот эти дети, которых я назвала, – русские. Представители великого русского народа. Так сказать, старшего брата в семье других равных народов.
Я не поняла, к чему она клонит и почему, например, Федя Телятников – старший брат, когда он на месяц моложе меня. Я была у них дома на дне рождения.
– А теперь я попрошу встать, – сияя, как начищенный самовар, пропела Мария Филипповна и стала перечислять фамилии, среди которых моей не оказалось снова. – Вот эти дети – украинцы. Украинская республика входит в состав Советского Союза, как одна из пятнадцати республик-сестер.
Потом она подняла мальчика и девочку и назвала их татарами, потом – грузина-мальчишку и армянскую девочку.
– Уже весь класс стоял. Дружная семья советских народов. Братья и сестры. Одна я сидела. Мария Филипповна сделала паузу, и пока она молчала, меня стало подташнивать. У меня даже сердце запрыгало. А кто я? Кем прихожусь им? Двоюродной сестрой? Или троюродной? А может быть, я вообще чужая? Чужероднее тело? Пришелец из космоса?
Весь класс, повернув, головы, косился на меня, ожидая с любопытством, куда же учительница пристроит меня.
– Встань, Оля, – уже без вдохновения, уставшая, пока остальных представляла, сказала Мария Филипповна. – А вот Оля, дети, – еврейка.
Что такое еврейка, я не знала. Хорошо это или плохо? И почему не такая, как большинство детей в классе? Почему меня назвали самой последней? Ведь я учусь лучше других. И нас только двое самых лучших. Я и Федя Телятников. Почему? Почему?
Слово «еврейка», которое я услышала впервые, как ножом полоснуло меня по сердцу. Еще ничего не поняв, я нутром почуяла, что на меня поставили клеймо.
– Я – не еврейка! – крикнула я в отчаянии. – Я – москвичка.
И заплакала навзрыд.
Я своими глазами видела, как пытают. И слышала крик истязуемого.
До того только по кино знала, что это такое. Да еще по рассказам пра Лапидуса, который несмотря на строгий запрет моей матери: «ребенок будет плохо спать после таких историй», когда мы оставались одни, рассказывал мне, как его пытали на допросах при Сталине.
– Чтоб правда не умерла, – оправдывался пра. – Ты передашь ее следующим поколениям.
И вот мне самой привелось быть свидетелем пытки, и лишь тогда я поняла, всем своим существом ощутила, как это страшно.
Мы проходили таможенный досмотр в московском аэропорту. Когда навсегда покидали Россию.
Весь наш багаж перерыли и, оставили наши вещи в открытых чемоданах, вещи, которые мама перед дорогой всю ночь гладила утюгом и аккуратно укладывала, взъерошенным комом. Словно искали у нас запрятанные среди юбок и свитеров бриллианты или контрабандную литературу. Это при том, что у нас не только на бриллианты, на билеты еле хватило денег. А уж о подпольной литературе чего говорить? Мама такая трусиха, обходит политику за версту.
Но это еще полбеды. Таможенникам положено рыться в вещах. А деликатность не входит в их обязанности.
Страшно стало, когда маму и меня увели в отдельную комнату, закрыли двери и две строгие бабы с деревенскими лицами, но в форме таможни, обе, как сестры, похожие на мою учительницу Марию Филипповну, стали проводить личный досмотр.
Маме велели раздеться догола. Она растерялась, покраснела, но не стала перечить. Сняла пальто, потом туфли, потом кофточку, потом юбку и складывала все на стул.
Обе бабы в форме смотрели на нас тусклыми рыбьими глазами, и, хоть в комнате не было ни одного мужчины, мама смущалась все больше и больше, виновато смотрела в пол. Ей велели снять все остальное. И мама совсем растерялась. Как прибитая. Трусики и бюстгальтер уронила на пол и не подняла. Ладонями прикрыла груди.
У меня закипели слезы, кулаки сжались от гнева. Я сразу вспомнила кинофильмы про фашистские лагеря смерти. Вереницы голых женщин у входа в газовые камеры.
Меня охватил ужас. Показалось, что эти бабы сейчас рявкнут что-нибудь на немецком языке, и моя безвольная, пришибленная мама пойдет туда, где уже выстроилась очередь голых женщин. Лишь жалко улыбнувшись мне на прощанье.
Честное слово, у меня зашевелились волосы на голове. К счастью, меня не стали раздевать, а только ощупали чужими гадкими руками. А то я не знаю, что бы сделала! В любом случае, был бы скандал.
Но все это лишь цветочки, ягодки были впереди. Одна из этих тварей увидела у меня в руках мишку. Рыжего плюшевого медведя с янтарными круглыми глазами, в которых всегда вспыхивал огонь, когда солнечный луч попадал на них. Старенький, даже плешивый от моих объятий, медвежонок. И не только от моих объятий. Его тискала в детстве моя мама. А до нее бабушка Люба, когда была еще ребенком. Медведь-ветеран, верно служивший трем поколениям и сейчас покидавший Россию вместе со мной, как член семьи, чтобы, когда-нибудь, когда у меня появятся дети, стать их любимой игрушкой.
Из всех игрушек, богатых и нарядных, я отдала предпочтение ему, когда мама сказала, что я должна выбрать что-нибудь одно. Мишка был такой родной, такой потертый и облезлый, как живой. Он был говорящим медвежонком. Стоило его наклонить, как внутри, в его брюхе раздавалось недовольное медвежье рычанье. А когда я его брала с собой в постель и, засыпая, крепко прижимала к себе, он начинал ласково урчать.
Он мне был как младший и любимый братик и, я могу поклясться, единственным, кто понимал меня в нашей семье. Если не считать прадедушку Лапидуса.
Однажды меня наказали за что-то и оставили одну в комнате. Я сидела на полу и ревела в три ручья. Мишка сидел в углу и пялил на меня свои грустные янтарные глаза.
– Никто меня не жалеет, – горько пожаловалась я ему.
– А я? – спросил Мишка.
Честное ленинское! Клянусь! Я к нему не приблизилась, не коснулась рукой, не пошевелила. Он сам издал этот звук.
– Тебе померещилось, – отмахнулась от меня бабушка Люба, когда я ей рассказала об этом.
– Звуковая галлюцинация, – сказал дедушка Лева. – Ребенка надо отвести к врачу.
А мой умный папа-лектор общества по распространению поли– тических и научных знаний, сказал авторитетно:
– Неразгаданные тайны природы,.
Я обиделась на них, прижала Мишку к груди и сказала ему в мохнатое ушко:
– Пойдем отсюда, миленький. Нас здесь не понимают.
И он согласно заурчал.
И вот в аэропорту эти две таможенные бабы с рыбьими глазами увидели моего Мишку и попросили, чтоб я им его показала. Я, ничего худого не подозревая, протянула его им. Баба взяла его в свои ручищи, а другая достала из сумки длинную вязальную спицу и, как штыком, проткнула медвежонка насквозь. Как мне потом объяснила мама, таким путем проверяли, не зашиты ли в мишкином брюхе посторонние предметы.
Это мне мама объяснила потом. Но тогда у меня глаза полезли на лоб. Моего живого, теплого Мишку, не способного защищаться, эти чудовища колют, протыкают железной спицей.
При очередном уколе Мишка не выдержал и издал хриплый болезненный стон. Как от жуткой боли.
Дальше я ничего толком не помню. По рассказам мамы, мое лицо налилось кровью, я сорвалась с места, вцепилась бабе со спицей зубами в руку так, что она уронила спицу и взвыла не своим голосом.
Прибежали другие таможенники. Полная комната. Хотели составить протокол о нападении на представителя таможенных властей при исполнении служебных обязанностей.
Меня спас мой возраст. Таких не сажают по политическим статьям.
– А то было бы здорово! Я была бы самой юной политической заключенной, и во всем мире прогрессивное человечество устраивало бы демонстрации протеста и било бы стекла в окнах советских посольств. А уж как гордился бы мной прадедушка Лапидус – старый политический каторжанин, сидевший при всех властях. Яблоко, мол, от яблони недалеко падает.
Жил на свете человек и любил всех людей одинаково. Был интернационалистом. И оттого у него было радостно на душе и взирал он на род людской с доверием и улыбкой.
А потом воспитатель подрастающего поколения, педагог с дипломом, член коммунистической партии, дура непроходимая Мария Филипповна открыла ему глаза на мир, рассказала про дружбу советских народов, и свет погас в его очах и мир стал серым и неуютным.
Меня отпаивали валерианкой, надо мной кудахтали бабушки и дедушки, папа и мама лезли из кожи вон, чтоб успокоить мой встревоженный умишко, приучить меня к тому, что я не как все, а – еврейка, что с этим тоже можно жить. Как живут до старости с наследственной болезнью. Не очень хорошо живут, но все же живут. Не умирают.
Мне объясняли вперемежку с успокоительными каплями, что евреи не такие уж плохие люди. А совсем наоборот. Например, мама с папой. Разве они нехорошие?
Я согласно кивала, тряся мокрыми зареванными щеками.
А бабушка Люба? А дедушка Лева? А прадедушка Лапидус? Даже Карл Маркс – вождь мирового пролетариата был евреем. Эта новость подействовала лучше валериановых капель. Во мне пробились первые ростки национальной гордости.
А когда мама сообщила мне, что моя любимая подружка из соседнего подъезда Инесса, по кличке «Инесс-Баронес», тоже еврейка, сладкий яд национализма разлился по моим жилам.
– Мы лучше всех других людей! – твердо решила я и отныне стала смотреть на весь остальной мир свысока, презрительно прищурив глаза.
Я узнала, что наши враги, именуемые антисемитами, изображают нас длинноносыми, с торчащими ушами, эдакими жалкими подленькими созданиями, сосущими кровь из всего человечества.
У меня короткий нос и серые глаза. У папы – тоже. И у мамы. Идиоты эти антисемиты. Много они понимают. В нас, евреях.
Теперь уж, когда я шла по улице или ехала в метро, больше не улыбалась всем подряд, а старательно искала среди множества лиц одно, с еврейскими чертами. И одаривала улыбкой только это лицо. Ничего, мол, держись! Мы с тобой один народ, а остальные
– пусть живут сами по себе.
Иногда я вваливалась домой с прогулки и ошарашивала домашних радостной новостью:
– Сейчас мне попался на улице один еврей! Длинноносый! Уши торчат! Я залюбовалась им! Он был самый красивый среди всех… этих… остальных.
Старшим становилось неловко от моих восторгов. Они отводили глаза и вздыхали. А пра Лапидус качал своей серебряной головой.
– Стоило после этого делать революцию и положить столько жизней за равенство и братство.
У Б.С. есть приятель-американец. Коллега. Врач. Он, видать, славный человек и хорошо относится к Б.С. Старается поддержать его морально в нелегкой битве, которую ведет Б.С. за американский медицинский диплом. Б.С. лезет из кожи вон, буквально грызет зубами гранит науки на чужом языке, и на очередном экзамене срывается, падает вниз. Трудно почти в пятьдесят лет снова учиться.
Этот американец, по имени Сэймур покровительствует нашему незадачливому великовозрастному ученику. Бывает у нас в гостях, увозит к себе на Лонг-Айленд. Б.С. прихватывал и нас с мамой, и мы гостили у Сэймура в его двухэтажном доме, сидели у горящего камина, жарили шашлыки во дворе.
Все это делали взрослые. А меня спроваживали к сыну Сэймура, которого звали Ларри. Такой же, как отец, славный мальчишка. На год моложе меня. Физически. А умственно, по знаниям, вдвое.
Я себя уже чувствую женщиной. Меня волнует близость мужчины. А Ларри – рослый, крепкий, мускулистый. У него, как в кино, крутая челюсть, хороший профиль. И я чувствую, как у меня пылают щеки, когда он близко наклоняется ко мне. А он, как дитя. И в ус не дует. Ничего не чувствует. Толкает, – хватает меня руками, как мальчишка, сексуально абсолютно «спящая красавица». Проснется попозже. И тогда – держись, девчонки. Ох, и поплачут из-за него женщины. Этот сердцегрыз не одну сведет с ума.
Не поплачут из-за Ларри женщины. Рыдает лишь одна женщина. Его мама. Да и моя немножко. И я не удержалась от слез.
Ларри внезапно умер. Так и не став красавцем мужчиной, каким он обещал быть. Случилось нечто чудовищное, уму непостижимое. Его свалила какая-то болезнь, от которой нет спасения. Лучшие врачи и лучшей больнице Нью-Йорка-коллеги его отца-дрались за жизнь Ларри. И оказались бессильны.
Ларри потерял сознание и больше уже не приходил в себя. Он впал, как говорят медики, в коматозное состояние. Это уже почти смерть. Его подсоединили к специальной машине, которая за него дышала и еще чего-то делала, чтоб поддержать искру жизни в его бесчувственном теле.
Мать и отец не отходили от мальчика. Б.С., хоть еще не имеет американского диплома, тоже не вылезал из больницы. Сэймур очень уважает его медицинский опыт и талант и попросил его дать свое заключение. Б.С. хотел бы сказать что-нибудь утешительное, но, как и американские врачи, никакого спасительного выхода не увидел. Даже если мальчик чудом не умрет, он обречен быть идиотом, растением, а не человеком.
И тогда Сэймур, отец Ларри, потребовал, чтоб отключили от сына машину. То есть умертвить его. Убить.
Когда я об этом узнала, со мной сделалась истерика. Я выла в потолок, как ненормальная.
Хладнокровно решили убить человека. Родной отец. И Б.С. со своими знаниями и талантами.
Я не поехала на похороны. Я не хотела видеть его родителей. И их знакомых врачей.
Моя мама тоже не поехала. Поехал Б.С., ласково и покровительственно похлопав меня по плечу:
– Это жестоко, но разумно. Если бы удалось сохранить Ларри жизнь, он бы этого даже не ощутил. А для родителей был бы сплошной кошмар. Кому же от этого польза?
– Польза? – закричала я. – Какое гадкое слово! Не произносите его при мне.
– Никуда не денешься, милая, – сказал Б.С. – Тебе еще не раз придется с ним сталкиваться в жизни.








