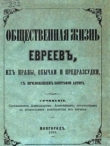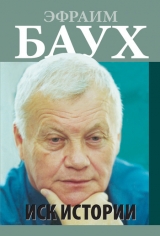
Текст книги "Иск Истории"
Автор книги: Эфраим Баух
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
А пока над Европой 43-го года стынет безвременье.
Вершится нацистское Vernichtung – «изведение в Ничто».
Небо безоблачно и безветренно. Только и стоят дымы из труб крематориев: народ Израиля уходит в небо.
И все же в каких-то щелях гибельной тотальности затаились до времени, сами еще того не зная, одиночки, которым предстоит сказать истину об этой бездне.
На самом востоке-владивостоке бездны бродит тень неизвестно где похороненного человеческого существа в слабом колебании уже растворяющегося в беспамятстве имени – Осип Мандельштам. Но именно благодаря ему История, очнувшись от глубокого обморока, придет к пониманию, что она, История, не просто отчаянная попытка мира не потерять свою память, а, главным образом, исповедь, предупреждение и воздаяние.
На западе бездны глубокий старик, великий французский философ еврей Анри Бергсон погибает в преддверье концлагеря.
Мой отец, в 30-е годы учившийся на юридическом факультете в университете в Гренобле, ибо как еврей был изгнан из университета в Румынии, возвращается в это позорно антисемитское государство, в сороковом с восторгом встречает Красную армию, пришедшую в Бессарабию, через три года погибает в хаосе бойни под Сталинградом.
В 20-30-е годы многие молодые евреи покидали Восточную Европу, чтобы учиться в университетах Франции, Германии, Бельгии.
Сверстник отца, покинувший Каунас, чтобы учиться на философском факультете Страсбургского университета, Эммануэль Левинас в 30-м остается во Франции, принимает французское гражданство. После капитуляции Франции, как военнопленный, сидит в лагере.
Где-то посреди этой бездны, в концлагере у села Табарешты, на юге Молдавии, молодой, двадцатидвухлетний еврей из Черновиц Пауль Лео Анчел копает землю и копает, и землистый цвет депрессии не сходит с его лица. Чудом выжив среди этого кошмара, уцелев благодаря случайности, он еще не знает, что родители его находятся в концлагере у села Михайловка на реке Буг, что матери его пустили пулю в затылок.
Он из Буковины, страны буков – Buchenland, которая тянется на запад, переходя в буковый лес – Buchenwald.
Тут рукой подать до Тодтнауберга (Мертвой горы). А там, среди этого пространства тотальной гибели, в пасторальной тишине леса, гуляет по столь торжественно им воспетой «лесной просеке» Мартин Хайдеггер. Гуляет и размышляет, как ни в чем не бывало, о классической немецкой философии и поэзии.
Он, общающийся лишь с великими – Гете и Гельдерлином, соизволит встретиться с Паулем Анчелом через два десятилетия после того, как Анчел в начале 1945-го пересечет советскую границу. В тот год через Черновицы какое-то время выпускали евреев. Не задерживаясь в традиционно антисемитской Румынии, Анчел переберется в Вену, где в 1948 году выпустит на немецком языке, который, наряду с румынским, был его родным языком, свою первую книгу стихов «Песок из урн».
Опубликованная в этой книге «Фуга смерти», воистину великий реквием погибшему в «бездне Шоа» народу Израиля, мгновенно переведенная на многие языки и по сей день потрясающая мир, вознесет Пауля Анчела на едва приходящий в себя европейский Парнас. Расколов свою фамилию надвое и переставив слоги, Ан-чел на Че-лан, по-немецки – Zelan, по-французски – Сеlаn, он и станет Паулем Целаном.
Это он, поэт Пауль Целан, вместе с философом Эммануэлем Левинасом, удостоятся судьбой сказать истинное слово о «бездне Шоа-ГУЛаг», найти идею существования и его язык «после Аушвица».
Именно им будет дано подступиться к чудовищной логике этой бездны, ступить в ее оголенное пространство по лезвию безумия, сохраняя душевное равновесие, в случае с Левинасом, или отступить в забытье, в безмолвие, до пресечения собственной жизни, в случае с Целаном.
Философ ощущает ответственность перед Историей.
Поэт несет ответ лишь перед собственной душой.
Для души, прошедшей ад, не существуют знаки препинания, препоны точек.
Запятые идут на попятную.
Все распалось. Сплошной безмолвный крик. Вариации как повторение смерти.
Контрапункт гибели вместо пунктуации.
«Die Todesfuge»
(перевожу с оригинала)
Фуга смерти
Черный напиток вне пыток
мы пьем его на ночь мы пьем его в полдень и утром мы пьем
его ночью
мы пьем его пьем
копаем могилу в разлете ветров там не тесно лежать
в доме живет человек забавляется змеями пишет письмо
в сумерках пишет он в Дойчланд волос твоих золото
Гретхен
спускается вниз при мерцании звезд спускает собак
свистком созывает жидов копайте могилу в земле
играйте и пойте
Черный напиток вне пыток мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя утром и в полдень мы пьем тебя на ночь
мы пьем тебя пьем
в доме живет человек
забавляется змеями пишет письмо в сумерках пишет он
в Дойчланд
волос твоих золото Гретхен
пепел волос твоих Шуламит
мы копаем могилу в разлете ветров там не тесно лежать
он рявкает глубже копайте лентяи пляшите и пойте
он пальцем голубит металл пистолета глаза у него голубые
поглубже копайте живее играйте веселый мотив
Черный напиток вне пыток мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя в полдень и утром мы пьем тебя на ночь
мы пьем тебя пьем
в доме живет человек волос твоих золото Гретхен
змеящийся пепел волос твоих Шуламит он змей приручает
кричит понежнее играйте про смерть
смерть это старый немецкий Гросс Мейстер
кричит он касайтесь сумрачней
скрипок взмывайте смелее ввысь
к могилам в разлете ветров
там не тесно лежать
Черный напиток вне пыток мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя в полдень
мы пьем тебя утром и на ночь мы пьем тебя пьем
смерть это старый немецкий Гросс Мейстер и глаз у него
голубой
пулей настигнет тебя он стрелок преотличный
в доме живет человек волос твоих золото Гретхен
он свору спускает нам дарит могилу в разлете ветров
мечтательно змеями кружит он смерть это старый немецкий
Гросс Мейстер
волос твоих золото Гретхен
пепел волос твоих Шуламит
У Пауля Целана после всего пережитого – устойчивая неприязнь к тоталитаризму. В Австрии еще находятся советские войска, и Целан перебирается во Францию, благо в кающейся Европе в те годы еще царит особое расположение к оставшимся в живых евреям.
После всего, что с ним случилось, Пауль Целан не может найти себе места. Внутренний зов души встречается с самим собой – нисходящим с высот. Называется это верой. Но небольшой сдвиг обозначает, быть может, более важное слово – «верность» – верность этой вере. Цена этой верности высока: унижения, гонения, одиночество. Выдержать ее трудно, извериться («Где Он был, когда...») еще труднее. Зов этот изводит душу болью, может извести из жизни.
Целан мечется по Европе. Встречается с Хайдеггером, не в силах понять молчание того по поводу Шоа. Разочарован филистерством великого философа, воистину живущего в Мертвой горе (место жительства Хайдеггера – Тодтнауберг).
...В полете сов
здесь серость слов
как в полдень след грунтовых вод...
В мае 60-го встречается в Цюрихе с Нелли Закс, которую зовет «сестрой». По несчастью. Она для него источник еврейской мудрости, она ему советует посетить Израиль.
В сентябре того же года Целан сразу же после того, как вернулся из Стокгольма, где вновь пытался встретиться с Нелли Закс, после всего ею пережитого в «бездне Шоа» впавшей в помешательство и не желающей его принять в клинике, посещает восьмидесятидвухлетнего Мартина Бубера, живущего в Израиле и временно находящегося в Париже.
Целана гложет сомнение: имеет ли право еврей писать на языке убийц?
Старик, лично не переживший Шоа, то ли не понимает этого сорокалетнего человека, прошедшего ад, который Бубер и представить не может в свои 82, то ли притворяется, что не понимает. Во всяком случае он считает делом вполне естественным – «простить» и спокойно издаваться на немецком и дальше. Проглатывая обиды от всех этих столь неудавшихся встреч, Целан размышляет над ними, пытаясь найти то, что их объединяет.
У Хайдеггера есть такое понятие – «второй горизонт» (у Целана – «второе небо»), обозначающий не пространство, а время – будущее. Приблизившись к этой линии неба, мы тотчас видим новую дальнюю линию, как бы стирающую старую.
Но все дело в том, что прошлая линия, как отрицание, остается в нашем зрении «слепым пятном», присутствующей второй линией неба. Эта слепая линия неба жестокого прошлого, отчетливой болью живущая в душе Целана, для Хайдеггера, да и Бубера является всего лишь – пусть выдающейся – теоретической находкой. Нелли Закс ни первое, ни, тем более, второе небо не смогло защитить от безумия.
Все это Целан выражает в коротком стихотворении, уже предвещающем будущие его криптограммы.
...Над всей
тоскою твоей
нет неба второго
В тысячесловии
я потерял мое родное
что осталось со мною
Сестра
В многобожии
идолов огня
я потерял то слово
одно что искало меня
Кадиш
Сквозь шлюз просочиться
должен я снова
назад в слово
в соленый раствор
чтоб выбраться и перебраться
Изкор...
«Кадиш» читают по одному умершему, «изкор» – по целому погибшему народу.
Одиночество и неотступающую боль души не может излечить настигшая его литературная слава – статьи и монографии о его творчестве, публикующиеся и Германии, Румынии, Израиле. Каждая из этих стран считает его своим. Еврей, родившийся в Румынии, пишущий на немецком. Он удостоен престижной германской премии имени Георга Бюхнера.
Но после смерти Нелли Закс единственным духовно близким и в значительной степени вдохновителем его творчества становится Осип Мандельштам.
Свободно владеющий русским языком, Пауль Целан блестяще переводит на немецкий язык Есенина, Блока. Но глубинной линией, множеством аллюзий, образов, метафор, обращений и посвящений в его стихах присутствует Мандельштам.
В книге стихов Целана «Роза никому», начиная с названия и до конца, шествует, уходит и возвращается Мандельштам, втягивая за собой в стихию книги Андрея Белого и Марину Цветаеву, самоубийство которой не дает покоя Целану. Преуспевающий поэт в европейской Мекке литературы – Париже, вечный узник «бездны Шоа». Пауль Целан через пространства и время жизни, ставшее в момент гибели того, другого, вечностью, протягивает руку и саму свою жизнь узнику той же бездны, пусть и с другим названием – ГУЛаг, единственной, родственной в мире душе – Осипу Мандельштаму.
Что это за название книги – «Роза никому»? Из каких ассоциаций вытягиваются эти два слова?
Название навеяно стихотворением Мандельштама «Дайте Тютчеву стрекозу – догадайтесь почему! Веневитинову – розу. Ну, а перстень – никому». Перстень-то из пушкинского стихотворения «Талисман» с выгравированным в нем на иврите именем владельца, которое Пушкин принял за магические каббалистические знаки.
Мы-то все время ищем объяснения в языке русском, забывая, что Целан существует в немецком. Пути мировой поэзии неисповедимы.
Впервые, в 1977-м, оказавшись в Иерусалиме, почему-то вспоминаю стихи о розе Райнера Мария Рильке «...Странно ли под столькими веками быть ничьим сном?» Так, по ассоциации, у меня в то мгновение возник образ: Иерусалим – под столькими веками – сон Господа.
Образ розы, вытягивающийся на долгом стебле из немецкого средневековья вагантов, уже в двадцатом году (год рождения Целана) смутно вплетается в трагическое предчувствие Мандельштамом собственной судьбы:
Сестры – нежность и тяжесть – одинаковы ваши приметы.
Медуницы и осы тяжелую розу сосут.
Человек умирает. Песок остывает нагретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.
Ах, тяжелые соты и нежные сети,
Легче камень поднять, чем имя твое повторить!
У меня остается одна забота на свете:
Золотая забота, как времени бремя избыть.
Словно темную воду, я пью помутившийся воздух.
Время вспахано плугом, и роза землею была.
В медленном водовороте тяжелые, нежные розы,
Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела!
Это стихотворение, так совпадающее с мировосприятием Целана, ощущающего в груди неизбывную «тяжесть камня» бездны, не отпускающей душу на покаяние, можно увидеть как развернутый реестр метафор книги Целана – «тяжести и нежности», «медуницы-медянки» (змеиное, вплетающееся в мед), «черного солнца», «земли-чернозема» и, главное, «камня».
...Раскрывается камень
однажды близкий к вискам:
душа
ты бывала у каждого солнца
взорванного в эфире...
* * *
... Это тяжесть не та
что отпущена была на время
с тобою в твой час. Это другая.
Это тяжесть отслаивающая пустоту
что ушла бы с тобой.
Нет имени у нее как и у тебя.
Вы быть может
Одно и то же.
Быть может когда-то
Ты так назовешь и меня.
Одно стихотворение называется «Сибирское» (с легкой руки Целана по сей день в Европе уверены, что Мандельштам умер в Сибири, а не на Дальнем Востоке):
...На раннем солнце
свисал вороной лебедь
в тени стояло лицо
разъеденной щелью губ.
На ледяном ветру остался лежать
наручный бубенчик
с камешком белым твоим во рту.
И у меня в горле застрял
камень окрашенный тысячью лет
камень сердечный
мне тоже на губы садится медянка...
Целан видит Мандельштама то прозрачнокрылым мотыльком, висящим между дроком и камнем, то самого себя, вместе с Мандельштамом поющим «Варшавянку» (Мандельштам родился в Варшаве), вместе с ним читающим Петрарку «в уши тундре». В стихотворении о посещении цирка во французском городе Бресте впрямую звучит строка – «...Я видел тебя, Мандельштам». Фамилия эта – немецкая. Означает – «ствол миндаля». Вокруг «миндаля» Целан разворачивает целую феерию: «...потому что зацвел миндаль. Мандель. Мандель-сон... Но не льнет он, миндальник... Что ждет в миндалине? Ничто.., Твой глаз у миндалины ждет...»
Наконец – восьмистишие, в котором Целан жаждет слиться с духом, вечно живой тенью Мандельштама.
... Камень глыбой пал с высоты.
Кто проснулся? И я и ты.
Речь. Co-звезды. При-земли. Годы.
Породнились мы нищи и голы.
И куда ушло? Вот и стяжка
Нас двоих – уже вдалеке.
Сердце в сердце – везучие тяжко
И везущие налегке.
Знаменательно в судьбе Целана стихотворение «С книгой из Тарусы», посвященное Марине Цветаевой с ее знаменитой строкой «…поэты – жиды!» в качестве эпиграфа. Как бы косвенно, избегая и притягиваясь к парижским мостам, Целан пишет о том, что Ока не затекает под мост Мирабо (ему посвящено знаменитое стихотворение Гийома Аполлинера «На мосту Мирабо») и что «кириллицу, друзья, я перевез через Сену и Рейн». Он не может оторвать взгляда, гипнотически прикованного к столу, «на котором это свершилось».
Стол, назначенный поэту для творчества, может стать опорой ног, чтобы приподняться на кончиках пальцев и надеть на шею петлю.
Безумие бездны никогда и никуда не отпускает своих жертв.
Безумие «бездны Шоа-ГУЛаг», поглотив в 38-м Мандельштама, через тридцать два года догонит родственную ему душу.
Убегая от преследующего его удушья газовой камеры, убегая от пламени безвоздушной, бездушной стихии крематория, человек ищет спасения в стихии охлаждающей, в стихии водной.
Весенним вечером 1970 года Целан бросится в Сену с одного из парижских мостов и сразу камнем уйдет на дно. Близкие, пришедшие опознать тело, скажут, что погибший плавать не умел. Прыжок был явным самоубийством.
В Израиле, который он посетил однажды по настоянию Нелли Закс, но так и не решил остаться, его бы похоронили по иудейскому обычаю.
Тут же, на чужбине, он так и не избежал кремации.
Жене и сыну досталась кучка пепла, а дух ушел дымом к тому сожженному в печах народу Израиля, к которому он принадлежал всей своей судьбой и который воспел, если можно употребить это патетическое слово после Аушвица, в своем творчестве.
Глава восьмая
Дело Хайдеггера
Может ли философ быть хамелеономПо числу публикаций, исследований, монографий, оценивающих творчество этого философа с прямо противоположных позиций – крайней хулы или невероятной хвалы, – Мартин Хайдеггер выдерживает сравнение, быть может, лишь с Ницше или даже превосходит его. В год смерти Ницше, 1900-й, Хайдеггеру 11 лет. Последнему суждена долгая жизнь, покрывающая почти весь прошлый век (родился в 1889-м – умер в 1976-м).
Но вот что удивительно. Ницше, при всей парадоксальности, спонтанности, «танцующем» стиле, гораздо последовательней в своем творчестве, чем тяжело, а порой даже неуклюже размышляющий, медлительный Хайдеггер, до такой степени меняющийся в течение жизни, что кажется: поздний и ранний Хайдеггер – абсолютно разные личности.
Пожалуй, ни у одного из крупных немецких философов не отметишь такого существенного изменения пути, как у Хайдеггера: от ревностного католика – через протестантизм, феноменологию, «экзистенциальный атеизм» – к философии «живой жизни» с понятиями «почвы», «нации», приведшей его в ряды национал-социалистической партии. От последнего «преступного греха» он, в отличие от великого норвежца Кнута Гамсуна, поддерживавшего нацизм, осужденного и покрытого позором, отделался удивительно легко.
Первые публикации Хайдеггера, появившиеся в 1910-1911 годах в консервативном католическом журнале «Академик», представляют автора глубоко религиозным человеком, пишущим в духе послания папы Пия X в сентябре 1907-го, призывающего католиков бороться с «модернизмом».
Известный теолог Карл Брайг, один из преподавателей Фрайбургского университета, студентом которого является Хайдеггер, разносит в пух и прах Канта, по сути, протестантского мыслителя, который перенес надмирную веру в Бога во внутренний мир отдельного «я». Тот, кто служит этому «я», и есть – модернист.
Из целого ряда статей Хайдеггера тех лет наиболее интересна статья, посвященная книге «Ложь и правда жизни» писателя Йоханнеса Йоргензена, дарвиниста, натуралиста и, естественно, атеиста, обратившегося в католичество. Хайдеггер противопоставляет этого человека, осознавшего прежнюю ложь своей жизни, известнейшим в мире тех лет людям: осужденному за гомосексуализм английскому поэту и драматургу Оскару Уайльду, алкоголику и бродяге французскому поэту Полю Верлену, «сверхчеловеку» Ницше, босяку Максиму Горькому. К ним и обращены слова студента теологии Хайдеггера: «Мы видели: нашли ли великие «личности» счастье? Нет – лишь сомнение и смерть. Посмотрите на те шеренги свидетелей, уходивших в небытие, держа револьвер у лба. Значит, все они не нашли истины. Значит, индивидуализм есть ложная форма жизни».
В общем пафосе, воспевающем цель жизни как достижение теснейшего контакта «с богатейшими и глубочайшими источниками религиозно-нравственного авторитета», и вовсе не замечается фраза «высшая жизнь обусловлена гибелью низших форм». Правда, речь идет главным образом о растениях и животных, но формула «высшая жизнь» уже попахивает подсознательной тевтонской спесью.
Любопытная деталь связана с этими работами «католика» Хайдеггера при издании собрания его сочинений. В тринадцатом томе собраны все ранние работы философа, список которых назван исчерпывающим. Но обнаруживается, что целый ряд материалов из журнала «Академик» вообще не упомянут. Одни исследователи Хайдеггера находят в этих работах «зачатки» его причастности к нацистскому экстремизму 30-х годов. Другие считают, что якобы к этим работам он потерял интерес после «поворота» (не первого) от католичества к протестантству, который обозначился главным образом в 1918 году, с окончанием военной службы. Так или иначе, эти материалы Хайдеггер не включил в собрание сочинений.
А пока от статьи к статье незаметно обозначается изменение и движение к оправданному эгоизму личности, ставящей свой разум и этическое начало выше всех других интересов. Сказывается увлечение преподавателем, новым мэтром, «отцом феноменологии» Эдмундом Гуссерлем, его основополагающей статьей «Философия как строгая наука». Почти одержимый идеей истинной научной работы, Хайдеггер словно бы волной медленно уносится от берега католицизма.
Одержимость скорее похожа на агрессивность в доказательстве своих постулатов. Эта бойцовская черта характера Хайдеггера не раз его подводила и, как говорится, заставляла брать свои слова обратно. Радикальная критика была осознана им самим с годами как тактический прием, а не стремление к истине.
В Европе наступает июль 1914 года.
«Первые буквы слова «конец», написанные в итоге Российской империи, обозначены жарой и сухостью того лета, когда загорелось то, что тлело», – пишет в своей автобиографии «Жили-были» сын крещеного еврея и потому лишенный права быть офицером, в будущем один из оригинальнейших русских писателей прошлого века Виктор Шкловский.
Уже разверзлась пасть Первой мировой войны, а Хайдеггер, по горло погруженный в написание диссертации «Учение о суждении в психологизме», в ожидании доцентуры во Фрайбурге, уже откровенно высмеивает в письме к своему наставнику отцу Кребсу политику Ватикана, считающего, что «у всех людей, которым взбредет в голову иметь свои собственные мысли, должны быть вынуты мозги и заменены на итальянский салат».
В армию его призывают в 1915 году. Служит он до 1918-го. Но в эти, казалось бы, однообразные и тяжкие годы происходит немало важных событий в жизни Хайдеггера.
В октябре 1917 года немецкий философ еврей Пауль Наторп, который вместе с другим известным философом, также евреем, Германом Когеном представляет Марбургскую школу (оба этих имени знакомы нам по книге «Охранная грамота» Бориса Пастернака, занимавшегося у этих философов), интересуется в письме к Гуссерлю многообещающим молодым специалистом по философии средних веков Хайдеггером. И главным образом его конфессиональностью. Гуссерль отвечает, что не успел серьезно познакомиться с Хайдеггером, ибо последний «очень занят на военной службе». То есть, несмотря на службу, явно не на передовой, Хайдеггер продолжает читать лекции.
А пока жалобы Эдмунда Гуссерля в 1919 году, на еще дымящихся развалинах, кажутся подобными плачу пророка Иеремии на руинах Иерусалима:
«...Дело теперь не в спасении политического будущего Германии... С этим все кончено, и никто не надеется здесь даже на самое малое – спасение немецкой нации от полного физического и вместе с тем морального обнищания... Леденящее развитие болезни немецкой души и физическое истощение от уже едва выносимого голода порождает все новые приступы отчаяния... Эта война, наиболее всеохватывающее и глубочайшее грехопадение человечества во всей его обозримой истории, обнажила все господствующие идеи в их неясности и неподлинности, несказанную не только моральную и религиозную, но и философскую нищету человечества. И вот духовная нищета превратилась в нищету физическую, в свою очередь увеличивающую моральную нищету в ужасающей прогрессии».
Смерть вдоволь погуляла на европейских полях, «философские поля» же послевоенной Веймарской республики интенсивно засеваются семенами «жизни». Жизнь становится опорой новых мировоззрений. А раз это «жизнь», то мерилом ее служат субъективные переживания, а не аналитическое, строго рациональное продумывание проблем.
Против опасностей этой субъективности, которую Гуссерль называет психологизмом, он и борется всеми силами: «Кто спасет немецкий народ в его подлинном бытии?.. Кто сохранит непрерывность немецкого духовного развития?» Слова словно бы взяты из лексикона Хайдеггера, который появится у последнего лишь после 1925 года, и смысл его будет совершенно иной, чем у Гуссерля.
Гуссерль помнит Хайдеггера как своего ученика, последователя феноменологии, – до 1916 года. Но в продолжение 11 лет, с 1916-го по 1927-й, Хайдеггер не публикует ни одной работы. Вышедшая в 1927 году его, по сути, первая книга «Бытие и Время» («Sein und Zeit»), вобравшая в себя эволюцию воззрений мыслителя, ставшая событием в европейской философии и, кстати, посвященная «Эдмунду Гуссерлю в почитании и дружбе», для Гуссерля была полной неожиданностью.
Для нас же интересно, что самые первые страницы хайдеггеровской книги начинаются с обсуждения вопроса о забвении бытия. И тут же возникает вопрос: соседствует ли феномен забвения с феноменами молчания и замалчивания?
Гуссерль, создавший феноменологию в конце XIX – начале XX века, только в ней видит выход из невыносимой ситуации. Принципы феноменологии, без того чтобы вдаваться в сложности этой доктрины, требуют в данном случае хотя бы элементарного объяснения.
Принципы эти основаны на вере в присущую человеческому духу мощь идеального. И это не просто голое теоретизирование. Для Гуссерля важно спасти человечество.
Но можно ли себе представить, что в изверившейся, лежащей в руинах Европе кто-либо не посчитает безумием предлагаемое спасение через «чистые идеи», «чистое сознание»? А ведь единственно за ними Гуссерль признает абсолютное существование. Тем не менее Гуссерля радует, что «есть еще люди на этой мрачной земле. Если бы их не было, я бы все равно не пал духом и постарался бы построить их образно (эйдетически), будучи твердо убежден, что чисто поставленные идеи должны произвести соответствующих им живых людей».
По Гуссерлю, культура не может сама себя излечить после тяжелейшего кризиса. Для этого необходимо усилие. И врачевание может быть только с помощью строгой науки, априорно основанной на идеях (феноменах), – феноменологии. Ведь в каждой земной вещи и каждом живой сущности просвечивает ее идея. Именно после страшной войны, когда человек по макушку погрузился в собственную потерянность, начисто отлучившись от морали, спасти может лишь этический идеал.
«...Третий семестр, с тех пор как распустили войска, я вновь читаю перед... переполненными аудиториями. Гунны возвратились с полей – и что за гунны! – пишет Гуссерль. – За 30 лет у меня не было такой аудитории, движимой такой голодной тоской по идеалам, столь всерьез устремленных, столь сильно жаждущих религиозно-этического импульса, исполненных тяги к строгой... научно основательной философии и такой ненависти к фразе... и всякой кажимости».
Единственным идеалом, по Гуссерлю, для преобразования жизни – индивидуальной, общественной, жизни отдельной нации и всего, в данном случае европейского, человечества – является этический идеал.
Отсюда начинается и молодой Эммануэль Левинас со своим первым философским сочинением «Теория интуиции в феноменологии Гуссерля» (1930).
Этот беспримерный, беспримесный гуссерлианский идеализм в жестокое время человеческой опустошенности – удивителен.
Против него ополчаются серьезные мыслители, среди которых и выдающийся русский философ Лев Шестов (Шварцман), с Гуссерлем, кстати сказать, связанный дружескими чувствами, – он иронизирует над построением строгой науки в ущерб «фактической жизни» (хайдеггеровское понятие):
«Еще на книгах Гуссерля явны следы свежей типографской краски, а мир потрясают события, которые, конечно, никак не улягутся в «идеальную закономерность», открытую геттингенским философом. Проснутся ли люди или мир до скончания веков обречен на непробудный сон?»
Хайдеггер, все же ученик Гуссерля, более осторожно отделяется от учителя, строя свою феноменологию на базе «фактической жизни» и упрекая Гуссерля в неприятии истории. Хайдеггер любит рассказывать студентам анекдот о своем учителе. Он провожает Гуссерля, который едет в Лондон читать несколько докладов и перечисляет подготовленные им темы. «Где же здесь место Истории?» – спрашивает Хайдеггер. «Ах, история? – остановившись, задумывается Гуссерль. – Про нее я забыл».
При всем при этом феноменология Гуссерля по сей день остается удивительной, не теряющей своей важности, главой мировой философии, по которой выверяется немало проблем, а Эдмунд Гуссерль – великим европейским философом XX века.
Итак, начиная строить свою философию, Хайдеггер берет за ее основу вместо «чистого сознания» Гуссерля – «фактическую жизнь». А это весьма непросто – строить новую философию, искать ее нити в таком непроясненном, слишком очевидном, тривиальном понятии, как «жизнь».
Вещи повернуты к нам своей самоочевидной, банальной стороной, и необходимо длительное и терпеливое усилие, умение ждать, зная, что можно и не дождаться, чтобы вещи «заговорили». И Хайдеггер в ожидании начинает «пропитывать себя» банальностями: «Мы должны держаться в тени мышления без всякой научной нацеленности, вслушиваться в эти тривиальности, насладиться ими сполна, причем так интенсивно, чтобы эти тривиальнейшие тривиальности стали абсолютно проблематичными».
Один из его студентов оставил любопытное свидетельство об этом периоде:
«...Его семинары напичканы точнейшими общими замечаниями... Он едва двигается с места. И даже то, что он потом, после долгих разговоров, выскажет, временами ужасающе тривиально... Временами, да и в целом, он есть то, что можно назвать «глубоким»... Он сверлит, трижды вертится вокруг своей оси, неуверен... Начнет произносить важные слова и тут же проглатывает их окончания... Очень тщеславный, и видно, как он с этим борется... Зелот (ивритское слово, синоним слова «канай» – фанатик времен падения Иерусалима и Масады. – Э. Б.). Немузыкален. Голова его хороша... однако с незначительными изменениями сошел бы и за подручного парикмахера».
В те годы Хайдеггер встречается с Ясперсом. Они много дискутируют, что позднее приводит к обиде со стороны Ясперса по поводу того, кто у кого заимствовал. Хайдеггер внимательно читает датского философа Серена Кьеркегора, приемля слова последнего о том, что «заключать от мышления к бытию – противоречие». Это ставит под сомнение Декартово «я мыслю, значит, я существую». Человек существовал в бытии и до мысли. Человеческое сознание, охватывающее бесконечное и вечное, не в силах смириться с конечностью своего физического существования, понять это и принять. Отсюда – поиски «вины», изначального «греха», изначального «страха» – в ожидании наказания. Все это Хайдеггер назовет «бытием к смерти», еще одним феноменом, подменяющим Бога.
К тому времени все развитие западноевропейской, а по сути, немецкой философии, начиная с Канта, вело по пути опознания божественного начала без Бога. Дорога эта вела в пропасть, но была заманчива до того, что никто не оглядывался, пока не занес ногу над этой пропастью и не провалился. После чего всякая попытка выкарабкаться оттуда кажется жалкой и неубедительной.
В 1922 году Хайдеггер строит дом в городке Тодтнауберге (Мертвая Гора). В нем он проживет всю долгую оставшуюся жизнь. Здесь, в рабочей комнате с видом на холмы срединной Европы и огромное хвойное дерево, рядом с которым из трубы, врезанной в «родную почву», родниковая вода денно и нощно течет в корыто водопоя, он пишет свою первую книгу «Бытие и Время» (1927) – результат всех размышлений, колебаний, отступлений, поворотов. Пишет, постоянно видя перед собой гераклитово течение воды, наклон земли, ограниченность горизонта.
Странно думать, насколько этот вид, абсолютно далекий от вида из окна моего детства, с широким вдаль пространством, рекой, шпилем дальней колокольни Кицканского монастыря, заставой румынских пограничников, похожих на оловянных солдатиков из купленной мне отцом игры, самим временем связан с размышлениями книги «Бытие и Время». Неисповедимы, но прочны, «как смерть», узы, тянущиеся из этой книги вообще к оловянным солдатикам – студентам, обожателям Хайдеггера, которые перевернули пасторальный мир XX века, превратив его в одну страшную бойню, маленьким фрагментом которой был расстрел евреев у того самого окна спальни моих родителей.