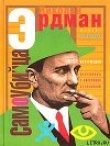Текст книги "Моя театральная жизнь"
Автор книги: Эдвард Радзинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Разгром
В спектакле «Турбаза» играли замечательные актеры: Ростислав Плятт, Маргарита Терехова, Ия Савина, Марина Неёлова, бывшая тогда в Театре Моссовета, Леонид Марков, Евгений Стеблов, Анатолий Адоскин… Ставил Эфрос, декорации были знаменитого Давида Боровского.
Но коли быть честным, спектакль получился какой-то затянутый, скучновато-мрачный. И самое печальное: не получилась главная роль, писателя. Не вышло.
Эфрос это чувствовал. И пока он мучился по поводу искусства, серьезные люди в серьезных кабинетах также занялись спектаклем, но по иному поводу. Как я узнал потом, в ЦК лежал донос о том, что в центре столицы, в замечательном, образцовом Театре имени Моссовета поставлена пьеса, порочащая нашу непорочную действительность.
Секретарем по идеологии в Московском городском комитете партии был тогда человек с премилой фамилией Ягодкин. Ягодкин к тому времени так поднаторел в борьбе с идеологической крамолой, что, несколько меняя ударение, его называли Ягодкин, вспоминая сталинского палача.
Ягодкин жаждал борьбы. Не так давно из страны изгнали Солженицына. И он, видно, подумал, что момент настал. Разжечь очередной костерчик – сигнализировать об идеологической опасности.
И события начались.
В театре объявили выездное заседание идеологов из городского комитета партии. Должен был приехать весь отдел во главе с Ягодкиным.
Опытный Завадский сразу оценил серьезность готовившегося. И, видно, для подкрепления решил позвать на это обсуждение бывшую супругу, Галину Уланову. Одну из величайших балерин века. При жизни в Лондоне ей был поставлен памятник. Завадский верил, что ее присутствие охладит пыл прибывших.
Но не тут-то было! Плевали они и на великую балерину, и на патриарха Завадского. Плевали они на пьесу и на спектакль. Им надо было устроить показательное идеологическое побоище. Они яростно, беспощадно уничтожали и обвиняли. Обвиняли меня, что я наконец-то «сумел собрать воедино все свои черные замыслы» (это – дословно). Сумел собрать все, чего нет в жизни. Оказалось, в жизни не было: разрушенных монастырей, уничтоженных памятников культуры, беспробудного пьянства, идеологических погромов – ничего этого не было. И все эти черные замыслы автора «рельефно» (так было сказано) выпятил режиссер при попустительстве руководства театра.
Несчастный Юрий Александрович впервые слышал подобное о своем образцовом театре! Он не ожидал, он был растерян.
Я подготовил неплохую речь. Сказал, что, слушая все эти обвинения в несуществующих грехах, слушая всю это пародию на 37-й год, я все время вспоминал хрестоматийное изречение о трагедии, которая повторяется в виде фарса… Я, конечно, понимаю, что только борьба хорошего с лучшим достойна быть на нашей сцене… и так далее.
Но все мои ораторские ухищрения пропали даром. Они попросту не слушали. Демонстративно и громко переговариваясь между собой, показывали, как они плюют на все рассуждения.
Объявить снятым спектакль в образцовом театре они не решились. Была придумана формулировка: приостановить для доработки.
Но дорабатывать было некому. Вскоре у Эфроса случился инфаркт, и он слег в больницу. Конечно, это было не только из-за этого спектакля, это был результат всей предыдущей жизни. Разгром спектакля оказался последней каплей. Именно каплей, потому что главное, серьезное, что мучило его все это время, – спектакль не удался.
События развивались стремительно. И уже на следующий день Юрий Александрович Завадский позвонил мне ночью и сообщил, что и в «Правде», и в «Советской культуре» лежат разгромные статьи. И к моему изумлению, назвал мне имя одного из авторов. Тот слыл тогда обходительнейшим либералом. Более того, за несколько дней до того он позвонил мне и сказал, что хочет защитить пьесу, написать о ней. И попросил первый вариант пьесы с вычеркнутыми цензурой репликами. Я дал. Оказалось, что он написал разгромную статью, где цитировал «антисоветские реплики», как он писал, «вычеркнутые, к счастью, редактурой, но наглядно раскрывающие смысл пьесы».
Появилась разгромная статья в «Огоньке».
На статью в «Огоньке» тут же отозвались. Я узнал, что в ленинградском Театре комедии сняли мой спектакль «Монолого браке». Пьесу поставил Камо Гинкас. Это был один из первых его спектаклей в Ленинграде.
Спектакль был смешной и грустный, и очень новый. И очень нелегкий для публики, привыкшей к реалистическому театру.
И вот мне сообщили, что спектакль снят. Причем не властями, а… главным режиссером театра.
Я не поверил, позвонил ему. И он сказал мне:
– Понимаешь, было время, когда вместе с вождем ложились в могилу преданные слуги и жены. Но оно прошло. Короче, мы сняли… У нас своих грехов достаточно. С твоими будет перебор. – И повесил трубку.
Это был страх, основанный всего лишь на призраке опасности. Я видел, как в людях пробуждался какой-то условный рефлекс, который остается у нас, видимо, на генетическом уровне. Он не большевиками создан. Он задолго до большевиков появился в России.
Глеб Успенский в XIX веке написал: «Надо постоянно бояться – вот смысл жизни в России. Страх, ощущение «виновности» самого вашего существования на свете пропитали все мысли, все наши и дни, и ночи».
Впоследствии, во время перестройки, когда появилось изречение «перестройка необратима», я очень смеялся. Я много писал об истории России и знаю, как она обратима. Знаю, как живет в нас этот гаденький бесенок страха. И он не исчез, просто уснул. И разбудить его очень легко.
А тогда я повесил трубку. И решил насладиться бедой по полной программе. Я позвонил директору Театра Моссовета и спросил, как дела, уже зная ответ.
Он, действительно, ответил: «Пушки подвезены к нашему образцовому театру. Готовятся палить! Будет собран городской актив работников культуры».
Но ответил как-то весело, и в голосе его я, с удивлением, не почувствовал никакой тревоги. Была одна насмешка.
Будто он уже что-то знал.
Узнал вскоре и я. Да, наш патриарх Юрий Александрович Завадский оказался куда мощнее, чем думали в горкоме. Он сумел быть принятым… в «лучезарно-высоком там». И его, знаменитого и, скажем прямо, верноподданного режиссера, конечно же, в обиду не дали. Тем более что наверху наши правители-геронты совсем не жаждали борьбы. На дремотном верху не любили тех, кто, говоря языком классика, «бежит впереди прогресса, так что прогресс за ними не поспевает». И не прощали желания показаться «большим роялистом, чем сам король».
Ягодкин не понял ситуации. И уже вскоре закончил политическую карьеру. Погромные статьи были не напечатаны. И торопливая подлость либерального критика N. оказалась напрасной…
А далее было забавно. Одной из сюжетных линий в злосчастной «Турбазе» были взаимоотношения писателя и критика. В пьесе критик написал разгромную статью о писателе. Приехав на турбазу, он встречает этого писателя. И он не знает, успел ли писатель прочесть его статью до отъезда или нет. Писатель же играет с ним – то он дружелюбен, нежен, и критик с облегчением понимает – не успел! То он мрачен и зол, и критик понимает – прочел!
Теперь я играл с N. свою пьесу в жизни. Мы часто встречались с ним – в ЦДЛ, Доме кино и прочих подобных местах. И я по-приятельски разговаривал с ним, и он был спокоен – понимал, что о его статье, так похожей на донос, неизвестно. Но в следующий раз – я был мрачен и суров, и тогда он пребывал в очень большой тревоге. Что делать, в то время опасно было быть непорядочным. В то время интеллигентные люди доносчиков не прощали. А он хотел оставаться человеком «этого круга».
Мне было его жалко и я, конечно, никому о нем не рассказал.
Эфрос вышел из больницы.
И, выйдя из больницы после инфаркта, он тотчас приступил… к репетициям! «Репетиция – любовь моя!»
Олег Ефремов, ставший главным режиссером МХАТа, предложил ему ставить пьесу в Художественном театре.
И Эфрос репетировал днем пьесу во МХАТе, чтобы… Чтобы поздним вечером мчаться в Театр Моссовета – репетировать «Турбазу».
И это, повторяюсь, после инфаркта!!! Он не мог оставить пьесу. Ему она не давала покоя. Он должен был понять: почему не вышло.
Когда я навещал его еще в больнице, он мне сказал:
– Понимаете, мы сами во всем виноваты, мы не смогли их увлечь (как будто можно было их увлечь!). Понимаете, если бы мы их увлекли, они бы ничего не заметили! Вы помните, мы же увлекли их – и в «Снимается кино», и в «104 страницах…» Теперь нам нужно понять: почему не смогли?..
И он предложил мне переписать ряд сцен, чтобы по мере сил «убрать барокко».
Я честно переписал несколько сцен…
Сразу скажу – он к ним не притронулся, он репетировал старый текст.
Итак, «в 12 часов по ночам»… ну, не в 12, но не раньше 11-ти (именно тогда актеры освобождались после вечерних спектаклей), участники спектакля собирались в репетиционном зале.
Марина Неёлова уже перешла в «Современник», но исправно приезжала репетировать. Ия Савина, чтобы репетировать, отказалась от съемок.
Многих знаменитостей в спектакле Эфрос заменил – он перетасовал весь состав исполнителей.
И до часу, до двух ночи репетировал!
Некоторые актеры просто не знали, как они доедут домой, метро уже было закрыто. Машинами в то время владели немногие. И владельцы этих машин должны были развозить безмашинных исполнителей.
Время шло, репетиции шли. И ничего по-прежнему не выходило. Эфрос злился, яростно и как-то мстительно предлагал:
– Надо переписать вот это!
Я переписывал. Он по-прежнему новый текст даже не читал. И также мстительно перед началом репетиции рассказывал, как замечательно репетируют актеры во МХАТе.
Сезон заканчивался. Оставалось несколько дней до летних гастролей театра, когда он заболел.
Непонятно было, как не заболел раньше – две репетиции в день после инфаркта!! О нездоровье сообщил слишком поздно. Видно, до конца колебался. Репетицию отменить не успели, и актеры собрались.
Это была одна из немногочисленных дневных репетиций. Перед началом появился директор театра, который объявил:
– Анатолий Васильевич нездоров. Но здесь присутствует наш молодой режиссер, и вы все его знаете. Это Роман Виктюк. Он уже удачно ставил в нашем театре. Роман побывал на многих репетициях Анатолия Васильевича. И он порепетирует сегодня, чтобы время не пропало. Ну а после отпуска придет сам Анатолий Васильевич и выпустит спектакль.
Вышел Виктюк. Я его видел в первый раз. Мне показалось, что он несколько смущен. Виктюк сказал:
– Так как Анатолия Васильевича нет, мы просто пройдем текст. И давайте… – он задумался, потом сказал, – давайте пройдем его побыстрее.
Они начали быстро играть текст. Тотчас все стало безумно интересно – обнаружился жанр пьесы. Это была «улица в 2 часа дня», где все важно и все неважно. Все эфросовские психологические изыски, все тонкости, наработанные актерами за эти мучительные репетиции, – как они заиграли, когда все пошло в темпе!
И впервые по-настоящему захватило.
На следующий день пришел Эфрос. Видно было, что он болен. Выглядел он ужасно.
Сказал:
– Начнем репетицию.
Потом снял часы, положил перед собой. И добавил:
– Давайте-ка сегодня побыстрее…
Они начали играть. И раздался его голос:
– Еще быстрее!
И потом почти крик:
– Быстрее, как можете… И еще быстрее!
Репетиция закончилось. Он обернулся ко мне. Он улыбался, он вновь меня любил.
И сказал только одно слово:
– Взлетело!!!
Он поставил пять моих пьес, и мне кажется, что это был лучший спектакль. Спектакль, который никто не увидел. Потому что больше он никогда к нему не вернулся.
Начался новый сезон, он не пришел в Театр Моссовета.
Я был ужасно зол. Злы были и актеры. Хотя и я, и они понимали: «увлечь власть» этим спектаклем было невозможно. Впереди ждала жестокая борьба – надо было пробивать, доказывать и т. д. Я решил тогда: он попросту поберегся, понял, что после инфаркта он всего этого не выдержит.
Но теперь я думаю обо все этом иначе. Все эти причины годятся для нормального человека. А он был иной. Он воистину жил репетицией, ему самое главное было найти ключик. Он его нашел – «взлетело!» И все!
А дальше – борьба за премьеру, все наши тогдашние битвы – это ему было скучно. Там, где начиналась политика, там для него умирало искусство. У него на все это не было времени, он должен был открывать ключиком другое. Новая репетиция – новая любовь, новое неведомое.
Смешок
Меня вызвали в Московский городской комитет партии.
В маленьком кабинете сидел какой-то молодой человек, инструктор горкома. Он сразу начал на «ты».
– Ты, старик, написал три пьесы, которые сняли. Ты понимаешь, государство затратило деньги, театры мобилизовали лучшие актерские силы, актеры тратили нервы, а мы вынуждены были их снять. Ты понимаешь, старик, кто ты?! Ты бракодел. Короче, сейчас ты пойдешь домой и напишешь пьесу. Нужную. Но ты должен знать, что если опять будет не та пьеса, она будет у тебя последней. Причем никаких статей в газетах про тебя не появится. Шумная критика – все, что вы все так любите… ничего этого не будет. Будет указание. После него ставить тебя не будут нигде – куда ты не ткнешься. Знаешь, как с молью поступают?.. Открывают сундук, а там моль. И вот внутри посыпают нафталином и захлопывают крышку. Тишина, темнота – и нету моли. Иди и пиши ту пьесу. Это тебе дружеский совет.
Весь монолог был пересыпан дружеским матом.
Я ничего не ответил.
Я ушел.
Сел писать в тот же день. Сначала написал эпиграф:
«И раз навсегда объявляю: что если я пишу, как бы обращаясь к читателям, то так мне легче писать… Тут форма, одна пустая форма, читателей же у меня никогда не будет…»
Это была цитата из Достоевского, которую я прочел накануне.
После нее написал первое слово в пьесе. Это была ремарка: «Смешок». Это был мой смешок, мой ответ на предупреждение сукина сына.
А потом долго думал, о чем я буду писать. И понял: это будет пьеса о Лунине. Об одном из очень немногих декабристов, которых не сломали.
Лунин
«Лунин» – это история о последних трех часах жизни декабриста Михаила Лунина. Место действия – тюрьма Акатуй. Она считалась самой страшной тюрьмой в России. А в России тюрьму ценить умеют. Тюремщики получают приказ удавить Лунина. Но они знают, как опасен сей господин – он так просто к себе не подпустит. Большой физической силы был человек. Удавить-то они его все равно удавят, но крови-то, крови будет… И они приходят к нему договариваться. Официально он умрет от апоплексического удара. Но если согласится подпустить убийц, дают ему три часа жизни перед, чтоб последнюю волю изложить смог, завещание написал, со священником встретился. И главное – к смерти приготовился. И он соглашается, только просит на руки убийц посмотреть – на руки тех, кто жизнь его примет.
… И вот они наступают эти последние три часа.
И тотчас в камере начинается его театр.
«Господа, как спастись в тюрьме, ужаснее которой нет в России… Сердцу полезны страдания… Но разум угасает… в грязи, в вони, в мучениях, в обществе убийц и фальшивомонетчиков, где единственное зрелище – публичная порка, которую заставляют меня смотреть! Но я открыл: страдание – пища сердца… а пища разума? Беседа! Воображение! И вообще, господа, что такое воображение? Коли каждую ночь вы будете видеть сон, который есть продолжение сна предыдущей ночи… как вы отличите дневную реальность от сновидений? Воображение, господа, поверьте, это та же реальность! Ибо после публичной порки… после поручика Григорьева и убийц… возвращаясь в свою камеру, я в воображении учился видеть Магомета и Будду… Я научился беседовать с ними!.. И неужели вы думаете, я признаю после того реальностью физиономию поручика? Поверьте, воображение реальнее реальности! (Смешок.) И тогда я понял: спасен! спасен!..»
В эти три часа он ставит пьесу о своей жизни.
Но, как в детстве нас учат сокращать дроби, так теперь, в старости, жизнь постепенно сокращает кажущееся многолюдство. И оказывается, во всей его жизни всегда были только они, четверо – Женщина, которую он называет Мария, Каин, Авель и Кесарь. На одной жалкой лавочке уместилась вся его бурная жизнь.
И рожденные воображением призраки начинают разыгрывать его жизнь. Точнее – бал! Ибо до тюрьмы его жизнь была веселым, пьяном балом. И заговор был составлен на балу – между картами, пуншем и девками.
Но тюрьма оказалась важнее бала.
Один из декабристов, выйдя из тюрьмы, увидел своего доносчика и в ноги ему поклонился. Почему? А потому, что только «с сумой да тюрьмой» можно понять то, чего не мог понять на балу, – он, жестокий, молодой, беспощадный дуэлянт, радостно заставлявший бояться других. И только здесь, в этой грязи, в этом мраке, среди каторжников, он понял главное… Радость страдания и счастье прощения: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят».
И только в тюрьме он, вчерашний беспощадный революционер, понял заклинание французского революционера, прокричавшего под ножом гильотины: «Революция, как бог Сатурн, пожирает своих детей! Берегитесь, боги жаждут!»
Ибо поднявший меч, от меча и погибнет.
Дон Жуан жив-здоров и проживает в Москве
Я закончил «Лунина», когда наступило очередное «потепление».
В это время у меня оказались две оконченные пьесы.
Другая называлась «Окончание Дон Жуана». Это была «веселая пьеса». Дон Жуан жил во все времена, только под разными именами: Парис, Овидий, Казанова… Дон Жуан…
Но каждый раз в конце концов приходил очередной Командор и убивал его… чтобы он воскрес вновь, в другом веке. И так – тысячелетия!!
Зато его слуга Лепорелло бессмертен, как бессмертны пошлость и холопство. Он жил всегда, во все времена. И во все времена у него была только одна забота – найти себе Хозяина в отсутствии Дон Жуана.
Но как только появлялся под очередным именем Дон Жуан, бедолаге Лепорелло приходилось вновь выполнять свою хлопотливую, трудную службу при беспокойном соблазнителе…
И вот теперь, в XX веке, к его ужасу, в Москве появляется в очередной раз воскресший Дон Жуан. Все с тем же предназначением – дарить любовь. Пагубную и оттого желанную любовь-страсть. Он должен дарить ее юным красоткам, еще не отведавшим этой любви, и зрелым женщинам, чья страсть уже умерла на скучном супружеском ложе. Он, как пчела, которая должна опылять все цветы, он, как дождь, который должен орошать все поля. Но Дон Жуан выясняет удивительную вещь: в XX веке великий любовник Дон Жуан не нужен… Богини исчезли, несчастные равноправные женщины превратились в рабочих лошадок… И роль Дон Жуана вполне успешно может исполнять… его слуга Лепорелло. Когда Лепорелло торопливо квакает: «Я тебя люблю», – этого нынче достаточно, все остальное несчастные женщины выдумывают за него сами.
Дон Жуан, эта китайская ваза в одном экземпляре, оказался странен в век пластика. Век, когда тот, «кто был ничем, стал всем», оставаясь при этом все тем же жалким ничем.
Я отдал и эту пьесу Эфросу.
И чтобы не было хлопот с разрешением, Эфрос объявил работу экспериментальной. «Дон Жуаном» должна была открыться экспериментальная Малая сцена в Театре на Малой Бронной.
На роль Дон Жуана Эфрос пригласил Олега Даля, блестяще сыгравшего лермонтовского Печорина в поставленном Эфросом телевизионном спектакле.
Роль Лепорелло играл другой киногерой – Станислав Любшин.
«Пьеса хороша», – записал Даль в своем дневнике, где подобные слова и о людях, и о пьесах редкость.
О Дале
Актеры бывают счастливые и несчастливые. Счастлив актер, чей облик совпал со временем. Иногда актер появляется чуть раньше. Иногда чуть позже. Это трагично.
У Даля было счастливое начало. Он вошел в искусство, когда его герой диктовал в литературе и в жизни. Вся модная исповедальная проза, печатавшаяся, как правило, в журнале «Юность» 60-х, воспевала этого героя. Он создавался и жизнью, и молодыми писателями в незримом соавторстве с западными властителями дум. Весь Хемингуэй, «Три товарища» Ремарка, «Над пропастью во ржи» Сэллинджера и так далее… Рефлексирующий мальчик-ремарчик, как называли его недруги, задавал насмешливые вопросы себе и Времени. Нервный, мучительно ищущий, не желающий принимать на веру ничего. Именно таким появился Даль на экране в самом начале 60-х.
Тогда казалось – наступает время молодых. Время бури и натиска. Молодые поэты были властителями дум, молодые ученые верили, что они изменят страну, молодой гроссмейстер Таль стал шахматным чемпионом мира. Но, как случалось бесконечное количество раз в нашей истории, «Зима холодная дохнула…».
Наступило очередное «оледенение». И вся эта литература была уничтожена, как катком. «До свиданья, мальчики», – называлась модная повесть. «До свиданья, мальчики!» – торжествующе написал в своей статье Секретарь ЦК ВЛКСМ по идеологии, хороня эту литературу.
Вот так Олег Даль остался без современного героя и играл теперь, в основном, костюмные роли.
Мальчик-принц с прелестным инфантильным лицом и удивительной речью. Это была речь тогдашнего «Современника» – подлинная, совершенно неактерская и вместе с тем очень интеллигентная.
У него не было никаких званий, но кино и телевидение уже сделали его знаменитым.
«Я не народный, я инородный», – сказал он о себе правду.
Он был инородный и в жизни, и в театре… В нем была какая-то невероятная скрытая боль… и тайная жажда страдания.
Рассказывали, что первый раз женился он на женщине, которая его не любила, и он это знал. И ее со свадебного застолья на его глазах увел другой, которого она любила…
Он по-особому воспринимал людей. Он рассказывал мне: «Однажды я понял по голосу, что рядом в купе ехал актер Б. Я его физически не переносил (глаза больные!). Я заперся в своем купе. И полночи стоял у двери, держался за ручку – боялся, что проводница откроет ее (и в глазах – ужас!). Понимаешь, Б. любил со мной говорить! А я… я его не выносил! Не выносил!!!» – повторял он со страданием.
У него была особая, слишком тонкая для жизни кожа.
И еще один его рассказ. Во время выездного спектакля «Вкус черешни» ему надоело, как он сказал, «играть ерунду».
И он преспокойно сошел со сцены и обратился к партнерше:
– Послушай, давай будем искренними…
И начал рассказывать все, что думает о пьесе. Публика аплодировала, решив, что это режиссерский прием. Тогда он начал сообщать все, что думает о публике. Кончилось диким скандалом, и театр спас его с большим трудом.
У него были и очень веселые рассказы (правда, редко). Он уморительно (и, конечно же, каждый раз по-другому) рассказывал, как 1 января, после бурного новогоднего застолья в «Современнике», играют на детском утреннике «Белоснежку и семь гномов». И уморительные злоключения во время спектакля жаждущих опохмелиться – гнома Даля и всех остальных нежных гномов с пугающе зелеными после новогоднего перепоя лицами. И реакция невинных крошек в зале.
Все знали, что он замечательный театральный артист. Но большой роли в театре, «чтобы не уходить со сцены весь спектакль», у него вроде не было.
В «Дон Жуане» у него была именно такая роль.
И когда Эфрос уже шел к выпуску спектакля, Далю предложили другую роль, где он тоже – не должен был уходить со сцены весь спектакль.
Это и был «Лунин».
«Лунина» я, естественно, не мог дать Эфросу.
К тому времени эту пьесу я уже давал читать многим. Один наш знаменитый актер (я хотел, чтобы он сыграл Лунина) прочитал пьесу и позвал меня домой. И с выражением начал читать куски из пьесы: «В России без доносов, как без снега, земля вымерзнет»… «В России все молчит, ибо благоденствует…». И так далее…
После чего задал мне вопрос, который я уже когда-то слышал: «Мы с тобой понимаем о чем эта пьеса… Почему ты думаешь они не поймут?»
Другой, нынче знаменитый, режиссер сказал мне совсем насмешливо: «Рванулся бы, коли был счет в швейцарском банке».
Ситуация казалась безнадежной, когда пьесу прочел и захотел поставить главный режиссер Театра на Малой Бронной Александр Дунаев.
У него была трагичная судьба. Был он милейший и очень добрый человек. И то, что называется крепкий профессиональный режиссер. Одно время ходил он в обещающих провинциальных режиссерах, возглавлял большие театры в Воронеже, Красноярске. И вот, после того как Эфрос согласился перейти очередным режиссером в Театр на Малой Бронной, туда тотчас назначили главным режиссером Дунаева. И Дунаев согласился, не понимая на какую Голгофу он идет.
Его сразу же восприняли как надзирателя при Эфросе. Относиться к нему презрительно стало хорошим тоном. Тотчас возникла шутка: в театре на Бронной два режиссера: один главный, другой талантливый…
Быть главным при великом режиссере, видеть, как ежедневно рвутся не на твои спектакли, знать про постоянный вопрос в кассе: «Это спектакль Эфроса?» – «Нет? – Тогда не надо!..» Это – хуже пытки.
Он терпел. Ставил классику и дозволенные пьесы.
И хотя Дунаев не позволял себе «наезжать» на Эфроса, он, конечно же, раздражал Эфроса. И своей эстетикой, и просто своим присутствием. И вообще, всякий настоящий режиссер воспринимает труппу как жену. И то, что его актеры работают с Дунаевым, Эфросу было переносить трудно. Ибо актер приносит в глазах, в голосе след ЧУЖОГО, след другого режиссера. И это – след измены.
Судьба безжалостно, но заботливо учит. И впоследствии согласившись стать главным режиссером в Театре на Таганке, Эфрос в какой-то мере узнает то, что чувствовал тогда Дунаев.
Но вернемся к «Лунину». Однажды мне позвонил Дунаев. Я так и не знаю, откуда он узнал о пьесе. Я ему ее не давал.
Почему он ее взял? Это была попытка переменить ситуацию – заявить о себе. Он отлично понимал, как будет принят публикой «Лунин».
При этом он знал – власть не посмеет ему отказать ставить пьесу.
Это была плата за его страдания. Понимал и я, что режиссура Дунаева – единственная возможность увидеть пьесу на сцене.
Я отдал ему пьесу. Как он и предполагал, ему разрешили репетировать «Лунина».
И он позвал на роль Лунина Даля.
Даль записал в дневнике: «Наскочил Дунаев и предложил Лунина… Отказаться не смог».
Отказаться не смог, ибо искушение было слишком велико. Лунин был воистину его ролью. Характеры были схожи. Очень схожи.
Итак, теперь у Даля были две роли, в которых он уже буквально «не уходил со сцены».
Я видел, как он репетировал Лунина.
Он играл смерть, физический ужас приближающейся неотвратимой смерти… Три часа жизни уходят. И смерть все ближе.
В каком-то монастыре в Италии дежурный монах каждый час возвещал: «Проходит время жизни. Еще час прошел».
Даль играл, и вы видели эти ужасные песочные часы, эти беспощадно утекавшие минуты. Он так репетировал, что осветители все время забывали заниматься светом, а режиссер забывал делать им замечания.
Помню финал спектакля, его хрипловатый голос:
– Во все дни человеческие… во времена надругательства – и креста – всегда находится тот, кто говорил: «Нет!»… В этом был смысл… И тайна… Ах, как бьет барабан! Как оглушительно… Не надо мне завязывать глаза. Это – жмурки… Это няня прикрыла мне глаза руками… чтобы не попало мыло, и мое детское тельце…
Я чувствую единение с Сущим! И дух мой блуждает по пространствам и доходит до звезд!.. – (и почти изумленно). – Свободен!
… Какая тишина была в репетиционном зале!
Репетиции «Лунина» были в самом разгаре, когда должна была состояться премьера «Продолжения Дон Жуана».
Я пришел на генеральную репетицию.
В тот день над городом собралась какая-то булгаковская гроза. Небо угрожающее – тьма. И когда в 11 утра я вошел в театр, впору было зажигать свет. Но его не зажгли, так что лица актеров были еле видны. И только всполохи за окном освещали маленький зал.
Репетировали на Малой сцене.
Это были несколько рядов скамеек, окружавших небольшую площадку, посыпанную песком, будто для корриды.
По стене над рядами скамеек висели великолепные платья истлевших женщин, Дон Жуана, и в платьях прятались черепа.
Тонкий, хрупкий Даль – в камзоле. Этакая фарфоровая старинная статуэтка, и Лепорелло-Любшин в современном костюме.
Репетировали начало. Недавно воскресший Дон Жуан приходит к Лепорелло в фотоателье, которым Лепорелло (Лепо Карлович Релло – как его зовут в нынешнем веке) благополучно заведует.
Даль: «Как здесь хорошо… Я так намерзся, Лепорелло. Ночь, холодище, а ты летишь себе сквозь звезды в дрянном камзольчике».
Любшин: «А вы разве… не оттуда?..» (Указывает на землю.)
Даль (с негодованием): «Никогда!»
И царственный жест в небо.
И точно в эту секунду, будто подтверждая слова, ударил гром.
С этого мгновения они перестали отвечать друг другу, они начали общаться с грозой. Они включили грозу в репетицию. И вся фарсовая мистика пьесы тотчас стала буквальной, бытовой.
И свет молнии все время вырывал лица.
Я так и запомнил навсегда – лицо Эфроса и лицо Даля в грозовых всполохах.
Но обе роли, которые он так блестяще репетировал, он не сыграл. Накануне премьеры «Продолжения Дон Жуана», во время пика репетиций «Лунина», он ушел из театра. Точнее сказать – бежал.