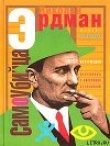Текст книги "Моя театральная жизнь"
Автор книги: Эдвард Радзинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«Женщина» и смерть»
Екатерина Алексеевна Фурцева была в это время, кажется, в Венеции, где она должна была встретить Новый год. Встречать Новый год в Венеции для советских людей тогда звучало приблизительно, как встречать Новый год на Марсе.
Но вместо Нового года среди гондол, каналов и праздничной елки на площади Сан-Марко ей пришлось вернуться в самом конце декабря на прекрасную и очень заснеженную нашу родину. Нетрудно догадаться, что отозванная «с Марса» Екатерина Алексеевна прибыла в большом гневе на своих помощников, не справившихся со смутой.
Она сразу же оказалась в эпицентре мхатовских страстей. Ее тотчас посетили делегации великих артистов. Первая объясняла ей, как ужасна пьеса, а вторая (столь же страстно) – как она хороша.
И было объявлено: 30 декабря состоится Художественный совет, на который придет «Екатерина Великая».
Я приехал в театр, но, как обычно, опоздал. Это моя вечная беда – чем важнее заседание, тем больше вероятность: я на него опоздаю. И когда почти бегом подошел к служебному входу, увидел ужасающую картину: из театра вынесли носилки, покрытые белой простыней. Под простыней отчетливо проступало очертание лежавшего на носилках человека.
Оказалось, поднимаясь по лестнице на обсуждение, умер от разрыва сердца начальник Управления театров СССР.
Смерть чиновника… У него была семья, они его ждали, готовились к Новому году. А он не выдержал гнева «Екатерины Великой», которую заставили разбираться в том, в чем не сумел разобраться этот несчастный.
Театральная комедия закончилась человеческой трагедией.
Когда я пришел на обсуждение, бой был в разгаре.
Один перечень участников боя – история нашего театра. Василий Топорков, Борис Ливанов, Михаил Кедров, Виктор Станицын, Алла Тарасова, Павел Массальский, Анастасия Георгиевская, Ангелина Степанова, Алексей Грибов… Все эти бессмертные были здесь и бились друг с другом беспощадно! Не щадя старые сердца!
Покрывая великолепным голосом крики врагов, выступал Борис Николаевич Ливанов. Он как всегда мыслил космически. Он сказал, что теперь, когда наши представления о Вселенной столь расширились, прежний театр обязан меняться, нам нужны молодые новые силы. «И не важно, что мы не все понимаем в этой пьесе. Это и хорошо! Нужны новые формы!»
А в это время артист, которого я так любил, – Грибов… маленький Грибов попытался толкнуть кулачком исполина Ливанова. Но Борис Николаевич огромной дланью величественно вернул его руку обратно и продолжил размышления о Вселенной.
В это время вошедшего меня наконец-то заметили, и раздался дружный крик врагов:
– Пусть он уходит к своему Эфросу!
– Это новая пьеса! – закричал в ответ кто-то из друзей.
– Пойду играть свой устаревший «Вишневый сад», – удачно парировала Алла Константиновна Тарасова.
Теперь все кричали одновременно. Но весь этот кошмар покрывал великолепный ливановский бас, продолжавший говорить о величии Вселенной.
Бедная Екатерина Алексеевна только всплескивала руками и умоляла:
– Родные мои! Вы видели, что случилось с человеком! Да плюньте вы на эту пьесу! Не стоит она ваших нервов! Берегите ваше драгоценное здоровье! Оно нужно нашей стране!
Но она уже поняла: ситуация страшная. Она не могла сказать ни «за», ни «против».
В это время бойцы подустали, и звуки сражения на какое-то мгновение стихли. И тогда…
Тогда она обвела глазами зал. Взор ее стал нежным, с поволокой. Она стала совершенно обольстительной.
И каким-то грудным голосом (можно представить, как она была обворожительна в иные моменты) сказала:
– Дорогие мои, любимые мои… вы мне доверяете?
На этот опасный вопрос требовался незамедлительный ответ.
– Да! – заторопилась Алла Константиновна Тарасова.
– Да! – дружно закричали вослед друзья и враги.
– Тогда я буду редактором этой пьесы, – сказала Екатерина Алексеевна. – Может быть, мне удастся помочь… Но мы с вами не можем вот так уничтожить труд актрисы, которая перешла к вам в театр. И главное – труд нашего замечательного Бориса Николаевича Ливанова. Мы просто не имеем права! – говорила она нежнейшим голосом. – Я отдаю театру свои выходные… Мы будем работать… Сразу после Нового года я жду вас, Борис Николаевич… автора пьесы и режиссера у меня в кабинете.
Бурные аплодисменты!
Они умели аплодировать начальству.
3 января я пришел в Министерство культуры. У кабинета «самой», около секретаря, сидел замминистра, несчастнейший человек, который все время находился под знаменитым прессингом «Екатерины Великой», – некто Владыкин.
Появился Ливанов, посмотрел на него и сказал:
– Владыкин живота моего, и вы здесь?
Из кабинета вышла помощница и спросила мое имя-отчество.
– Это для надгробных досок? – захохотал Ливанов.
Появился режиссер спектакля Львов-Анохин, и мы прошли в кабинет.
И началась работа над пьесой… Точнее, все сразу забыли про пьесу. Екатерина Алексеевна поучительно рассказывала и про свою влюбленность в Климента Ефремовича Ворошилова, и про то, как она была ткачихой, и как все они верили в победу коммунизма. Потом – про дружбу с Надей Леже, великий муж которой тоже верил в победу коммунизма, как и наши ткачихи. А вот его жена Надя верит уже не очень. Но с каждой встречей Екатерина Алексеевна убеждает ее все больше и больше.
Наконец она вспомнила про пьесу.
Посмотрела на меня и сказала:
– Вы знаете, вчера я смотрела во МХАТе пьесу… – она назвала чудовищный спектакль. – Но ведь можно же хорошо писать! Ну, напишите что-то подобное, хорошее… А сейчас давайте работать. У вас сколько картин в пьесе? Нужно увеличить хотя бы на одну, чтобы видна была наша работа… Ну, я не знаю… пусть она стоит перед зеркалом… и пудрится, – сказала она застенчиво, – или, что лучше, читает газету. Понимаете, в пьесе совсем нет связи с нашей сегодняшней жизнью, с нашими достижениями…
Но, посмотрев на мое лицо, сказала:
– Впрочем, это не обязательно. Но есть и обязательное. У вас есть сцена, где она лежит в кровати… с любовником! И это на сцене Московского художественного театра! Вы понимаете, что этого не может быть?!
Я все-таки спросил:
– Почему?
– Потому что этого не может быть никогда! Короче, этой картины не будет!
Наступила тишина.
– Но я не могу ее выбросить, там – интрига.
– Не можете? – она саркастически засмеялась. – Но мы, поверьте, сможем…
Поняв, что я разозлился и приготовился ответить, торопливо вступил режиссер Борис Александрович Львов-Анохин. И он как-то умиротворяюще сказал:
– Екатерина Алексеевна, вы знаете, я придумал. Дело в том, что это очень поэтическая пьеса. Она скорее символическая, чем бытовая. Поэтому буквальность, правдоподобие тут излишни. И вообще, я предлагаю ставить всю пьесу так: некие артисты пришли на радио читать эту пьесу. У них в руках роли… и они их читают перед микрофоном… Но постепенно они как бы забывают о том, что это роли, и начинают жить текстом… Потом вновь возвращаются к ролям… Так что никакой кровати в спектакле не нужно. А текст весь остается.
– Браво! – зааплодировал Ливанов.
– Ну вот, – сказала Екатерина Алексеевна, – весь текст остается и эта ваша (насмешливо) – интрига.
Текст и вправду оставался, просто пьеса исчезала.
После этого она уговорила убрать название «Чуть-чуть о женщине» (в этом старикам-мхатовцам почему-то мерещилось неприличное)… И я опять согласился.
И пьеса стала называться «О Женщине».
Так что я до конца сыграл героя собственной пьесы «Снимается кино».
Что делать! Я очень хотел, чтобы Доронина сыграла – она замечательно репетировала.
И была премьера, где она действительно великолепно играла.
И я был счастлив.
Я подробно рассказываю об этой обычной театральной истории, ибо волею судеб она сыграла свою роль в истории нашего театра.
Именно тогда, в день обсуждения пьесы, вместе со смертью несчастного чиновника погибал, окончательно раскалывался старый МХАТ.
В книге о Борисе Николаевиче Ливанове есть воспоминания народного артиста Владлена Давыдова. Подобно Регистру в булгаковском «Мольере», Давыдов записывал жизнь, а точнее – агонию старого МХАТа.
И он справедливо написал, что именно после этого заседания мхатовские «старики» поняли, что им не победить Ливанова. Ибо он уже делал ставку на молодежь, на другой театр. И они решили его упредить.
И сделали это достаточно хитро. Они предложили в главные режиссеры «своего» молодого. Это был символ тогдашнего нового театра, руководитель «Современника» Олег Ефремов. И Фурцева, очень уставшая от постоянных, нескончаемых битв могучих мхатовских армий, с радостью согласилась.
Как сострил тогда кто-то: «Старый МХАТ умер на «Женщине»…»
Олег Ефремов пришел создать новый МХАТ. Новый МХАТ, на мой взгляд, он не создал. Но старый великий «Современник» подкосил.
Именно тогда я придумал писать совсем другие пьесы.
История интеллигенции до Рождества Христова
… Театр имени Маяковского был в тот вечер переполнен. Еще бы – играли премьеру, которую не разрешали целых шесть лет!
Есть счастливое выражение администраторов: «Публика висела на люстрах». Действительно, партер, балкон, галерка – переполнены. Приставные стулья не спасали. Толпа контромарочников – студентов театральных вузов и просто людей, близких к театру – толпилась у входа в зал. Сажать было некуда. В ложах стояли. Хотя был май, в переполненном зале была страшная духота.
Но мне было не до духоты.
Я стоял на балконе и ждал его. Он появился, когда уже гасили свет – с пиджаком на руке, в старомодных подтяжках. Приблизился к третьему ряду, где сидели его гонители. И пошел мимо них к своему креслу.
Пьеса, которую играли в тот день, называлась «Беседы с Сократом».
Начал я ее писать весело. Я написал фарс. Мудрец Сократ, который, как известно, был урод, в моей пьесе был красавец. И непроходимо глуп. А Ксантиппа, жена Сократа, которая, по преданию, была красива, в пьесе была уродлива, но умна. И она придумала – заставила глупца Сократа молчать, чтобы сделать его мудрецом.
И постепенно все мудрые изречения афиняне начали приписывать молчальнику. В пьесе Сократ умирал от молчания и пьянства. Но глупое быдло – афинский народ, не могущий жить без героя, создавал легенду о суде и героической смерти философа.
Я прочел эту веселую пьесу очень известному тогда режиссеру. Он очень смеялся, мы договорились о читке в его театре и, счастливый, я пришел домой.
И в тот же вечер совершенно случайно (хотя случайности в жизни неслучайны) я просматривал «Круг чтения Льва Николаевича Толстого». И наткнулся… на речь Сократа в суде, старательно переписанную Толстым из Платона!
И когда я прочел эту речь, как мне стало стыдно за мой фарс о Сократе. В речи была такая высота души, такое страдание! И в ней была тема. Важнейшая для нашего времени: народ и философ.
Есть такое выражение, которое любят повторять демагоги: «Глас народа – глас Божий». Но в XX веке, когда великие народы истерически славили самые страшные диктатуры, когда погибали великие умы и уничтожались целые нации при радостном «одобрям-с» народов, это изречение звучало почти кощунством.
Так что история великого философа, которого убивает народ Афин за то, что он пытался учить его подлинной добродетели, заставляла вспомнить другой афоризм, куда более точный: «Глас народа и Христа распял».
Я решился написать пьесу о настоящем Сократе.
Есть выражение – «возвращение в Итаку». Одиссей после долгих странствий возвращается в Итаку, то есть возвращается к себе.
Я понял, что должен вернуться в Историю. Я должен вернуться к себе.
История гибели Сократа показалась мне особенно необходимой у нас в стране, где с первых дней большевистской власти началось гонение на Мысль. И поэтому таким важным было появление философа на нашей сцене. Я назвал эту пьесу «Беседы с Сократом», и это было правдой. Это были мои беседы с ним. И они были счастьем для меня. Я бежал в эти беседы от скудости мысли вокруг, от телевизора, который рассказывал «немножко про погоду, все остальное – про Брежнева», от всех этих картинок на экране и в газетах, заставлявших повторять слова поэта:
И каждый день приносит тупо,
Так что и вправду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож.
«Ваш Сократ говорит не то!»
Пьесу о Сократе я отдал в Театр Маяковского. Театр этот тогда был на подъеме, его недавно возглавил знаменитый режиссер Андрей Гончаров.
Я прочел пьесу, ее радостно приняли, и Гончаров объявил начало репетиций. Репетировать Сократа он назначил актера, который недавно поступил в труппу, но уже тогда был известен – Армена Джигарханяна.
Правда, всех смущало, что он был слишком молод.
И никто не мог предположить, что в конце репетиций это опасение отпадет само собой. Ибо ему предстояло репетировать… шесть лет!!!
Вначале, как и было положено, пьесу отправили в Московское управление театров. И меня вызвали туда – к заместителю начальника М. (говорили, что на самом деле именно этот М. «правит бал» в управлении).
М. был весьма немолодым человеком. Он начал с загадочной фразы: «Как мы с вами понимаем – то, что понимаем мы, поймут и другие».
Я уставился на него. Он мне объяснил: кому-то может показаться, что я написал пьесу совсем не о суде над Сократом, а о суде (не так давно состоявшимся) над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Это сравнение Сократа с Синявским и Даниэлем показалось мне несколько вольным. Я возразил, что написал пьесу все-таки о Сократе. И если она кому-то что-то будет напоминать, то это вполне понятно. Ибо пророков и мыслителей преследовали до Сократа, преследовали после Сократа и будут преследовать всегда. Именно поэтому в Евангелии мы читаем вечное: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!»
В ответ он только вздохнул и прошелся по кабинету.
После чего как-то очень добродушно сказал: «Поверьте, ваша пьеса мне не просто нравится. Нет! Я люблю вашу пьесу. Я люблю ее, как любят красивого ребенка, в глазах которого тлен. Понимаете? Вот видите эту полочку?» И он показал на застекленную полочку на стене. «На этой полочке стоят, поверьте, замечательные сочинения, которые никогда, однако, не увидят свет. Здесь есть и пьесы Булгакова, здесь есть и Эрдман, здесь есть и западные классики. Вот Олби написал, поверьте, отличную пьесу. Но ее перевод уже стоит навсегда на этой моей полочке. Я очень не хочу, чтобы ваша пьеска там тоже стояла».
– А что же делать?
– Ждать. Ждать, пока острота момента минет. Давайте ждать. «Годить» – как призывал наш классик. Уметь «годить» в России очень важно. Иногда важнее, чем уметь писать.
И мы стали с ним «годить». Правда, скоро пришлось мне «годить» без него. Он умер. Но у меня появился другой редактор, и «годили» мы уже с ним. А театр все репетировал. Правда, наше «годить» дало неожиданные результаты. Постепенно начали забывать про дело Синявского и Даниэля, но… Но началась история с гонением Солженицына, и пьеса тотчас стала похожей на его историю.
В это время на Западе кто-то назвал Солженицына «оводом», и мой новый редактор в ужасе процитировал мне текст Сократа из пьесы: «Я жил среди вас, как овод, который пристает к коню, когда-то благородному, но очень обленившемуся коню. Это опасное занятие беспокоит тучное животное, потому что конь, однажды проснувшись, ударом хвоста может убить надоедливого овода. Не делайте так… Другого овода, поверьте, вы не скоро найдете…»
Потом Солженицына изгнали из страны, и опять бедный Сократ опростоволосился. Он говорил на суде: «Какое наказание вы назначите мне за мою жизнь? Вы можете изгнать меня, но если вы, мои сограждане, не вынесли моих поучений об истине, почему вы думаете, их вынесут другие?»
Потом в Москве начались Олимпийские игры, где мы побеждали. Но мой Сократ умудрился опять сказать не то.
Он говорил: «Какое наказание вы назначите мне за мою жизнь? Вы можете кормить меня бесплатными обедами, как кормите вы победителей на Олимпийских играх. Но те, кто побеждают в беге колесниц, дают вам мнимое наслаждение. А я давал – подлинное. Они повара, которые лезут к вам с вредными, но вкусными яствами… Но как часто, афиняне, мы предпочитаем такого повара суровой истине искусства врача».
… А потом настало время несчастной пьесе «годить» потому, что история Сократа стала удручающе похожа на историю академика Сахарова.
… Прошло шесть лет, я все «годил», несчастный Сократ все «не то» говорил, а Джигарханян все репетировал.
Было ясно, если дело пойдет так дальше, Джигарханяну должно репетировать, пока он не сравняется годами с семидесятилетним Сократом. В декорациях, которые были построены для «Сократа», давно игрались другие спектакли.
Но есть замечательное выражение Талейрана о чиновниках: «Чем меньше рвения, тем больше пользы». И вот появился, наконец, равнодушный чиновник, который решил избавиться от этой пьесы, от этих постоянных нажимов театра. И он удачно сумел забросить ее на лучезарно далекие вершины.
Вскоре меня срочно вызвали в Управление театрами. Меня принял сам начальник управления. Взгляд его был полон благоговения, и в руках у него был экземпляр моей пьесы. Чиновник держал его, как держат драгоценную вещь. Он сказал: «Поздравляю вас. Пьесу разрешили ставить. Но с важными исправлениями». Он почтительно открыл передо мной экземпляр.
– Вы видите пометки?
Я увидел. Они были сделаны по-разному – одни прямо на моем тексте, другие на полях. Он сказал:
– Вот эти, на полях, – это наши предложения… Здесь вы можете, конечно, дискуссировать со мной, хотя, думаю, этого делать не надо… А вот вычеркивания на вашем тексте красным карандашом обсуждать не нужно. Их нужно выполнять. Вы поняли, чьи это пометки?
Я не понял.
– Михаила Андреевича, – сказал он очень тихо.
Нет, не надо было спрашивать, кто такой Михаил Андреевич. Михаила Андреевича знала вся страна.
Это был – Михаил Андреевич Суслов, главный идеолог страны.
И второй человек в государстве занимался редактурой какой-то пьесы! Каким диким мне показалось это тогда! Но я был не прав. Это не было дико. Это вытекало из сущности режима. При тоталитарном правлении, при автократии Власть воспринимает литературу как свое задание. У литератора не может быть личных мыслей. Он должен выражать интересы государства, о которых Власть осведомлена лучше Художника. Николай I занимался всей литературой – не только сочинениями Пушкина. И Сталин заботливо читал каждое сочинение, выходившее в крупных издательствах. Это была его литература. Литература его государства. И Суслов, главный идеолог страны, делал то же.
Сократ на сцене и в зале
И вот наступил день премьеры.
Я подумал, мне не разрешали пьесу из-за Сахарова. Они считали его Сократом. Что ж, в этом была логика. А что, если я приглашу его на премьеру?!
Это был пик кампании против Андрея Сахарова. В газетах печатались возмущенные письма видных представителей интеллигенции. Я понимал, что действую не очень хорошо – ибо, скорее всего, разгорится скандал и последуют жесткие меры к спектаклю, которого я, актеры, театр ждали целых шесть лет, и, наконец, к руководству театра… Но я не смог удержаться! Сократ на сцене, и другой Сократ в зале! – это была еще одна пьеса. И какая! Я переслал билеты на премьеру Сахарову.
На премьеру явились они. И в большом количестве. Они редко ходили на спектакли, которые легко разрешались, и которые они должны были бы любить. Как говорилось в той же пьесе о Сократе: «Греки, как женщины, их тянет к запретному»… А тут – шесть лет не разрешали. В тот день в зале были: министр финансов с семьей, министр внутренних дел, глава Гостелерадио Сергей Лапин и сам генеральный прокурор… И мои места, которые я передал Сахарову, оказались в их третьем ряду! Он должен был сидеть среди них. Тех, кто были в первых рядах его гонителей!
Итак, перед появлением Сократа на сцене в зале готовилась вторая пьеса. Назовем ее «Явление Сократа среди преследователей-афинян». И я, благодарный зритель этой пьесы, поднялся на балкон и стал ждать.
Итак, уже гасили свет в зале, когда появился он. Тогда его мало кто знал в лицо. Но они знали. Он подошел к третьему ряду и пошел на свое место – мимо них.
Я стоял на балконе и ждал – мучительно ждал, что же сейчас будет? Какая получится эта вторая пьеса?
Я думал: вряд ли они демонстративно уйдут. Скорее всего, презрительно его не заметят.
Но ничего подобного! К моему изумлению, они вскакивали с мест, приветственно тянули к нему руки – Андрей Дмитриевич, здравствуйте! – Андрей Дмитриевич!.. Андрей Дмитриевич!!! И он всем им отвечал. Сплошные рукопожатия! ВТОРАЯ пьеса оказалось удивительной!
Они, видимо, хотели продемонстрировать перед семьями свою независимость. На самом же деле они демонстрировали ханжество и ложь, которые царили вокруг. Они демонстрировали неуважение к собственным решениям. Именно тогда я понял: такое безнаказанно не проходит. Власть, которая не уважает самое себя, она отнюдь не вечная египетская пирамида, как я полагал прежде. И она совсем не навечно. И, возможно, над ней, как над дворцом вавилонского царя, уже горят те губительные слова: «Мене, мене, текел, фарес» [1]1
Исчислено, исчислено, взвешено, разделено (Дан., V, 25–28)
[Закрыть].
Я вернулся домой и в дневнике написал цитату из Евангелия: «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое».
Тогда же, в ожидании будущего Великого падения, я решил поторопиться.
Я давно хотел заняться таинственной тогда историей гибели царской семьи. Взял в Театре Маяковского официальную бумагу. Театр просил допустить меня в архив и в специальный фонд Библиотеки им. В.И. Ленина для работы над документами и книгами о расстреле Романовых.
Так я начал писать биографию Николая II.
Сотрудница архива принесла мне дневники, которые попали в архив из последнего дома царской семьи – Ипатьевского дома. Страницы царского дневника буквально слиплись – их редко тревожили.
И сотрудница спросила:
– Зачем вам это нужно? Печатать это все равно нельзя.
Но я уже знал: непременно напечатаю.
И повторял про себя: «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое».