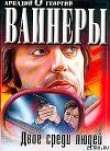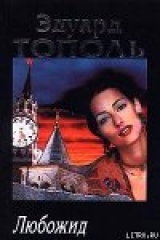
Текст книги "Любожид"
Автор книги: Эдуард Тополь
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Черт возьми, они даже целоваться не умели как следует! Их соски не умели откликаться на прикосновение мужских губ, их руки боялись опуститься к мужскому паху, их ноги сводило судорогой предубеждения, и даже когда они сами, опережая его просьбу, делали над собой волевое усилие и разжимали свои ноги в ту позу готовности, которую многократно видели на похабных рисунках в школьных туалетах, – даже тогда это были всего лишь мертвые ноги со слипшимися между ними холодными, сухими и омертвевшими от страха нижними губами.
Но Рубинчик был терпелив, неспешен и виртуозен.
– Спокойно. При чем тут ноги? То, что войдет туда, – не сейчас, потом, позже, – ты должна полюбить это, породниться с ним. Смотри на него. Не стесняйся. Возьми его в руки. Только не дави так и не сжимай. Нежней. Вот так. Ты знаешь, почему купола всех церквей и мечетей именно такой формы? Потому что это вершина божественной гармонии! Посмотри внимательно, погладь, не бойся. Разве его головка не похожа на сердце? А теперь приложи его к своей груди – сама. Да, милая, так, только еще нежней. Ты чувствуешь? Твой сосок оживает, растет ему навстречу, и твоя грудь твердеет. Ты чувствуешь? Господи, как стучит твое сердце! А теперь – тихо, не двигайся. Только слушай своей кожей его движение по тебе. Ты видишь эту ночь за окном? Это не звезды, нет. Это решето вечности. Девятнадцать лет твоей жизни утекли через это решето навсегда. Их нет. Они истаяли в космосе. Что осталось от них в тебе? Ничего. Потому что ты не жила еще. Ты дышала – да. Ты ела, пила, что-то учила. Су-щест-во-ва-ла. И только. А сейчас ты начинаешь жить. После этой ночи ни одна твоя ночь уже не утечет от тебя в никуда. Они будут все твои. Ты слышишь – твое тело наполняется солнечной силой. От каждого моего прикосновения к тебе этим ключом жизни твоя грудь просыпается. И соски пробуждаются. И спина… И живот…
Он не шел ниже. Даже когда ее спина уже изгибалась аркой навстречу ему, и ее живот начинал пульсировать от первых приливов желания, и тяжелело дыхание, и губы открывались – он не спешил к ее лобку, а уж тем паче – к ее расщелине. Наоборот, он отнимал свой ключ жизни от ее тела и нес его к ее губам. Это был один из самых критических моментов операции. Взращенные в невежественно-брезгливом пуританстве, все сто процентов юных русских женщин считают мужской половой орган таким же грязным, как их общественные туалеты. Прикоснуться к нему, а уж тем более взять его в рот кажется им немыслимым унижением. Ведь хуже нет в России ругательства, чем сказать женщине «е… в рот»! И такое же презрительное отвращение испытывает русский мужчина к женскому влагалищу. Даже если когда-нибудь в неизвестном будущем, может быть, двадцать первом веке, в России будут делать эротические или порнофильмы, невозможно себе представить, чтобы и в таком фильме русский мужчина поцеловал женщину меж ее ног. Не говоря уже о большем…
Но Рубинчик легко ломал этот дикий российский предрассудок. Он возносил свой гордый ключ жизни, напряженный и увитый набухшими венами, возносил его по груди своей наложницы к ее ключице, потом к подбородку, щекам и губам – возносил медленно и торжественно, как приз, как божественный символ…
Чаще всего они в ужасе закрывали глаза. Он не настаивал, нет.
Он опускал свое тело вниз, вдоль ее вытянутого на кровати тела, и останавливался так, чтобы его глаза оказались напротив ее глаз. И тогда он брал ее лицо двумя руками и говорил тихо и нежно:
– Посмотри на меня!
Она открывала глаза. И всегда в них было одно и то же выражение, которое даже он, профессиональный журналист, не мог передать словами. Покорность выполнить все, что он прикажет, готовность впустить его в теплую глубину своей души и тела и тайный ужас перед тем, как это произойдет. Нет, и еще что-то – нечто более древнее, какой-то иной мистический ужас подневольной и завороженной жертвы…
Но Рубинчику было некогда, да он и не пытался расшифровать этот тайный язык страха. Он давал им читать себя. Он давал им заглянуть в свою душу и расшифровывал себя простыми русскими словами:
– Это не стыдно, милая. Нет ничего стыдного в нашем теле. Ни в твоем, ни в моем. Все сделано Богом из одной крови и одной плоти. И все одинаково прекрасно на вкус. Смотри…
И он начинал целовать ее тело сверху вниз, медленно спускаясь губами и языком по ее груди и животу, все ниже и ниже, к тонким завиткам ее пуха на лобке. А затем он мягким, но властным движением ладоней разводил ее колени, раздвигал подбородком небольшую и спутанную рощу и трогал губами ее еще сухие и сомкнутые нижние губы.
Одно это прикосновение вызывало шок. Не сексуальный, нет – культурный. Пытаясь избавить его от ненужного унижения, они всегда в этот миг хватали ладонями его голову и пытались отстранить, вынуть ее оттуда.
Он перехватывал их руки своими руками и сжимал изо всех сил, запрещая им любое движение.
Конечно, он знал, что они дадут ему и без этого.
Он мог в любую минуту просто разломить локтями их согнутые в коленях ноги и войти в их тело резко, одним ударом прорвав сухоту их девственных губ, судорожно сжатые мускулы устья и тонкую пленку там, внутри. Собственно говоря, в силу своего невежества они ничего иного от него и не ждали, хотя именно это они могли получить в любой подворотне без всякого Рубинчика.
Но ведь не в этом же была его миссия и магия этой ночи! Учитель, Первый Мужчина, Просветитель, Наставник – даже эти простые титулы наполняли его сексуальное вожделение еще одним качеством, еще одной гранью изыска.
И, сжав своими руками запястья тонких женских рук, он продолжал нежно, в одно касание целовать еще сухие и спящие губы девичьего бутона. Этот бутон всегда напоминал ему заспавшегося ребенка, навернувшего на себя теплое байковое одеяло. Это одеяло Рубинчику предстояло развернуть языком и губами, и он приступал к этому процессу с тем ликованием, с каким его сын Борис разворачивал обертку шоколадной конфеты.
Медленно, томительно медленно Рубинчик несколько раз проводил языком вдоль всего бугорка, потом заострял свой язык и этим влажным и теплым острием тихо раздвигал начинающие оживать лепестки. Он знал, что в ее подсознании ее маленький орган начинал увеличиваться, гипертрофироваться, вырастать до гигантских размеров. По силе вожделения это было несопоставимо с любым ее ночным девичьим томлением или безотчетными позывами ее юного тела к мастурбации. Сейчас в ее разгоряченном уме ее маленькая лагуна превращалась в отдельное тело, в жадного зверя и в один гигантский рот, алкающий новых прикосновений, поцелуев, ласк, слюны. Так пустыня, высохшая от многолетней засухи, корчится от жажды и нетерпеливо открывает свои пересохшие поры первым же тучам, наплывающим к ней с горизонта.
Но в тот момент, когда его язык и губы начинали ощущать увлажнение ее нижних губ и нащупывали вверху их складок крохотный узелок-жемчужину, Рубинчик останавливал себя. Теперь, когда он своим примером сломил первый барьер – барьер отношения к половому органу как к чему-то грязному и стыдному, что немыслимо тронуть губами, – Рубинчик снова возносил свой ключ жизни к ее лицу. И еще не было случая, чтобы на этот раз она отвергла его, сомкнула губы или отвернулась. Наоборот, схватив его двумя руками, как пионерский горн, она сама погружала его в свой рот, как бы демонстрируя Рубинчику, что урок усвоен, что можно идти дальше, дальше…
Но он и тут не давал волю девичьему самоуправству и самодеятельности. Он отнимал свой волшебный ключ жизни от ее губ и приказывал жестким тоном хозяина:
– Сначала лизать!
Да, теперь он не выбирал выражений. Они должны усвоить терминологию вмеcте с процессом.
– Лизать от корня! Да, там! Только медленно, не спеша! И играть языком! Лизать и играть языком, как на флейте! Вот так, да!
Он знал, что в ее подсознании ее нижние и верхние губы уже соединились в единого монстра, жадного и способного засосать все его тело и душу, но еще дальше, на периферии ее сознания, все равно бьется, замирая от ужаса и ликования, последняя нетерпеливая мысль: «Ну когда же? Когда? Я сделаю все, что прикажешь, только быстрей сделай то, главное!» И даже не мыслью это было в них, а сутью и главной задачей их пребывания на земле – стать Женщиной. Да, да! – Бог посылает в мир мальчишек, награждая их призванием стать воинами или поэтами, учеными или аквалангистами, ковбоями или архитекторами. Только на этом пути мальчишка становится мужчиной. Но главное вопреки всем их профессиям призвание женщины – стать Женщиной. Это записано в их генетическом коде, в подкорке их мозга и в каждой клетке их тела. Дары Господни неотторжимы!
Однако Рубинчик оттягивал этот главный миг. Эта оттяжка стоила ему здоровья, поскольку он должен был усилием воли укротить бушующее в его гениталиях давление и удержать свою сперму от выброса. Но он шел на эту пытку сознательно, как на жертву ради возвышенной цели. Он приказывал себе отключиться, терпеть, ждать!
– А теперь, детка, убрать зубы и принять глубоко, еще глубже! И – сосать!
Да, он владел ситуацией. Ее сознание смято жаждой соития, и она уже отдалась этому потоку, поплыла, ее крутит вожделение, и она получает кайф от всего – от сосания, от того, что держит в руках этот ключ жизни, и даже от того, что дышит запахом паха! Теперь, и не видя ее в темноте, он ощущал, что ее язык и губы выполняют его приказ не из страха, не вынужденно, а с ликованием! Так начинающий музыкант, который подневольно, по принуждению родителей выучил первую мелодию, вдруг начинает испытывать удовольствие от своей игры – ликуя и гордясь, он играет ее снова и снова, все громче, быстрей, артистичней, выделяя нюансы, переходы, окраску тембром…
Восторженная беглость языка и губ его новой ученицы, жадное, захлебывающееся упоение от погружения его плоти в ее влажный рот говорили Рубинчику, что – все, это состоялось, чувственность проснулась в этом сосуде, женщина родилась в нескладном ребенке, самка ожила в девственном теле, огонь возгорелся в лампаде.
А теперь – к делу!
Он погружал свою руку в меховую опушку ее нижних губ и начинал готовить плацдарм. Двумя пальцами – указательным и безымянным – он раздвигал и раздвигал ее волосы, укладывал их по обе стороны щели и убирал от центра даже малый волосок. А средним пальцем нежно касался клитора, только касался – дразня. Потом начиналось раздвижение губ – их уже влажных, как свежие моллюски, створок. И когда ее ноги уже сами, в диком позыве упирались ступнями в матрац и аркой вздымали ее тело навстречу его пальцам, а ее рот, и губы, и язык уже не просто лизали и сосали, а сжирали его, захлебываясь собственной слюной, – в этот момент Рубинчик другой рукой дотягивался до ночника и включал свет. Нет, она не реагировала на это, она даже не видела этого света. Потому что жила уже не в мире наружного сознания, а, как морская медуза, только внутри себя – своей чувственностью и своей жаждой соития.
Но Рубинчик не знал пощады. Он возвращал свою ученицу в реальный мир, отнимая от ее губ свой горделивый ключ жизни и поднося к ним новый бокал шампанского. Она открывала глаза, и дикие, шальные, ничего не видящие зрачки выкатывались к нему из-под надбровных дуг, выкатывались, словно из другого мира, и смотрели на него с вопросом, мольбой и нетерпением.
– Сейчас ты станешь женщиной. Сейчас, – успокаивал он. – Просто я хочу, чтоб ты видела это своими глазами. Выпей вина…
Ее тело еще пульсировало внизу, под его пальцами, но она послушно делала один или два судорожных глотка шампанского, а потом откидывалась головой на подушку, готовая на все и даже, наверно, досадуя на него за то, что он уже не сделал это – пока она была там, по другую черту, за пределами сознания.
Но Рубинчик не жалел о такой упущенной возможности. Женщина в постели, как хорошая проза, требует неспешности. А мужчина именно в сексе приближается к истинному творчеству-сотворению Жизни.
Рубинчик извлекал подушку из-под головы своей юной ученицы, подкладывал под ее ягодицы и начинал языком вылизывать ее ушные раковины. Это тут же возвращало ее в прежнюю пучину вожделения, в самый круговорот чувственности.
И тогда он возносил над ее открытыми и горячими чреслами свое темное от застоявшейся крови и напряженное до дрожи копье и медленно, снова медленно, крошечными ступенями начинал погружать его в узкую, влажную, розовую расщелину, с каждым шажком все раздвигая и раздвигая нежно-мускулистое устье – до тех пор, пока не упирался в неясную, слепую преграду.
Это был милый его душе момент.
Теперь он извлекал свое копье на всю его длину, до пика головки, отжимался на руках и смотрел на распростертое перед ним тело.
Так всадник поднимается в стременах, чтобы вложить в удар копья весь свой вес и всю силу размаха.
Бесконечная белая река женской плоти струилась под ним на гостиничной кровати. Двумя скифскими курганами вздымалась на этой реке грудь с темными маяками островерхих сосков. Две распахнутые руки отлетали бессильными потоками. Длинная половецкая шея тянулась к подбородку запрокинутой головы. А за ней, дальше падал с кровати безвольный водопад густых русых тонких волос.
Рубинчик смотрел на это тело с нежностью, с умилением, с любовью. Здесь была его родина, его Россия. Теперь она принадлежала ему вся – со своими реками, лесами и птицами, поющими в ее туманных садах. Со своей хрупкой гортанью, потемневшими сосками белой груди, трепетной впадиной живота и доверчиво распахнутыми объятиями чресел.
Он делал глубокий вздох и без излишней резкости, но мощно и решительно входил в это родное и прекрасное тело.
Тепло ее крови, тихий стон, слезы боли и кайфа, первая несказанная истома от поглощения его плоти и сжатия ее крепкими девственными мускулами, и почти тут же, через минуту бешеные конвульсии ее тела. Наконец это тело дождалось главного, зачем росло и зрело все годы своей юной жизни! Оно дождалось соития с мужской плотью и там, в глубине, салютовало теперь приходу этой плоти фейерверками и гейзерами нежности и влаги, собранной за всю предыдущую жизнь. Ощущение этих горячих и бурных фонтанов защемляло душу Рубинчика божественным, неземным наслаждением. Тонкие руки обнимали его шею и благодарно сжимали до судороги, не давая шевельнуться; ее губы впивались в его губы до боли; ее ноги замком обхватывали его ноги, а ее трепещущий лобок следовал за его пахом, не позволяя ему вынуть себя из ее глубин даже на микрон и нарушить тем самым этот обвал, это извержение ее соков.
Так капкан зажимает свою живую добычу, так ножны обхватывают смертельно-живительный клинок.
В этот миг Рубинчик всегда завидовал им. Какие космические ливни сотрясают их плоть! Какие молнии пронизывают! В какие пропасти падают они в момент оргазма! Он видел и понимал, что ни один мужчина, даже самый сладострастный, не может испытать и десятой доли тех божественных мук наслаждения, которые приходят в такие минуты к женщинам. Но он испытывал гордость и радость быть курьером, доставщиком этого Божьего дара, который он держал сейчас в женском теле на копье своей плоти. Бог послал им дикие муки родовых схваток, неведомые мужчинам, и Бог – через него, Рубинчика! – возмещал им за эти муки такой силой наслаждения, которую не дано испытать мужским особям.
Рубинчик получал радость дарить наслаждение, он чувствовал себя в это время Всевластным Богом и старался продлить свое пребывание в этой роли так долго, как только мог. Он не знал, как больно рожала его мать, но она ушла из жизни так рано, что наверняка недополучила это простое природное счастье быть Женщиной, и Рубинчик вкладывал все свои силы, всю свою выдержку и талант в искусство дарения экстаза другим женщинам – пока они живы. Детские впечатления времен войны сделали для него смерть не абстрактным будущим, а такой же реальной, ежеминутной возможностью, как и постельное наслаждение. Они приближались друг к другу, они почти смыкались – не зря в момент оргазма все живое, от человека до лесного зверя, испытывает странную, захватывающую, кружащую голову близость смерти. Эту радость-смерть может дать только Бог, но мужчина может подвести женщину почти вплотную к этой роковой и восхитительной пропасти.
Ради продления своей роли заместителя Бога, ради удержания накала вожделения на пике напряжения Рубинчик умудрялся даже в самые святые и сладостные минуты первовхождения не терять голову и извлечь свое орудие из замка женской плоти – извлечь на микрон. Извлечь и вставить…
Выйти и войти…
Сначала – на чуть-чуть…
А потом – чуть больше…
А потом – еще шире, мощней…
Иноходью…
Рысью…
И – наконец – вскачь!!! До хрипа! До крика!
Как копыта, стучали пружины кровати!
Белое тело половецкой невольницы выло по-волчьи, но уже не от боли, нет! Она уже не ощущала боли, потому что пламя ее вожделения работало как наркоз, как веселящий газ. В живом синхрофазотроне ее пульсирующего тела их русско-еврейская, метафизическая, духовно-плотская и чувственно-эротическая полярность разряжалась бурными стихийными потоками сексуальной энергии и поила их обоих новым томлением и дикой жаждой нового соединения.
Рубинчик скручивал тело своей ученицы в кольцо и в спираль, он выламывал и разрывал ей ноги до шпагата – она доверяла ему во всем, слушалась каждого его приказа и была уже той ученицей, которая сама тянет руку, чтобы ее вызвали к доске. Сатанея от экстаза, она уже сама перехватывала инициативу, ускоряла ритм все больше и больше, билась головой из стороны в сторону, хлестала воздух гривой волос, хватала руками спинку кровати, скрипела зубами, истекала слезами восторга, извергалась жаркими и клейкими потоками влаги, опадала и снова взлетала аркадой, и ее рот находил и обсасывал его пальцы, кусая их острыми звериными укусами, а ее ноги взлетали на его ягодицы, спину, плечи.
После каждого ее оргазма, когда она, обмирая, падала и затихала на несколько мгновений на его груди, Рубинчик чувствовал себя Рихтером или Паганини, который только что блистательно сыграл сложнейшую симфонию. В ночной сибирской тишине ему даже слышались беззвучные аплодисменты ангелов и крики «бис!». И он не вредничал и не заставлял себя долго просить, а, тихо шевельнув своими чреслами, играл на «бис» – сначала в миноре, но уже через минуту переходя к мощным мажорным аккордам и к настоящему крещендо.
Позже, перед тем как отпустить себя, Рубинчик, из последних сил контролируя ситуацию, снова отжимался на своих волосатых руках и с нежной улыбкой смотрел на новорожденную русскую Женщину. Он гордился собой. Пожар чувственности уже пылал в этом камине на полную мощь, без его помощи. Этот пожар выламывал ее тело до хруста и выбрасывал из него жаркие протуберанцы страсти. Не в силах дотянуться до губ Рубинчика, она лизала языком волосы на его груди, прикусывала зубами его плечи и вонзала свои ногти в его спину и голову.
Он смотрел на нее и знал, что теперь, после того как он кончит первый раз, ему не придется долго ждать второго захода – эта половчанка возбудит его своей нетерпеливой нежностью и робкой стыдливостью новой наложницы. Она сделает все, что он повелит. И она будет выполнять его приказы не из мистической завороженности, как вначале, а с ликованьем новообращенной служительницы Бога. Да, лежа под ним на спине, на боку, на животе, на локтях и коленях или взлетая над ним скифской амазонкой, она, русская Ярославна или Василиса, будет всегда видеть в нем Бога. В нем, в Рубинчике.
А к утру, когда она истечет, как ей будет казаться, уже абсолютно всеми соками своего тела и когда ее кожа станет прозрачной, а тело – невесомым и падающим в свободном, как в космосе, падении – в это время при рассветной прохладе, вползающей в просветлевшее окно, она даже в самых затаенных уголках своего сознания будет молиться на него и нежить в себе его образ, как в XII веке женщины молились чувственно-эротическому культу Христа. И тогда он опустит ее доверчиво-послушное тело на пол, поставит ее на локти и на колени и с помощью вазелина одним мощным ударом войдет в ту крохотную и почти не расширяющуюся щель, которая обожмет его копье до нового зажима дыхания и души. Вскрик ужаса, клекот слез, дикие рывки ее тела, стремящегося сбросить раздирающую боль, попытки уползти из-под него, вырваться, освободиться, а потом, когда он вонзит ей в рот свои пальцы и почти до боли оттянет ей челюсть, – тихое постанывание, скулеж и покорный плач, а сквозь него медленное, очень медленное, но уже через минуту все ускоряющееся повиливание ягодицами. Быстрей и быстрей…
иноходью… рысью…
и – наконец – вскачь! До хрипа,
до воя,
до крика! До проникновения его копья в ее позвоночник, И – кажется – еще дальше: в грудь, в легкие, в горло!
И на исходе – до дикого, сумасшедшего, разнузданного и синхронного у обоих оргазма…
В свете сиреневого русского рассвета
Пустое, мертвое тело
Рухнет под ним на пол,
Влажное от пота,
Мокрое от спермы
И бездыханное от такого счастья.
Он сядет на пол к ее лицу,
Он поднимет ее легкую голову на свои колени
И будет гладить ее тонкие русые волосы.
А она, бессильная и безмолвная,
Даже не открывая своих серых половецких глаз,
Станет тихо вылизывать его опавшую плоть,
Отлетая в сон, в забытье, в детство,
Где такими же тихими сытыми губами
Она подбирала, перед тем как уснуть,
Последние капли молока из соска своей матери…
…Ради этого, ради возможности летать по всей стране в такие командировки стоило быть даже советским журналистом. Ну в каких израилях или америках он найдет таких трепетно-доверчивых русских любовниц? Нигде, конечно!…
Однако теперь, мартовской ночью 78-го года, лежа возле спокойно спящей жены, возле ее теплого и расслабленного во сне тела, Рубинчик с холодным бессилием понимал, что несколько минут назад, до воспоминаний об этих командировках, он видел во сне свою единственную, свою заветную Книгу. Библейский старик, похожий сразу и на его дедушку, и на бухарского еврея в Шереметьевском аэропорту, и на еще кого-то, неузнанного, показывал ему эту Книгу. Книгу, которую кто-то обязательно напишет и которая будет построена, как солженицынский «АРХИПЕЛАГ». Глава первая – «ИЗГНАНИЕ»: как волна антисемитизма и слухи о том, что «либерального» Брежнева вот-вот сменят отпетые антисемиты Кулаков и Романов, как все это выталкивает, торопит евреев к отъезду в эмиграцию. Глава вторая – «ВЫЗОВ»: кто, как и по каким каналам запрашивает официальный вызов-приглашение из Израиля от своих мнимых или подлинных родственников. Третья глава – «ПОДАЧА»: как люди решаются перейти Рубикон – обращаются к властям за разрешением на эмиграцию и тут же, автоматически, становятся изгоями и «предателями Родины» – теряют работу, ученые степени, награды и даже пенсии. Глава четвертая – «ОЖИДАНИЕ»: как они месяцами ждут решения своей судьбы – без работы и без друзей, которые теперь избегают их. Никто не знает, когда получит ответ – через три месяца или через год, и никто не знает, будет ли этот ответ положительным. А в случае отказа…
– Нет, к черту! – сказал себе Рубинчик. С этими мыслями невозможно лежать возле теплой жены! Оказывается, все, что последние шесть лет он вскользь, мельком или краем уха слышал об эмигрантах, – все это копилось в нем исподволь и вдруг само во сне выстроилось в стройную книгу – путешествие по судьбе целого народа. Господи, да может ли журналист мечтать о лучшем замысле!
Рубинчик возбужденно встал с дивана-кровати и мимо двери в детскую прошел в прихожую. Там он сунул ноги в валенки, набросил на плечи свою потертую меховую куртку и, нащупав в кармане спасительную пачку сигарет, вышел на узенький балкончик, заставленный пустыми банками и старыми игрушками Ксени и Бориски. Он никогда не курил в квартире и, даже выйдя на балкон, проверял, перед тем как закурить, плотно ли закрыта форточка в окне детской комнаты. Вот и сейчас он по привычке тронул рукой эту форточку, прижал ее, чтобы дым от сигареты не пошел к детям, и только после этого чиркнул наконец спичкой и жадно затянулся.
Россыпь одинаковых шлакоблочных восьми– и шестиэтажных «хрущоб», запаянных по швам какой-то черной мастикой и оттого похожих на костяшки домино, лежала перед Рубинчиком в сером мартовском снегу подмосковного микрорайона Одинцово. За домами, вдали, темнели два ряда кооперативных гаражей, а еще дальше, на востоке, за Можайским шоссе, была Москва, но Рубинчик не столько видел, сколько угадывал ее в предрассветном мраке. А слева – огромный котлован, разрытый под какое-то строительство еще прошлым летом и брошенный на зиму, с торчащими из снега бетонными опорами и ржавеющей арматурой. А справа – лес, пересеченный железной дорогой, по которой так часто проходят поезда, что Рубинчик и все остальные жители этого района уже не слышат их.
Но сейчас, в это раннее мартовское утро, Рубинчик и услышал, и увидел очередной поезд и вдруг, впервые за пять лет жизни в этом районе, понял, что все поезда, проходящие мимо его дома, шли на Запад! Да, пять лет, ежедневно, да что там ежедневно – ежечасно! – проходили под его окнами поезда, гудели, клацали колесами и звали его на Запад, а он – глухой идиот! – даже не слышал их, он летал и ездил в командировки только на восток. Но теперь, когда в нем родилась эта Книга… Господи! Какая это может быть мощная книга! Пятая глава – «ИЗГОИ»: как Империя топит отказников на самое дно – в дворники, в кочегары, в ночные сторожа. Они уже никогда не получат права вернуться к своей профессии, их дети становятся жертвами остракизма в школах, им закрыт доступ в университеты. Ученые становятся истопниками, журналисты – вокзальными грузчиками, а музыканты – ночными сторожами. А за что им отказали? Почему? Ведь это можно изучить, исследовать!
Господи, какая книга! – лихорадочно пронеслось в мозгу Рубинчика. Шестая глава – «ТЕ, КОМУ ПОВЕЗЛО»: что происходит в семьях, которые после месяцев пребывания в неизвестности все-таки получают заветное разрешение на выезд. Государство дает им две, максимум – три недели на сборы, и за эту пару недель люди должны сдать этому государству квартиру, растратить или бросить все свои накопления, проститься с родными, близкими, любимыми…
Ох ты елки-палки! Рубинчик даже задохнулся от горя, что не он, не он напишет эту книгу. Он не напишет ее – он еще не сошел с ума, чтобы подставляться. Ведь стоит только полезть в этот материал, как КГБ запеленгует тебя и – все, крышка, вышибут из журналистики. А Нелю – из консерватории, а ее отца – из ракетостроения, а Ксению, старшую дочку, – из школы для одаренных детей.
Нет, он не будет писать эту книгу.
Рубинчик в сердцах швырнул вниз с балкона окурок и вернулся в квартиру. Холодно, нужно проверить детей – укрыты ли? Сняв валенки и куртку, он осторожно открыл дверь в детскую, но дверь, паскуда, скрипнула так, что Ксеня заворочалась во сне. Вечно он забывает смазать эту дверь! Рубинчик прошел в детскую. Бориска в порядке, малыш еще спит в одеяле-конверте, нужно только сменить ему пеленки, они к утру иногда записанные, хотя парню уже почти три года. А с Ксеней беда – постоянно сбрасывает с себя одеяло, а потом мерзнет во сне и простужается. Вот и сейчас поджала голые ноги под подбородок.
Рубинчик укрыл дочку, туго заправил одеяло под матрац с двух сторон, проверил у сына пеленку – сегодня еще сухо! ура! – и постоял над детьми. Разве может идти речь о ТАКОЙ книге, когда у него двое детей. ТАКАЯ книга – как та бомба на перроне 1941 года, может взорвать жизнь его малышей. Нет, он, конечно, не станет писать эту книгу!
Подняв с пола плюшевого зайца, Рубинчик положил его сыну на подушку и вышел из детской. В гостиной, которая на ночь превращалась в спальню, спала Неля, ее длинное узкое тело теперь наискось пересекало раскрытый диван-кровать. В рассветном полумраке Рубинчик увидел ее белое плечо, щеку на подушке и губы, приоткрытые, как удочки. Его всегда удивляло, как случилось, что он – половой антисемит и русофил, как он сам себя называл, – женился на еврейке. Может быть, все его романы с русскими женщинами были просто реваншем за детство, изуродованное юными и взрослыми антисемитами? А когда пришла пора жениться, он подсознательно выбрал еврейку? Или это Неля выбрала его?
Рубинчик осторожно поднял край одеяла и лег, сразу оказавшись в коконе из Нелиного тепла, запахов ее груди, волос, плеч.
Неля, не открывая глаз, томно потянулась к нему, прилегла к его боку теплой грудью, и Рубинчик тут же почувствовал, как в нем проснулось, вздыбилось желание, отчего даже голенные мускулы напряглись. И тотчас Неля – всегда чуткая на такие моменты – открыла один глаз и вопросительно посмотрела на Рубинчика. Хотя последние три года, то есть сразу после рождения Бориса, в их постельных отношениях наступило явное похолодание, секс на рассвете, по утрам еще доставлял им почти прежнее, досупружеское удовольствие. Словно за прошедшую ночь забывались и двое детей, него, Рубинчика, слишком частые попойки с друзьями (и бабами, Неля в этом не сомневалась), и семейные ссоры, и вся эта мерзкая дневная накипь будничной советской жизни. К утру, а точнее, к рассвету, они – иногда – снова хотели и имели друг друга – истово, подолгу, всласть.
Вот и сейчас Рубинчик с готовностью продел руку жене под голову и властным, мужским жестом привлек ее к себе, а второй рукой уже заголял под одеялом ее ночную сорочку.
Но в этот миг дальний, со стороны Москвы, перестук вагонных колес накатил на Одинцово, и очередной экспресс, тараня ночь и пролетая мимо их дома на Запад, вдруг огласил всю округу мощным тепловозным гудком. Рубинчик ослаб, расслабился. Неля замерла и изумленно открыла второй глаз.
– Извини… – сказал Рубинчик.
Она закрыла глаза, вздохнула и повернулась к нему спиной.
Он лежал и слушал стук поезда, уходящего на Запад.