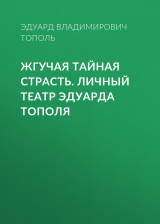
Текст книги "Жгучая тайная страсть. Личный театр Эдуарда Тополя"
Автор книги: Эдуард Тополь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Эдуард Тополь
Жгучая тайная страсть. Личный театр Эдуарда Тополя
11 пьес для само-театра
Звонок с того света
Вместо предисловия
Рано или поздно тайные алкоголики и наркоманы вынуждены признаваться в своих пороках и обратиться за помощью.
Вот и мне пришла пора сознаться в своей тайной страсти: да, я театральный маньяк!
Двадцать лет назад, когда я писал роман «Римский период, или Охота на вампира», мне по ходу сюжета нужно было описать людоеда. А я не умею сочинять из ничего. И потому с помощью своих читателей проник в архив Института судебной психиатрии имени проф. Сербского, где мне разрешили прочесть акты судебно-психиатрических экспертиз Андрея Чикатило и других именитых каннибалов. Оказалось, почти все они прекрасно сознавали жуткую порочность своих маниакальных страстей, после каждого преступления давали себе слово «никогда больше!», но проходило время, и какая-то темная сила поднимала их среди ночи и вела к новой жертве.
Вот и я, написав очередную пьесу, никому ее не показывал, зарывал, как преступник, в старых рукописях и давал себе слово «никогда больше!». Но проходило время, я попадал на спектакль в какой-нибудь театр и… Нет, если это была плохая пьеса или скучный спектакль, то ничего ужасного со мной не случалось, я уходил в первом же антракте и спокойно жил дальше. Но если спектакль хороший, актеры талантливые, а пьеса замечательная – тут мне крышка! Как «зашившийся» алкоголик может, пригубив рюмку водки, уйти в запой, так я, вернувшись домой, бросал писать новый роман или киносценарий и садился за пьесу.
Не от зависти к Шекспиру, Чехову или Гельману, нет – ну, как можно завидовать классикам?
Так какого же беса я, бросив всё, с головой уходил в пьесу не на один день и даже не на одну неделю? Причем заранее зная, что эту пьесу не только нигде не поставят, но и сам я не покажу ее никому…
И вот теперь главное признание – с чего это началось.
В 1976-м году советская цензура запретила фильм «Любовь с первого взгляда» – невинную кавказскую комедию, снятую на киностудии «Ленфильм» по моему сценарию. Возмутившись, я переписал сценарий в одноименную пьесу. Но поскольку все уже знали, что фильм с таким названием запрещен, в театрах пьесу даже читать не хотели. Только через год, в январе 1978 года, она каким-то образом попала в сборник «Молодежная эстрада». И – случилось чудо: ее немедленно поставили в Московском областном драматическом и Вильнюсском русском драматическом театрах, а затем стали репетировать еще в восьми театрах страны.
Но, как написал когда-то Самуил Маршак, «Поздно», сказал им служитель усатый». Дело в том, что в это же время, в марте 1978 года, был запрещен и фильм «Ошибки юности», снятый на «Ленфильме» по моему сценарию, а в апреле Моссовет отказал просьбе руководства Союза кинематографистов разрешить мне, члену СК и Союза журналистов, автору фильмов «Юнга Северного флота» (Приз «Алая гвоздика» за лучший фильм для детей и юношества 1974 года) и «Несовершеннолетние» (Приз кинопроката за 50 миллионов зрителей в 1976 году), купить в Москве однокомнатную кооперативную квартиру с правом прописки в ней.
Ну, не полагалось тогда, в 1978-м, евреям, даже призоносцам, селиться в Москве!
Получив эту весть, я назавтра улетел по месту своей прописки у дедушки в г. Баку, подал там документы на эмиграцию в Израиль. И, ожидая решения Бакинского ОВИРа, не полетел, конечно, на премьеры «Любви с первого взгляда» в Московском областном и в Вильнюсском драматическом.
Однако в октябре 1978 года, за десять дней до окончательной разлуки с Советским Союзом, не выдержал – рванул в аэропорт и полетел в Вильнюс.
А теперь вот отрывок из моих воспоминаний, написанных двадцать пять лет назад «по свежаку».
Да, милостивые господа, дрогнула моя душа. Я оставлял в России любимых женщин и женщин, которые любили меня, я оставлял в Баку своих родственников, но я не смог уехать в эмиграцию, не повидав перед отъездом – хотя бы инкогнито! – спектакль по своей единственной пьесе!
Я прилетел в Вильнюс в день, когда в тамошнем драматическом шла «Любовь…». Прямо из аэропорта я приехал в театр. У парадного входа висела большая афиша на дешевой кремовой бумаге: «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА. Комические и драматические воспоминания в двух частях. Постановка заслуженного деятеля искусств КаССР И. Петрова. В главных ролях…» Я постоял перед этой простенькой афишкой и направился в кассу. Хотя было всего три часа дня, кассирша сказала, что все билеты на сегодняшний спектакль проданы. Польщенный, я протянул ей «корочки» члена Союза кинематографистов, и она, не открывая их, тут же продала мне два билета в пятый ряд. Зачем я купил два билета, я не знал, но, нежа эти бумажки в кармане (я, автор, купил билеты на свой спектакль!), я отправился гулять по городу, который пять лет назад, на съемках там моего фильма «Открытие», был свидетелем моей дружбы с Донатасом Банионисом и моего платонического романа с Ириной Печерниковой. Я прошел мимо роскошного Оперного театра, куда тогда же, летом 1973 года, прилетал на гастроли парижский «Комеди Франсе», и пообедал в ресторане гостиницы «Вильнюс», где жили тогда французы и где ко мне через весь ресторанный зал бежала, распахнув объятия, девятнадцатилетняя Вирджиния Прадал, самая молодая звезда этого театра…
Теперь это все было в прошлом, я отрезал от себя эту страну и эту профессию – через десять дней я уезжал совсем в другую жизнь под названием «Эмиграция». Да, господа присяжные заседатели, лед тронулся и растаял, а я сыграл свою игру в кинематограф со странным счетом 3:2:2, где «три» – это первые неудачные фильма, первая «двойка» – «Юнга Северного флота» и «Несовершеннолетние», которые принесли мне успех, деньги и призы, а вторая «двойка» – запрещенные «Любовь с первого взгляда» и «Ошибки юности». Стоили ли эти семь фильмов и несколько уличных афиш моей пьесы – стоило ли это двенадцати лет бездомной московской жизни, недолюбленных женщин и нерожденных детей?
Мне было ровно сорок лет, я бродил по теплому осеннему Вильнюсу, и хрупкие опавшие листья хрустели под моими ногами, как моя нелепая судьба.
К семи вечера я возвращался к Русскому театру.
– Простите, у вас нет лишнего билета?
– Извините, у вас нет лишнего?
Я врубился не сразу:
– Куда лишнего?
– В Русский театр. На «Любовь…».
Я не поверил своим ушам:
– В театр??!
На меня посмотрели, как на олуха, и бросились к следующему прохожему:
– Простите, у вас нет лишнего?..
А я, оглушенный, как боксер в нокдауне, подошел к театру. Здесь стояла толпа, билеты спрашивали у всех, кто приближался, а под окошком администратора клубилась очередь студентов и студенток – за контрамарками.
Я остановился, и на меня тут же, как осы, налетели какие-то люди:
– У вас нет лишнего? У вас не будет лишнего?
– Нет, – отвечал я, дурацки улыбаясь. – Лишнего нет.
И, сжимая в руке два билета, медленно оглядывался вокруг. Да, я уже знал, кому достанется мой второй билет – у которой будут такие же васильковые глаза, как у той, с кем, живя на 70 копеек день в знойное московское лето 1972 года, я за двадцать один день написал «Любовь с первого взгляда».
Но такой не было – судьба не делает дважды одних и тех же подарков.
Простояв до второго звонка, я подошел к высокой одинокой шатенке лет двадцати пяти и отдал ей свой лишний билет. Она стала совать мне деньги, но я отвел ее руку:
– Не нужно. Это вам подарок. От девушки по имени Вета.
И ушел в театр.
Через пару минут брюнетка осторожно заняла место рядом со мной, косясь на меня с высокомерным снобизмом, как на неудачника, к которому не пришла девушка по имени Вета.
Но тут заиграла зурна, занавес взлетел вверх, и яркий, солнечный, знойный кавказский полдень опалил сцену. Я не знаю, каким волшебством художник по фамилии Зюзенкевич добился этого эффекта – просто стоял посреди сцены высокий шест, а на шесте шатром держался туго натянутый парусиновый полог, подсвеченный прожекторами до какого-то знойного, чуть ли не самаркандского свечения. И – все, никакой перспективы Баку, описанного мной в ремарке, никаких рисованных мусульманских мечетей, никакого южного моря на горизонте. Но атмосфера жары, зноя и родной, памятной мне с детства, кавказской улицы уже плеснула мне в душу и заполнила зал. Потому что под этим шатром сидели три женщины – одна месила тесто в тазу, вторая хлестко выбивала палкой шерсть, а третья стирала белье на стиральной доске в цинковом корыте. И первая женщина, стараясь перекричать громкозвучную зурну, говорила второй:
– Я тебе говорю: возьми лук, верхний кожу сними, надень на шампур и подержи над газом. Чтобы лук совсем мягкий стал. Потом возьми стрептоцид, насыпь на этот лук и положи своему сыну на глаз. А через три дня…
– Вай-вай-вай! Чему ты ее учишь? – вмешалась третья женщина. – Разве глазом лук можно терпеть? Честное слово, на нашей улице все умные! Сусанна, слушай меня: возьми куриный помет, смешай с тутовой водкой и добавь холодный мацони…
Тут по сцене – с криками: «Пасуй!», «Бей!», «Держи, Гога!» – пронеслась, играя в футбол, ватага подростков и великовозрастных парней. Кто-то из них на ходу задел корыто со стиркой, кто-то наступил на взбиваемую шерсть.
Женщина с шерстью немедленно отреагировала на это криком на самой высокой ноте:
– Идиот! Чтоб ты ноги поломал! Чтоб ты до конца своих дней за мячом на костылях бегал! Чтоб ты…
– Ну-ка перестань наших детей проклинать! – перебила ее женщина со стиркой. – Своего проклинай сколько хочешь, а наших не трогай! – И закричала за сцену: – Гога! Не пей холодный воду, иди домой! Клянусь своим здоровьем, я этот мяч порву на кусочки!
Но женщина с шерстью сказала, подбоченясь:
– Пах-пах-пах! Здоровьем она клянется! Ара, какое у тебя здоровье? Одного с трудом родила, теперь трясешься над ним!
Но и женщина со стиркой не уступала, повысила голос:
– А ты думаешь, если восьмерых нарожала, твой закон на этой улице?
Тут из левой кулисы вышел хлипкий худенький мужчина, прошел через всю сцену и крикнул в правую кулису:
– Алексей! Алексей! Убери свою жену, а я свою уберу! И так голова болит в такую жару!
Женщина со стиркой – немедленно:
– Несчастный! Твою жену на всю улицу позорят, а ты мне рот затыкаешь? Лучше скажи своему сыну – пусть не играет с ее детьми! (Снова кричит за сцену) Гога, я кому сказала? Прекрати пить холодный воду, иди домой!
Мужчина (тоже за сцену):
– Гога! Сынок!..
Из-за кулисы выглянул пятнадцатилетний верзила.
– Да, папа. Что?
Мужчина:
– Играй сколько хочешь, я разрешаю!..
Если при первых репликах пьесы зал выжидающе улыбался, то теперь он взорвался хохотом, и – спектакль покатился! В нем было все, о чем я мечтал и о чем я не смел даже мечтать в те душные московские ночи лета 1972 года, когда старенькая пишущая машинка «Москва», постукивая, как рыбацкий баркас, уносила меня над ночными московскими крышами в Баку, в мою юность, в судьбу и драму нашей семьи. И зал – большой, мест на четыреста, забитый битком и еще со стоявшими вдоль стен зрителями, – этот зал смеялся и плакал, смеялся и плакал именно там, где когда-то, в московской ночи, одиноко смеялся и плакал я сам…
Но был в этом зале зритель, который не засмеялся ни разу, ни единой остроте и который плакал даже тогда, когда зал покатывался от хохота.
Этим зрителем был я.
Я сидел затылком к сцене, смотрел на увлеченных спектаклем людей, на то хохочущих, то плачущих зрителей, и слезы счастья и отчаяния катились по моим щекам.
«Идиот! – молча кричал я сам себе. – Куда ты уезжаешь? Как ты можешь уезжать от этого! Ведь именно за это ты заплатил двенадцатью годами бездомной жизни, недолюбленными женщинами и нерожденными детьми! Ради этих зрительских слез и смеха, слез и смеха ты валялся на деревянных лавках Казанского и Белорусского вокзалов, стрелял «трешки» у друзей, жрал на завтрак пельмени за 27 копеек пачка, а обедал пельменной юшкой с черным хлебом! И вот теперь, когда – наконец!!! – все состоялось, все сбылось, когда люди – вот они! – смеются и плачут именно там, где ты прописал им смеяться и плакать, когда еще восемь театров страны начали репетировать эту пьесу, – как ты можешь уехать от этого, кретин?!!»
Прекрасно, на волне успеха, играли актеры – я кожей чувствовал, как летел к ним на сцену заряд зрительских эмоций, и как азартно, с кайфом они возвращали в зал каждый комедийный, драматический и трагический поворот сюжета и погони влюбленного пятнадцатилетнего Мурата за его семнадцатилетней возлюбленной Соней – погони через всю их жизнь. Волшебно, просто первоклассно играла Соню молодая Майорова. И некто А. Иноземцев замечательно играл роль отца Мурата – так, что во втором акте зал аплодировал уже каждому его появлению на сцене.
А я, наплакавшись, сидел, поникнув, в пятом ряду. Впервые в жизни мне стало страшно за себя, впервые в жизни я пожалел о принятом решении.
Но обратного пути не было – в моем паспорте уже стоял штамп «действителен до 21.10.1978» и лежала зеленая бумажка с выездной визой.
После спектакля я пошел за сцену, хотя, отправляясь в Вильнюс, дал себе зарок не делать этого – зачем ставить в неловкое положение актеров и режиссера появлением в театре автора-«эмигранта», «отщепенца» и «предателя родины»? Нет, я планировал сразу после спектакля вернуться из Вильнюса поездом в Москву и загодя, еще в Москве, купил себе в дорогу бутылку хорошей пшеничной водки – чтобы в ночном купе напиться в одиночку после первого и последнего в моей жизни театрального спектакля.
Однако все наши благие зароки пасуют перед простым словом «хочу!». Во всяком случае, мои зароки…
Я захотел прикоснуться к своей славе, я захотел хоть на минуту обняться с ней.
Я прошел за кулисы, нашел там гримерную Майоровой и, скупо постучав, тут же распахнул дверь.
– Подождите, я занята! – недовольно сказала актриса; она сидела перед зеркалом и снимала грим.
– Ничего, мне можно. Я автор, – нагло сказал я, входя.
– Автор чего?
– Автор этой пьесы. Я пришел сказать вам, что вы замечательная, гениальная актриса. Спасибо вам! У меня нет цветов, поэтому вот вам вместо них! – С этими словами я поставил перед ошарашенной Майоровой бутылку водки «Пшеничная», поцеловал ее в щеку и – сбежал из театра на вокзал.
Через час поезд «Вильнюс – Москва» уносил меня из Литвы, через десять дней самолет «Москва – Вена» увез из СССР меня и мою сестру Беллу с ее дочкой от любви с первого взгляда. Моим багажом были пишущая машинка «Колибри» и афиши моих фильмов, увидев которые таможенники Шереметьевского аэропорта тут же мстительно сломали у «Колибри» три буквенных рычажка. Но ни они, ни даже я сам не знали тогда, что кроме антисоветской пишмашинки я тайно увозил главный опиум моей жизни – опиум вильнюсского успеха, оглушительную наркоту живого зрительского смеха и зрительских слез.
Нет, я не могу сказать, что кроме этой отравы в моей жизни не было других удач.
В 1976-м году в Москве, над площадью Революции, вдоль фронтона гостиницы «Москва», висела гигантская афиша моего фильма «Несовершеннолетние» производства киностудии им. Горького, а буквально напротив, через площадь, на фронтоне вестибюля станции метро «Площадь Революции», висела не менее гигантская афиша моего фильма «Открытие» производства Свердловской киностудии.
Помню, я стоял посреди площади, смотрел то на одну афишу с аршинными буквами моей фамилии, то на другую и говорил себе словами Остапа Бендера: «Ну, что? Сбылась мечта идиота?»
А ровно через десять лет, летом 1986 года, на другом конце нашей планеты, в центре Нью-Йорка, на Пятой Авеню, в самом большом книжном магазине США «Barnes & Nobel», огромная уличная витрина этого магазина была целиком заставлена стопками моего романа «Submarine U-137», изданного престижным издательством Berkley Books, а напротив, через улицу, витрина «Sribner», самого элитного книжного магазина США, была заполнена моим романом «Red Snow», изданного еще более престижным издательством E.P.Dutton.
Иными словами, как сказал когда-то Максим Горький, «Я видел небо».
Но ни массовые издания моих книг в США, Англии, Франции, Германии, Японии и еще десятке стран, ни последующие экранизации этих романов в России, не смогли нейтрализовать в моей крови отраву живого зрительского смеха и зрительских слез в зале Вильнюсского театра.
Фильм, даже самый успешный, даже собравший 50 миллионов зрителей, отшумел на экранах неделю или месяц и – ушел на ТВ, а потом и, вообще, в никуда. А книга, даже международный бестселлер, отчуждается от автора еще быстрей – разлетается из книжных магазинов по домам читателей, ты не слышишь и не видишь, как ее читают.
И только автор успешной пьесы может в любой вечер прийти на свой спектакль, сесть в темном зале и, отходя от любой депрессии или творческого застоя, пить, пить, пить наркоту зрительского смеха и зрительских слез.
Больше того: если книга или фильм уже вышли, вы не можете догнать их и что-то исправить, переделать, улучшить. А вот на спектакль вы можете прийти в любой момент, хоть через годы после премьеры, и сказать режиссеру: «Этой ночью я придумал…»
Но самое главное – аутентичность. Как говорили мне великие кинодраматурги Валерий Фрид и Юлий Дунский, каждый фильм – это кладбище сценария. И я могу подтвердить это своим опытом – из двух десятков моих сценариев большинство похоронены с траурными табличками «Там, где длинная зима» (Мосфильм, 1967), «Море нашей надежды» (Одесская киностудия, 1971), «Любовь с первого взгляда» («Ленфильм», 1974), «Ошибки юности», («Ленфильм», 1978), «Ванечка» («Фонд Михаила Калатозова», 2007), «Монтана» («Стоп кадр, Парадиз продакшн», 2008), «У.е.» («Ангел продакшн», 2006), «Чужое лицо» ("БФГ-Медиа-Продакшн", 2011) – как видите, просто массовое захоронение. А все потому, что, отдавая сценарий в производство, автор, практически, теряет право и возможность реально участвовать в работе над фильмом и влиять на его качество. Как сказал мне режиссер одного из этих фильмов, «Прошу тебя, никогда не приходи на съемочную площадку». «Почему?» – изумился я. «Потому что на площадке гений должен быть один!».
Что ж, когда он показал мне этот «гениальный» фильм, я убрал с титров свою фамилию.
А в другом «шедевре» по имени «Монтана» заменил свою фамилию на псевдоним «Автор Возмущен».
С другой стороны, успех кинофильма это, как правило, успех режиссера и актеров, которые в эйфории удачи напрочь забывают имя автора сценария. Как-то в ресторане Дома кино я увидел именитого сценариста, горестно сидевшего за столиком наедине с 300-граммовым графинчиком водки. «В чем дело?» – поинтересовался я. Оказалось, фильм, снятый по его сценарию, настолько триумфален, что сам президент страны пригласил создателей картины к себе на дачу. «И все сейчас там, понимаешь? – сказал мой коллега. – А меня не позвали…»
И совсем другое дело – театр. Уж если театр ставит пьесу, никто не лезет в нее своей отсебятиной и не дописывает реплики и монологи так, что у автора просто уши вянут и руки чешутся по топору или АК-47…
Да, театр это вам не кино!
Но что, если пьесу ждет провал?
Ты придешь в театр, сядешь в темном зале и увидишь, как через десять минут после начала спектакля зрители вдруг встают с кресел и, чертыхаясь, уходят в кассу требовать деньги за свой билет.
О, нет! Лучше я напишу пьесу для самого себя, сам посмеюсь удачной реплике персонажа или огорчусь его беде, а потом положу рукопись в стол и вернусь к недописанному роману. И никто не узнает о моей жгучей страсти театрального маньяка. Главное – не ходить в театры на хорошие спектакли, чтобы не сорваться снова в запойную работу в стол…
Впрочем, признание на то и при-знание, чтобы быть честным. Стало быть сознаюсь: какие-то попытки попасть в театр мои пьесы делали. Например, альманах «Современная драматургия» опубликовал три из них, но, как сказал мне Анатолий Смелянский, бывший завлит МХТ, а ныне профессор театрального факультета Гарвардского университета в США, никто этот журнал не читает.
Но жирный крест на моей театральной карьере поставил совсем другой эпизод. Несколько тел назад, написав пьесу о Бисмарке, я по дружбе показал ее своему знаменитому приятелю Александру Збруеву в надежде, что он сыграет в ней. Но Саша сказал, что сейчас у его шефа Марка Захарова, худрука «Ленкома», роман с другим автором – Сорокиным. А эту пьесу поставит Женовач, покажи ему, сказал Саша, у него литературный театр. «Но я ним не знаком. Ты можешь ему позвонить?». «Да никто не должен за тебя звонить! – возмутился Саша. – Ты знаменитый писатель! И пьеса замечательная. Смело сам звони!». Что ж, я так и сделал: нашел в Интернете сайт театра Женовача, в нем – телефон секретаря и набрал номер:
– Алло, добрый день. Это секретарь Сергея Васильевича?
– Слушаю…
– Вас беспокоит Эдуард Тополь. Как вас звать?
– Ольга.
– Я могу поговорить с Сергеем Васильевичем?
– По какому вопросу?
– Ну, по какому вопросу писатель может звонить режиссеру? Я написал пьесу и…
– Сергей Васильевич не работает с живыми писателями, – перебила Ольга. – Только с умершими классиками.
Я опешил:
– То есть, мне подождать, пока умру?
– Это на ваше усмотрение.
– Хорошо, Ольга, я позвоню вам с Того света.
После этого замечательного разговора у меня отпала охота не только предлагать театрам свою пьесу, но даже ходить в театры. Зато я до сих пор тешусь мстительным замыслом, как буду звонить этой Ольге с Того света. Просто жду – не дождусь такой оказии.
Или написать пьесу с такой завязкой? Представляете: занавес открывается, на сцену выходит секретарша, раскладывает на своем столе свежие газеты и включает радио. А по радио: «Вчера в Израиле скончался известный писатель, автор международных бестселлеров «Красная площадь», «Журналист для Брежнева»… Тут телефонный звонок перебивает радио, секретарша берет трубку: «Приемная Женовача…» И слышит голос: «Добрый день, Ольга. Это Эдуард Тополь. Как и обещал, звоню с Того света…». Секретарша падает в обморок.
Или не падает?
Или не я первый звоню ей с Того света?
Впрочем, и без этой пьесы за пятьдесят лет моей тайной страсти у меня в столе собралось столько пьес, что уже не помещаются в ящиках!
Поэтому, как заправский зазывала, объявляю вслух: приходите, театралы, я вас пьесой угощу! Вот мой домашний репертуарный само-театр. Здесь и драмы, и комедии, и мюзиклы. Во время карантина можете сами были и актерами, и зрителями.
Но читайте, пожалуйста, по одному произведению в день, не нужно читать все подряд. И выключите ваши мобильные телефоны.
Желаю занятного времяпровождения,
ваш Эдуард Тополь.Карантин, 2020 г.








