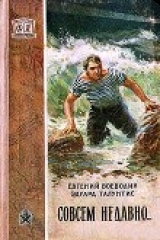
Текст книги "Совсем недавно… Повесть"
Автор книги: Эдуард Талунтис
Соавторы: Евгений Воеводин
Жанр:
Шпионские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Когда они лежали на пляже, Лавров видел залив, уходящий к сиреневой дымке горизонта, и чуть наклоненный, скользящий по заливу легкий парус.
Катя лежала рядом на песке, локоть к локтю, и ему подчас неловко становилось от этой близости. Он видел, как песчинки прилипали к ее порозовевшей на солнце коже, и чувство, похожее на восторг, охватывало его всякий раз, когда она поворачивала к нему лицо и они встречались глазами. Она вскакивала и бежала в воду, сначала с опаской вступая в белые пенки на отмели, а потом бросаясь вперед, поднимая радужные брызги. Тогда он вставал и шел следом за нею.
На пляже они были вдвоем. Курбатов и его знакомая, Нина Васильевна, оставили их, сказав: «Мы пройдемся по парку», – потом вернулись, и снова ушли. Лавров спросил Катю:
– Они нас оставили нарочно, как вы думаете?
– Я в этом уверена, – улыбнулась Катя. – Не надо было отпускать их, если уж вместе приехали.
Лаврову хотелось сказать: «Всё-таки хорошо, что мы одни. Я вас люблю, Катя». Но он смолчал, задумчиво пересыпая с руки на руку песок.
Ему было трудно выговорить эти древние, но вечно новые слова. Если бы он наконец-то решился, он не смог бы ограничиться только ими, только тремя. Он говорил бы о всем, что его волновало, тревожило и мучило…
Вечером они встретились с Курбатовым и его знакомой и пообедали, слушая музыку, лившуюся из парка.
– Просто не верится, что всё это было здесь, – сказал Лавров.
– И тем не менее… – Курбатов сидел, сжимая бокал в ладонях. – Я только что был в том подвале.
– Где? – Катя и Лавров взглянули на него с недоумением.
– В том подвале, откуда вы ушли двенадцать лет назад. Мерзкое помещение. Холодно, сырость на стенах. Ничего, конечно, не нашел.
Катя не выдержала:
– Сами привезли нас отдыхать, мы валялись там на песочке, а вы – на другой конец города! И Нину Васильевну с собой потащили. Это… это нечестно.
– Ну, вот уж и нечестно, – рассмеялся Курбатов. – Зато теперь я совершенно точно представил себе, как всё это выглядело. Даже нарисовать могу.
Они еще гуляли по парку и вспоминали – аллеи, статуя, грот… Потом прошлись по Солнечным Горкам. Действительно, Горки были солнечные в этот вечерний час: солнце спускалось, и косые его лучи заливали прямые улицы. Катя нашла место, где раньше был ее дом. Теперь там стоял другой, трехэтажный, – санаторий Министерства связи.
На закате они собрались в город. Народу уезжало много, вокруг них пела, смеялась веселая, многоликая толпа.
Но этим не кончился выходной день. С вокзала Лавров и Катя пошли по затихающим улицам и попали на набережную.
Тиха белая ночь. Небо – беззвездно, на нем тают розовые облачка, во всем воздухе разлито удивительное, величавое спокойствие. Всё кажется четким, словно нарисованным – и буксиры, причаленные прямо к парапетам, и далекие заводские трубы, черные на заре, так всю ночь не сходящие с неба.
Кончилась ночь, и ничего не было сказано о том, что хотел Лавров произнести, а Катя – услышать. Лавров довел Катю до ее парадной, – путь снова прошел в молчанье. Но он не мог уйти не сказав:
– Ну вот, мы и пришли.
Глаза у Кати блестели, когда она подняла их на Лаврова.
– Катя!
Девушка вздрогнула:
– Что?
Она смотрела на него долгим и, как показалось Лаврову, тревожным взглядом, будто видела его впервые и пыталась понять, что же всё-таки происходит…
Через минуту она бегом поднималась по лестнице. Лавров остался у парадной один.
Он вытащил папиросы и стоял, шаря по карманам за спичками, но их не было, – кончились, стало быть. Тут вспыхнул перед ним розоватый огонек и знакомый голос проговорил:
– Пожалуйста, Николай Сергеевич.
Лавров отпрянул. Против него стоял Брянцев, держа зажженную спичку.
– Вы?
– Да. – Брянцев не замечал смущения Лаврова, он был хмур, и под глазами у него лежали глубокие тени. – Майор просил вас немедленно пройти к нему. Вас и Воронову.
С Лаврова словно хмель слетел:
– Что случилось?
– Поднимемся за ней, – вместо ответа предложил Брянцев.
Но Катя уже спускалась, по лестнице дробно стучали ее каблуки.
Когда она побежала наверх, у нее было одно желание: скорее к себе, в комнату, раздеться и юркнуть под одеяло и, накрывшись с головой, подумать о том, что сегодня было. Она не утерпела и выглянула в лестничное окно; Лавров был не один. Второй – она знала его – был помощник Курбатова, значит надо бежать вниз, он там неспроста.
– Что случилось? – крикнула она из дверей.
– Когда Позднышев ушел с работы? – спросил ее Брянцев.
– В пять, нет, в половине шестого. Да, в половине шестого, это я точно помню. Я ушла в восьмом, два часа спустя.
– Куда? Куда он пошел?
– Его вызвал друг. Они собирались где-то встретиться.
– Где?
– Я не знаю. Что же случилось всё-таки, скажите ради бога?
Брянцев отвернулся:
– Позднышева пытались убить. Он в больнице.
В субботу, под выходной, Брянцев, уходя с работы, столкнулся у входа с музыкантом Головановым. Брянцев узнал его сразу по фотографиям, которые приходилось видеть на афишах и в журналах. Высокий, худой, чуть сутулый, словно стеснявшийся своего роста, Голованов стоял перед дежурным и говорил, волнуясь:
– Простите, мне надо видеть… срочно видеть кого-нибудь из следователей. По очень важному вопросу. Сегодня, сейчас.
Дежурный взглянул на Брянцева – тот кивнул; тогда дежурный попросил у Голованова документы и выписал пропуск:
– Комната шесть.
Рассказ был не длинен, музыкант очень нервничал и говорил поэтому сбивчиво, однако всё, что он говорил, складывалось в стройный рассказ о судьбе человека его, Брянцева, поколения. Но если Брянцев рос, как большинство советских детей, в семье, в школе, в пионерском отряде, – то у Голованова была совсем иная судьба. Брянцев пошел на фронт, Голованова не брали – слаб здоровьем. И если для Голованова война кончилась в тот самый день, когда об этом сообщили по радио, для Брянцева она продолжалась до сих пор.
Слушая Голованова, Брянцев видел не только то, что тот хотел рассказать. Жизнь человека талантливого, сильного в своем таланте, вставала перед Брянцевым.
2
…Голованов помнит себя лет с пяти, – помнит комнату, единственным своим окном выходившую на двор, со всех сторон стиснутый дровяными сараями. За двором и сараями начиналась пригородная равнина, безлюдная, изрытая окопами и воронками, – там ребятишки подбирали позеленевшие стреляные гильзы, части сломанных винтовок и иногда – латунные пуговицы с тиснеными орлами.
Семья жила в Нейске, небольшом промышленном городке, и занимала комнату бывшей конторы завода. Отец рассказывал, что в этой комнате был кабинет управляющего заводом фирмы Сименс-Шуккерт, герра Ратенау.
По утрам мальчика будил заводский гудок. Глухой, он то повисал в воздухе, то, словно прижатый ветром к земле, растекался по сторонам, чтобы где-то снова взмыть вверх и оттуда прислушаться к собственному эху.
Он вставал вместе с отцом; мать вставала раньше. Она ходила по комнате и кашляла, запахивая на груди серый штопаный-перештопанный платок. Когда она кашляла, отец тревожно поднимал от тарелки голову, а потом опускал ее еще ниже, чем раньше, словно чего-то стыдясь. Однажды мать уехала в деревню к своей родне; мальчик помнит вокзал, сутолоку, мелькающие тюки и корзины, помнит мать, стоявшую в дверях товарного вагона. Поезд тронулся, она что-то крикнула, запахивая платок привычным движением, – и навсегда ушла из его жизни.
Через год он пошел в школу, и отец, дневавший и ночевавший на заводе, облегченно вздохнул: школа смотрела за мальчиком, кормила его.
Хорошо было после занятий не идти домой, в холодную пустую комнату, а забраться в каморку школьного сторожа Федосеича и читать ему по складам книгу. Старик вертел от удивления бородой, восклицая: «Ах ты, елки-березки!» – а потом засыпал под чтение.
Однажды, забравшись по привычке к сторожу, мальчик увидел, что старик, ворча себе под нос, перебирает связку ключей:
– Рояля ей понадобилась. Достань ей роялю, а если она вовсе даже сломанная?..
Кряхтя, он вышел в коридор; мальчик пошел за ним. Всё еще не успокаиваясь: «Рояля ей понадобилась!» – сторож остановился у дверей, которые обычно никогда не бывали открытыми. Замок долго не поддавался. Наконец, ключ в скважине заскрипел, заскрежетал, и на мальчика пахнуло пылью, плесенью и гниющим деревом.
Их тени ходили по голым стенам с ободранными обоями. Маслёнка светила еле-еле, и приходилось то широко раскрывать глаза, то щуриться, чтобы разглядеть комнату.
– Вот она, – кивнул старик на что-то густо обросшее пылью. Тряпкою он провел по ровной поверхности, и вдруг из-под тряпки вырвалась и заблестела черная полоска.
– Роялью называется. Не знаешь? Играют на ней. Вот, глянь-ко.
Он откинул крышку.
– Ткни пальцем-то. Да не бойся, не кусается. Смотри.
Своими короткими, распухшими от ревматизма, скрюченными пальцами он ударил по клавишам, и пыль на крышке дрогнула от раздавшихся звуков.
– Тут, слышишь, ровно вода звенит, ручеек – жур-жур-жур, а здесь вот солнышко светит, а тут гром. А? чего рот-то раскрыл? Не видал? Хитрая, брат, штука, люди на ней десять лет учатся играть.
Это был первый урок музыки.
«Рояля» понадобилась учительнице: та на уроке сказала ребятам, что у них будет пение. Скоро пришел и учитель – долговязый с рыжими усиками, в дымчатых очках, замотавший шею зеленым шарфом:
– Это – до, это ре, дальше ми, фа, соль… поняли? Начали – до, ре, ми, ми, ми…
Поначалу от этого «ми» все прыснули, но потом привыкли и тянули «ми» уже с удовольствием.
Мальчик как-то подошел к учителю пения и сказал, что ему бы хотелось научиться играть. «Играть? Ты – чей? Головановский? Это что ж – заводского Голованова, да? Ну, тогда можно. Оставайся после уроков».
Потом учитель шипел: «Дурень, тупица, тебе бы только в обоз идти, ассенизаторский». Мальчик плакал, не понимая, почему он тупица, но, раз заболев музыкой, он уже не мог вылечиться.
Что было дальше? Отец пошел на завод и не вернулся, его нашли на дороге мертвым, а неподалеку валялись дымчатые очки. В карман отца была всунута записка: «Красному директору от истинных хозяев завода». А учитель музыки исчез, как сквозь землю провалился, но потом кто-то портил станки, а в мешке муки на общественной кухне нашли однажды толченое стекло…
И вот – детдом. Уже другие преподаватели, люди ласковые и внимательные. Год мальчик прожил там, учась, помимо прочего, играть на скрипке, которую ему подарил завод. И, как знать, может, совсем иначе сложилась бы его судьба, если б не один – смешной теперь, а тогда грустный случай.
Кто-то принес в школу мяч. С гиком и визгом ребята гоняли его на перемене по коридору, и, забыв обо всем на свете, Сережа Голованов бросился в эту азартную игру, пиная мяч ногами, кричал и пел, как вдруг наткнулся на фарфоровую вазу, стоявшую на тумбочке возле окна, и прежде чем он успел вытянуть руки, ваза упала и разбилась вдребезги.
В коридоре сразу же стало тихо, только мяч шуршал, откатываясь в угол. Мальчик еще не понимал, что случилось, и недоуменно смотрел на осколок, с которого маслянистыми глазами улыбалась розовая рожица амура. Он уже не помнит, кто из ребят подошел к нему и сказал, тоже глядя на осколки:
– Дорогая штука. Попух ты, Серега.
Один из закадычных дружков по школе дернул его сзади за куртку:
– Хочешь, я скажу, что я это разбил, а? Мой батька заплатит.
– Не надо. Я сейчас домой пойду.
И, схватив в классе свой ранец и шапку, он выскочил на улицу, трясясь от страха.
Тихо и протяжно, словно котенок, пропищала дверь в комнату. Там никого не было. Скрипка лежала на табуретке возле кровати; когда он откинул тряпку, закрывавшую ее, и тронул струну, одинокий звук долго ныл в воздухе, будто жалуясь на боль и не находя себе выхода. Не всё ли было равно, куда идти. Он взял скрипку и осторожно, стараясь не шуметь, вышел, осторожно закрыв за собой дверь, и осторожно спустился по лестнице.
…На одной из станций, названия которой он уже не помнит, где-то между Москвой и Ленинградом, он решил сыграть в зале ожиданий, благо не было видно милиционера, а народ собрался подходящий, большей частью женщины, – эти всегда что-нибудь дадут.
Он сыграл «польку», потом «жалостливую» песню и увидел, что кто-то краешком платка уже вытирает глаза и лезет в корзину. Он начал еще одну «жалостливую», но, сразу заслонив свет в окнах и мельтеша, подошел поезд, и, кое-как собрав куски пирогов и яйца, он выскочил на платформу: поезд был попутный, на Ленинград. По перрону прогуливались двое бойцов железнодорожной охраны. Он шмыгнул вдоль стены, дошел до угла и спрятался за ним, надеясь пойти в обратную сторону, когда эти двое пройдут мимо. Всё было бы хорошо, если б один из них случайно не обернулся. Бежать было бессмысленно; боец схватил мальчика за плечо, и тот вскрикнул.
– Чего орешь?
– Отпустите! – вдруг услышал он. – Слышите, товарищ боец!
Из окна вагона, стоявшего как раз перед ними, высовывался широкоплечий человек в военной гимнастерке. Голос у него был властный, и боец нехотя убрал руку. Человек в гимнастерке увидел у мальчика скрипку и сказал:
– А ну-ка подойди сюда, скрипач!
Из-за его спины показалось другое лицо, узкое, с большими черными глазами.
– Ты чего здесь делаешь?
– Я… я здесь играл.
– Что играл?
Мальчик ответил, и широкоплечий улыбнулся.
– Небось сбежал из дома? Только правду говори – сбежал?
К чему было врать этому человеку? Ну, сбежал, только не из дома.
Широкоплечий вдруг задумался:
– Знаешь что, лезь-ка ты сюда. Вон в те двери. – И крикнул какому-то военному, стоявшему у подножек вагона: – Товарищ Быстров, пропустите мальчика.
Прошел час, прежде чем Сергей рассказал им о себе, а человек в гимнастерке всё расспрашивал его и наконец попросил что-нибудь сыграть. Сергей развернул свою скрипку.
– Чайковского можешь?
– Могу.
Широко расставив ноги, стал посредине купе и сыграл «Тройку». Они – черноглазый и другой, в гимнастерке, – переглянулись:
– Еще что-нибудь…
Стараясь не сбиться, он начал играть песенку, дней пять назад услышанную в зале ожиданий от крестьянина, но песня была короткой, а ему не хотелось кончать, и он продолжал ее, чуть прикрыв глаза, и, собрав в себе все силы, играл дальше, придумывая на ходу.
– Я не знаю этого, – сказал человек в гимнастерке. – Что ты играл?
– Не знаю, – ответил он.
– Как так – не знаю?
– Начало не мое, а середина и конец – мои.
Они снова переглянулись. И вдруг человек в гимнастерке звонко рассмеялся:
– А помните наш спор, Валериан Павлович? Вы говорили, что десятилетия пройдут, прежде чем из нашего народа выйдут в мир таланты. А вот прошло пятнадцать лет – и пожалуйте. Нет, Валериан Павлович, в нашем народе таланты растут, как грибы в дождик, надо их только собирать умело. – Всё еще смеясь, он потрепал мальчика по голове. – А покормить-то тебя я забыл. Нечего сказать, гостеприимный хозяин. Садись и ешь. Вот тебе бутерброды.
Ради приличия он отнекивался, а потом решил, что стесняться нечего, и поел с удовольствием. Еда клонила ко сну, и он задремал, свернувшись на диване, сквозь полусон слушая речи двух пассажиров.
– Вот вам совершенно новый человек, – говорил черноглазому главный, как он определил его: – он городового в глаза не видел и не увидит. Пареньку, конечно, не сладко жилось, так ведь мы только в начале пути. Сын токаря, красного директора. Я верю в него, ей-ей верю… Вы говорите – наследственность, культура в крови, а мы сами вложим ему в кровь нашу культуру…
Больше мальчик ничего не слышал. Когда его разбудили, в купе уже было темно и черноглазого не было. Тот, который взял мальчика в поезд, стоял одетый, в кожаном пальто и фуражке:
– Вставай, тезка, приехали.
Они вышли на перрон. Там стояло несколько военных, они козырнули и вытянулись, увидев их. На привокзальной площади стояли две машины, в одну из них они влезли, «главный» поздоровался за руку с шофёром и сказал:
– А ну, Вася, в первый детдом, и домой.
– И всегда вы каких-то мальчишек да девчонок возите, Сергей Миронович, – заворчал шофёр. – Небось, как резину менять – доставай, брат, как знаешь…
Тот захохотал:
– Чего ты ругаешься! Погоди, эти мальчишки да девчонки еще нас возить будут. Вот увидишь: состаримся, и будут нас возить.
Впервые в жизни мальчик ехал на автомобиле. За стеклом мелькали витрины, люди – он ничего не мог разобрать толком. Наконец, они приехали, и шофёр помог открыть дверцу.
– Вылезай, будущий шофёр.
– Будущий музыкант, – поправил его новый дорожный знакомый. – Погоди, погоди, еще хвастать будешь, что возил его. Пошли, музыкант, в детдом, только условимся: не убегать.
Внизу их встретила пожилая красивая женщина; Сергей Миронович поздоровался с ней и назвал по имени-отчеству. Разговаривали они тихо, отойдя в сторону; единственное, что донеслось до мальчика: «определить его в школу художественного воспитания»; потом Сергей Миронович подошел к Сергею и протянул руку:
– До свиданья, герой. Скучно будет – звони по телефону. Эх ты, Паганини…
А через полтора года этого невысокого, с ясной улыбкой человека не стало. Была площадь, и толпа, и в морозном декабрьском воздухе сухо звучали трубы. Толпа захлестнула мальчика и понесла к широким ступенькам вокзала. Мальчик плакал. И то ли слёзы помешали ему разглядеть подробнее, то ли сгустившаяся темнота – но показалось ему, что мелькнуло где-то рядом знакомое лицо учителя пения, уже без дымчатых очков, но с тем же зеленым шарфом. Они встретились взглядами. С этим человеком в сознании Сергея была связана и смерть отца, и всё плохое, страшное. Почему он оказался здесь? Изо всех сил мальчик начал протискиваться к нему – какое-то огромное, сильное в ненависти чувство вело его тогда, желание схватить за руку, крикнуть что-нибудь обидное, – но нет, того уже не было, исчез, словно растворился в толпе.
Что было потом? Комсомол, школа, консерватория. Ему было двадцать лет, когда началась война. Голованов рассказал и о той ночи, когда он перешел фронт у Солнечных Горок. Кто с ним шел? Он не помнит. Лида? Нет, лиц он не видел тогда, – он еле шагал, у него мутилось в глазах. Глаза у него плохие – он начал терять зрение еще в детстве, от коптилок и недоедания.
Брянцев, наконец, записал последние слова показаний Голованова: «Я, Сергей Гаврилович Голованов, работник Филармонии, живу в настоящее время на даче в Замошье». Дальше Голованов говорил, что вечером, в пятницу, он ловил на речке рыбу, в месте, скрытом кустами, но ловил не удочкой, а на донку, так что удилище не высовывалось из-за кустов.
Часов в девять мимо кустов медленно прошли двое: их не было видно, Голованов слышал только их голоса. Повидимому, они продолжали начатую беседу:
– … но я же вам говорю, он может докопаться до причин аварии и тогда все эти годы – кошке под хвост. Нет, нет, пусть четвертый его уберет.
– Если вы уберете Позднышева, я не уверен, что это… понравится. В конце концов, следы…
– Подите вы к чёрту с вашей трусостью, а я не желаю класть свою голову, – взвизгнул один из них, и Голованов вздрогнул: в интонации ему послышалось что-то очень знакомое. Те двое, всё еще споря, прошли; Голованов осторожно раздвинул кусты и выглянул.

Пожилой человек, отчаянно жестикулируя, продолжал доказывать своему собеседнику, что он не намерен рисковать своей головой, а тот, военный, повидимому офицер, долговязый, с топкой как у осы талией, шел молча, прутиком сбивая разросшуюся вдоль тропинки пышную поросль. Как только они скрылись, Голованов, забыв про снасть, бросился в поселок, переоделся и минут за двадцать до прибытия поезда, шедшего в город, был уже на станции.
Пожилой пришел один. Мелко семеня, он пробежал по перрону, выпил газированной воды, купил газету. Он никого не замечал, сел на скамейку и успел просмотреть всю газету – от передовой до объявлений на четвертой странице. Наконец, поезд подошел, и Голованов оказался рядом с этим пожилым; в отделении вагона было пусто.
Коротки дорожные встречи! А когда поезд идет, мерно постукивая та рельсах, и делать ровным счетом нечего, люди становятся словоохотливыми.
Самое любопытное, что разговор начал не Голованов, а тот, пожилой:
– Вы не знаете, когда мы будем в городе?
– В первом часу. А вы разве не из Замошья, не с дачи?
– Нет, ездил к знакомым. Ужасно неудобное расписание для дачных мужей и… работающих гостей.
Он сам засмеялся своей шутке, и Голованов поддержал этот смех. Дальше разговор пошел как по маслу, и, подъезжая к городу, Голованов уже знал, что этот пожилой – бухгалтер с «Электрика», и что завтра ему на работу, и что он не успеет выспаться – к старости началась бессонница, – знаете, очень мучительная штука…
В конце головановских показаний было написано:
«Этого человека я знал много лет назад. В моей памяти он связан с убийством моего отца, директора завода в Нейске. Он исчез из Нейска после убийства. Последний раз я видел его в Ленинграде на похоронах С. М. Кирова, но задержать его тогда мне не удалось…»
– Ну что? – спросил Бондаренко, присутствовавший при беседе, когда Голованов ушел. – Что ты думаешь?
– Надо ехать на завод, Павел.
– Предупредить Позднышева? Я узнавал, такой там работает.
– Взять бухгалтера. Он может наделать дел, если его не изолировать сейчас.
Но они опоздали. В коридоре заводоуправления, несмотря на поздний час, было людно, но тихо, все говорили шёпотом, оборачиваясь к двери директорского кабинета. Санитары и врач поднимались по лестнице вместе с Брянцевым и Бондаренко, и поэтому неловко было входить в кабинет вместе с ними; офицеры остались в коридоре, и Брянцев шёпотом спросил одного из рабочих, что случилось.
– Позднышев…
– Да что вы? – Брянцев сделал вид, что Позднышева он, разумеется, знает. – Что такое?
– Не знаю. Пришел часов в семь в цех, ходил грустный, пил воду, а потом – упал, судороги…
Санитары вынесли Позднышева на носилках. Он был без сознания. Брянцев на секунду увидел высокий лоб неестественной, мраморной белизны и губы, искривленные от боли. Потом он взглянул на Бондаренко. Тот указал ему глазами на дверь директорского кабинета, и они вошли, не постучавшись.
Директор не обернулся. Он стоял возле врача, складывавшего в чемоданчик шприцы и коробки с ампулами.
– Вы уверены в этом?
– Да, симптомы совершенно точные.
– Это смертельно, доктор?
– В зависимости от дозы, общего состояния организма… Да мало ли еще от каких причин.
Теперь уже Бондаренко подошел к врачу:
– Что вы установили?
Врач поднял глаза и, увидев офицера, ответил так же лаконично и, как показалось, устало:
– Отравление птомаином… рыбным ядом. Я… нужен вам еще?
– Нет, нет, спасибо.
Врач ушел. Директор, Бондаренко и Брянцев остались одни.
Брянцев молчал, вопросы задавал Бондаренко. Бухгалтера, конечно, уже нет на заводе? Где был Позднышев сегодня? Кто это может сказать? Да, позовите, пожалуйста, его помощников.
Бондаренко выяснил, что Позднышеву позвонил друг, они договорились встретиться в шесть. Звонок был в пятом часу, до этого Позднышев выходил из цеха один. Кто этот друг? Уралец, электрик, Василий. Всё. Больше ничего узнать не удалось. Бондаренко шепнул Брянцеву: «Узнай адрес бухгалтера», – и тот тихо вышел из кабинета.
В отделе кадров народ еще был, и Брянцеву быстро дали адрес Войшвилова. Когда Брянцев снова подошел к директорскому кабинету, Бондаренко уже выходил оттуда.








