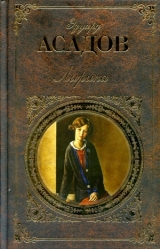
Текст книги "Несколько слов о музыке"
Автор книги: Эдуард Асадов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Должен признаться, что когда в прошлые годы мне задавали вопрос, люблю ли я музыку, то поначалу я попросту обижался. Мне казалось, что задать человеку такой вопрос равносильно тому, что спросить у собеседника, как он относится к солнцу, воздуху или хлебу. Больше того, такой вопрос словно бы ставил под сомнение вообще мою принадлежность к человечьему званию. Потом же, приглядевшись попристальней, я убедился, что такие существа тем не менее есть. Пусть их не так уж и много, однако сбрасывать их со счетов все-таки нельзя.
Иногда и некоторые рьяные ревнители музыки начинают сражаться с ними, издеваются, обличают, пригвождают и прочее. А это, по-моему, неправильно. Человек, абсолютно равнодушный к музыке, – это по-своему несчастное существо. Ну, так же как человек, у которого, скажем, нет одного легкого или полностью отсутствуют обоняние и вкус. Мне скажут, что он своего недостатка может не ощущать. Ну не чувствует музыки и не чувствует, а переживаний по этому поводу нет никаких. Может быть, это и так, но все равно он по-своему несчастен, так же как несчастлив человек, который не знает, как пахнет жасмин или сосновый бор, что такое аромат вина или аппетитного жаркого, и рыба для него ничем по вкусу не отличается, ну скажем, от ложки варенья. Одним в этом смысле еще можно помочь, другим – бесполезно и пробовать.
И мне кажется, очень хорошее дело на протяжении многих лет осуществлял композитор Дмитрий Борисович Кабалевский, когда начинал прививать вкус к музыке людям, так сказать, на рассвете их сознательного бытия. Он выступал регулярно на больших аудиториях с рассказами о композиторах, об их творениях, о неповторимой особенности каждого из них и тут же иллюстрировал очень темпераментно на рояле фрагменты из этих произведений. Выступления его имели огромную аудиторию, так как транслировались по радио. Ну и музыкальные лекторы, выступавшие и выступающие перед юными и неюными слушателями на симфонических и даже эстрадных концертах, делают большое и нужное дело.
Есть и еще одна категория людей. Я бы назвал ее «упрощенной». Почему? Да потому, что люди эти воспринимают лишь то, что полегче, что, так сказать, рядом лежит, для чего не надо ни напрягать голову, ни подключать воображение, ни затрачивать нервов. Иными словами, даешь только танцевальную да эстрадную музыку. А остальное – все выдумки чудаков, которые хотят показать себя очень умными, а сами ничего не понимают! Люди эти похожи чем-то на шумливых уличных воробьев, которым толком даже и невдомек, что кроме перелетов с панели на крышу есть еще и заоблачный полет журавлей, с которого видны такие красоты, которые воробьям даже и не снились!
Итак, на вопрос, люблю ли я музыку, я, вероятно, уже ответил. Скажу больше: о любви к музыке, как таковой, я в повседневной своей жизни попросту никогда не думаю, как не думает, скажем, белка о лесах, а дельфин о просторах морей. Это больше, чем любые слова, – это сама жизнь. Отнимите у них то и другое, и они погибнут, а слитые воедино с лесом или морской синевой, они об этом не думают.
Какую музыку я предпочитаю: симфоническую или легкую? Современные песни или песни народные? Я знаю, что на подобные темы люди часто спорят и спорят, порой отчаянно, до ссор и взаимных оскорблений. Да, да, такое иногда случается. Какая музыка лучше? К какой из них стоит относиться с уважением, а к какой нет? На это я лично отвечу так: человек, противопоставляющий симфоническую музыку музыке камерной, или так называемой легкой, или человек, пытающийся утвердить, допустим, современную песню за счет народной или наоборот, напоминает мне непропорционального, почти уродливо развитого человека. Вот есть среди молодежи разных стран такое спортивное течение, которое называется культуризмом. Занятие это к подлинному спорту, по-моему, отношение имеет довольно отдаленное. Люди «накачивают» себе мышцы. Да, да, не занимаются каким-то интересным видом спорта, ну, скажем, плаванием или гимнастикой, а тупо, путем бесконечного повторения какого-то определенного движения «накачивают» себе мышцы, ну, скажем, бицепсы на руках. И порой, глядя на такого геркулеса с могучим торсом, вы даже и подумать не решитесь, что у него, возможно, слабоватое сердце, прокуренные легкие и вообще эти быстро заработанные мышцы, во-первых, не так уже и сильны, а во-вторых – не слишком долговечны, стоит прекратить на время это тупое «накачивание», и такие полубутафорские мышцы тают чуть ли не на глазах. Вот такого-то культуриста и напоминают мне люди, противопоставляющие один музыкальный жанр другому. Это своего рода «музыкальные культуристы».
Человек восхваляет музыку рок или поп-музыку, при этом с презрением отзывается о музыке Верди, Чайковского или Бизе. Серьезно это? Нет, скорее глупо. Пусть будет музыка рок, кантри, твист или еще какая-то иная, но почему так ограничивать себя? Почему очерчивать вокруг своих ног нечто вроде мелового круга, за который ты не желаешь сделать ни шагу? Нет, я вовсе не требую, чтобы люди были всеядными, чтобы они в равной степени любили все. Кто-то может любить симфонии, кто-то любит романсы, кому-то ближе оперетта или эстрадные песни. Пусть будет так. Но почему одно должно вытеснять все остальное? Вот я, например, природу Урала и сибирские леса предпочитаю всем прочим морским или степным пейзажам. Однако было бы, вероятно, просто ограниченностью с моей стороны полностью зачеркивать для себя ласковую, пронизанную солнцем, зеленоватую волну Черноморья или бескрайнюю степь Украины. И ближе мне не тот или иной музыкальный жанр, а та или иная музыка.
Что для меня является критерием подлинной музыки? Мелодия. Без мелодии для меня музыки нет. И когда мне предлагают вместо музыки одни ритмы, я воспринимаю это как отдельные нитки, выдернутые из ткани. Это часть общего, но не само целое. Поп-музыка, где один ритм без мелодии (мне лично демонстрировали именно такую), меня не взволновала. Может быть, есть еще какая-то иная, но то, что слышал я, – это один ритм, пусть порой очень изобретательный, но всего лишь тело без души. Душа же любой музыки, повторяю, мелодия. И если мелодия хороша, если она трогает мою душу, тогда музыка эта мне нравится, я ее помню и готов когда-то снова вернуться к ней. Мелодия должна быть всегда и везде. Какая угодно: простая или сложная, но мелодия, а не какофония звуков. С этой точки зрения я подхожу к любому произведению, будь то симфония или опера, романс или самая простенькая песенка, вплоть до песенки для детей. Пусть в симфонии мелодия трансформируется самым замысловатым образом, пусть там будет не одна, а несколько, даже много мелодических линий, но они там должны быть в любой интерпретации и сочетаниях и под каким угодно замысловатым ракурсом, но мелодия должна быть началом главным, определяющим. Там же, где мелодии нет, где есть лишь музыкальный грохот и ритмический набор музыкальных фиоритур, сердце мое остается к такой музыке равнодушным. Я не знаток музыки, не специалист, я ее любитель. Иначе говоря, я тот, на кого рассчитывал творец, почти всякой музыки. Не на профессионала, не на того, кто играет, а на того, кто слушает. Вот я как раз он и есть.
Какая музыка волнует меня больше всего? Вопрос этот только на первый взгляд кажется простым. Если же вдуматься в него, то он становится для меня громадным и до конца, может быть, почти неразрешимым. Почему? Да потому что очень трудно назвать все то, что волнует меня в безбрежном океане музыки. Задать такой вопрос – это почти то же самое, что спросить: какая река на земном шаре кажется вам самой прекрасной? На одних ты побывал сам, с другими знаком по картинам, фотографиям, кинофильмам да просто по книжным описаниям. Хорошо, пусть даже не я, а человек, который всю свою жизнь только и делал, что занимался путешествиями, возьмется ответить на этот вопрос. Думаю, что и он будет в очень большом затруднении. И все-таки как ни прекрасны все реки на земле, а в памяти вашей начнут постепенно вырисовываться какие-то определенные картины, которые вам, очевидно, запали в душу больше других.
Так, наверное, и с музыкой. Я попробую назвать вам целый ряд имен и произведений, которые мне ближе и дороже всего, но заранее оговорюсь, что это будет лишь часть того, что мне дорого в музыке. Всего я попросту не смогу ни назвать, ни вспомнить. Человек, как я уже сказал, имеет право отдавать предпочтение тому или иному музыкальному жанру, больше того, это естественно. Но принимать одно, полностью отрицая другое, значит, обидеть не музыку, а самого себя. В этом я глубоко убежден. И еще одна мысль: грань между серьезной музыкой и так называемой легкой зачастую очень условна. И многие произведения, по-моему, причисляются к той или иной рубрике самым произвольным образом. Ну вот давайте возьмем для примера три замечательных музыкальных произведения. Три превосходных вальса: Вальс до диез минор Шопена, вальс «Весенние голоса» Штрауса и старинный русский вальс «Грусть». Все три вальса неповторимо хороши, каждый по-своему. Но вальс Шопена относится к жанру камерной классики, это музыка серьезная, вальс Штрауса – это уже классическая легкая музыка. А старинный русский вальс – это музыка, условно говоря, танцевальная, под нее только танцуют. Симфонические оркестры или лауреаты пианисты последний из названных мною вальсов не исполняют. Условность? Да, и еще какая условность!
Какая музыка волнует меня? К чему мне чаще всего хочется прислониться душою? Прежде всего мне хотелось бы поговорить о больших музыкальных полотнах. Хорошую симфоническую музыку я люблю очень. Без нее я просто не мыслю своего существования на земле. Однако симфоний я назову всего несколько. Но это не потому, что симфонии, которые я не упомяну, меня не интересуют, а совсем по иной причине. Вы обращали когда-нибудь внимание на то, как люди слушают музыку? Я неоднократно наблюдал и убедился, что люди это делают, если так можно выразиться, с разной степенью отдачи. Я имею в виду не поведение их в концертном зале, не движения и не мимику. Я говорю о силе сопереживания, о внутреннем напряжении, о нервной «температуре», что ли! Так вот, одни люди слушают музыку более или менее спокойно, сосредоточенно или рассеянно, но спокойно.
Она им, допустим, нравится, они погружаются в нее, как в струи теплого воздуха, и словно бы отдыхают в этом приятном состоянии. Другие же (их значительно меньше) все больше и больше волнуются, включают все свои внутренние резервы, переживают остро, бурно и доверчиво-горячо. В самых же напряженных и сильных местах горят жарким пламенем и сгорают, без всяких преувеличений, почти дотла.
Думаю, что вот к этой-то категории «неистовых слушателей» принадлежу и я. Нервная же система, как запас сил у спринтера, способна отдать страшно много, но на короткую дистанцию. На длинной требуется, вероятно, музыкальный «стайер» с его спокойным размеренным «бегом». Вот почему я так устаю, слушая симфонии. Устаю в самом буквальном смысле. Радуюсь, наслаждаюсь и выматываюсь подчас весь, до конца! Спокойные люди, может быть, в чем-то счастливее меня. Они и гореть не горят и гаснуть не гаснут. Для них, скажем, часовая симфония – простое дело. Им было хорошо, они получили что-то приятное, дорогое, но остались во всем абсолютно целехоньки. Одним словом, «стайеры». Я говорю о них без иронии. Просто констатирую факт, и все. Вот почему мне ближе, а вернее, «безопаснее» более короткие произведения. Сонаты, фортепьянные или скрипичные концерты, арии и т.д.
И все-таки есть такие симфонии, которые я готов слушать, даже сгорая в порошок! Это Пятая и Девятая симфонии Бетховена, Пятая симфония Чайковского, Седьмая Ленинградская симфония Шостаковича и Первая симфония Брамса, которая чем-то неуловимым близка симфониям Бетховена, может быть, грустью, светом и могучестью, что ли. К симфоническим же произведениям я отношу и «Шахерезаду» Римского-Корсакова, и музыку к драме «Эгмонт» Бетховена, и музыку к драме «Пер Гюнт» Эдварда Грига.
Симфонии, которые я только что назвал, являются, по моему глубочайшему убеждению, вершиной красоты человеческого духа. Профессионально о них я говорить не буду. Во-первых, потому что я не музыкант, а во-вторых, потому что о них написано множество объемистых произведений, где все, буквально все, оценено и разложено по полкам. Я так музыку препарировать не умею и, честно говоря, не люблю. Я ее чувствую. Вот все, что я могу для нее сделать. И это, вероятно, то, что дорого любому творцу музыки и вообще любого произведения литературы и искусства.
Когда я слышу Девятую симфонию Бетховена, то сразу же, с первых могучих и страстных звуков я перестаю ощущать время, здание, в котором я нахожусь, на все это время забываю имя дирижера, название оркестра, наконец, соседей по залу или комнате, в зависимости от того, на концерте или по радио я слушаю музыку, и погружаюсь в удивительный мир борьбы и торжества человеческого духа. Разные картины возникают перед моим мысленным взором. Иногда я представляю себе утлый кораблик, отважно пробивающийся сквозь штормовой ветер и огромные валы к далекой и прекрасной гавани. Его швыряет из стороны в сторону, ветер глушит голоса людей, мачта сломана, волны перекатываются через палубу и каюты, холод, тучи, мрак. Но в сердце капитана и его матросов неколебимая вера в победу. Все чаще пробивается солнце, все реже набегают валы, все ближе залитая теплыми и живительными лучами милая гавань с ослепительно-синими водами, с белоснежными взлетами чаек и плачущими от счастья женщинами на теплом граните пирса. Иногда же я вижу человека, который, может быть, выбрался из развалин какого-то дома или вышел из сырой болотистой чаши, где нет ни света, ни свежего воздуха. На руках у него раненый друг, а может быть, ребенок. И вот он взбирается в гору. Ветер валит его с ног, колючие кусты рвут одежду. Он теряет силы, внизу пропасть и мрак, вверху – спасение, люди, жизнь. Он двигается из последних сил, как ему тяжело, как устали руки, как спотыкаются о каждый камушек его разбитые в кровь ноги. Но он верит, что дойдет, ему нельзя иначе, и он идет, идет, идет, побеждая все! И вот он на вершине, где солнце, где те, кто почти перестал верить в его приход, где жизнь, где счастье, где победа. Он стоит под алыми лучами солнца, он показывает малышу весь мир и улыбается устало и радостно, что-то тихо говорит, и горячие слезы катятся по его щекам…
Может быть, это неправильно. Может, слова мои покажутся кому-то даже смешными, но я пишу так, как чувствую. И у меня есть право на свое собственное восприятие. Но это еще не все. Иногда… иногда я вижу спину. Только спину. Широкую, могучую спину и черную гриву волос. Он играет на фортепиано. Играет, не слыша не единого звука. Впрочем, нет, он слышит сильнее, острее, жарче, чем все люди на земле! Вокруг него убогая обстановка. Старенький сюртук сброшен на продавленный диван, рукава рубахи засучены выше локтей. Глаз его я не вижу, но они горят испепеляюще ярким синим огнем. Этот взгляд я чувствую всем своим существом. Человек не просто играет, не просто творит, нет, он сражает зло, он потрясает все мелкое и подлое на земле! Могучая прекрасная музыка раздвигает стены, переливается на улицу, затопляет весь город, всю страну, весь мир! Она торжествует и говорит человеку: «Ты можешь все! Если захочешь, ты в силах стать, красивым, сильным, счастливым! И если не смог победить сегодня, иди все равно вперед, победа ждет, но она приходит только к целеустремленным и сильным! Иди!» Я не целовал руку ни разу ни одному мужчине на земле. А этому человеку поцеловал бы с низким поклоном! Причем подобные ощущения охватывают меня не только при исполнении одной из его симфоний, но и многих и многих других. И когда я слышу его Пятую, и когда звучат потрясающие звуки его увертюры к драме Гете «Эгмонт». Вообще, когда играют Бетховена – моего любимого композитора, я счастлив и чувствую необыкновенный прилив сил!
Пятую симфонию Чайковского воспринимаю я несколько иначе. Для меня это Россия. Голос Родины. Родная земля. Произведение это глубоко патриотичное. Я ощущаю его как лирическое и как гражданское в одно и то же время. Симфония эта может быть понята любым человеком на земле, ибо она проста, прекрасна, благородна и человечна. И в то же самое время это совершенно русское произведение. И вот что еще интересно: 1-я симфония Калинникова, например, тоже глубоко русское произведение. Но они очень разные. Симфонию Калинникова я не назвал в самом начале только по преступной забывчивости. А она находится в числе моих самых дорогих и любимых произведений. И оценена в мире, думается мне, пока еще недостаточно. Хотя симфония эта великолепна. Чем же отличаются друг от друга эти два гениальных произведения? (Нет, я не оговорился, причислив оба эти творения к разряду гениальных. В этом я совершенно убежден.) Симфония Калинникова, как мне кажется, – это русская природа, с ее неповторимыми левитановскими пейзажами, мягкой, задумчивой грустью, далекой, хватающей за сердце песней, щемящей тоской, родниковой прохладой, застенчивой улыбкой девушки и горячей, до слез, благодарностью к народу, родной земле.
Симфония Чайковского тоже самая что ни на есть русская. Но она в отличие от симфонии Калинникова более многопланова, что ли. Это и русская лесная белоствольная красавица, и Александр Невский, и задумчивая печаль, и бурная радость. Это любовь и буря, хрупкая нежность и великая мощь. Когда я слушаю Пятую симфонию Чайковского, то чувствую себя сильным, красивым, умным и вообще способным творить на земле чудеса. Так неповторима и так прекрасна эта симфония. Особенно великолепен ее финал. Не знаю, может быть, я наивен, но мне кажется, что просто трудно найти на свете музыкальные творения, способные подняться выше этого финала! Мажорное звучание медных инструментов, редкостной красоты мелодия, торжественное звучание всего оркестра создают впечатление чего-то могучего, возвышенного и прекрасного. Это гимн жизни. И хоть в ней нет вокальной «Оды к радости», как у Бетховена, но все равно это песня, гимн несокрушимой силе нашей земли, мудрости и доброте нашего народа, гимн правде, справедливости и всему прекрасному на земле! Простите меня за невольную патетику, но иначе я тут просто не могу. Когда я слышу финал Пятой симфонии Чайковского, то вижу гигантский стяг нашей Родины в праздничный день, вскинутый в лучах солнца в ослепительную синеву высоко, высоко над землей!..
Первая симфония Брамса чем-то близка симфонической музыке Бетховена, но не страстным, не бурным, не гневным ее частям, а, если можно так выразиться, ее элегическим интонациям, задумчивым, но глубоким. При этом музыка Брамса остается абсолютно самобытной и неповторимо яркой. Когда я слушаю симфонию Брамса, то на память почему-то сразу приходят строки Пушкина:
…Мне грустно и легко, печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою…
В музыке нет ни взрывов смеха, ни слез. Это грустная, прекрасная и светлая музыка. Есть в ней что– то от той же любимой поэтом осени, где тихо и торжественно горят «в багрец и золото одетые леса». Льется музыка, и душу охватывает какая-то тихая грусть. Всего тебя словно бы обнимает мягкий и свежий ветерок. Где-то далеко-далеко, в гаснущем блеске зари, за мягким кружением листопада видятся глаза, печальные и дорогие… Глаза, которых, может быть, уже и нет на земле…
Очень люблю 40-ю симфонию Моцарта. Эта симфония, мне кажется, могла бы оживить даже навеки почившего человека. Так она жизнерадостна, порывиста и взволнованна. Красота мелодии, вера в жизнь, в счастье и во все живое на земле – все слилось в этой крылатой, стремительной, грациозной и солнечной музыке. Слушая ее, я всегда чуточку улыбаюсь радостной и теплой какой-то, приветливой улыбкой. Хорошая музыка порой сильней хорошего вина.
О Седьмой симфонии Шостаковича написано столько литературы, что, какие бы слова я ни сказал о ней, все будет лишь повторением сказанного. Поэтому я не буду давать оценок или пытаться что-то объяснить в этой симфонии. Я скажу только, как воспринимаю этот шедевр. Люди старшего поколения пережили войну. Младшие знают о ней по книгам и кинофильмам. Я пережил на войне едва ли не все горькое, что только может пережить на войне человек. Седьмая симфония была написана зимой 1941/42 года в холодном и голодном, но непобежденном Ленинграде. И в те самые дни, когда в нетопленой с заиндевевшими углами квартире упрямый человек писал свою упрямую музыку, я аккомпанировал тихим звукам его рояля взрывами моих снарядов по врагу в районе Синявино и станции Мга. Мы пробивались к Ленинграду, мы рвались к тем, кто стойко переносил все ужасы блокадной зимы. И когда теперь я слушаю Седьмую Ленинградскую симфонию, я словно бы заново переживаю все, что пережил тогда. И вообще за все военные годы. Впрочем, это не все. За все трудные годы, за все горькие и сложные дни, когда проходишь сквозь беду, побеждая и веря в обязательную победу. В душе моей словно бы сшибаются и бьются насмерть пронзительная, образно-железная музыка, олицетворяющая тупую поступь врага, злобу, фашизм, все жестокое на земле, и светлая, ясная, все нарастающая победоносная музыка правды, света, победы! И я словно бы стараюсь помочь ей, этой светлой музыке, одолеть, заполнить все, открыть синее небо!
Называя ограниченное количество симфоний, я вовсе не думал умалить 3-ю Героическую Бетховена или его Пятую. Нет, эти симфонии оказывают на меня почти то же действие, что и Девятая. Я назвал ее, как, может быть, лучшую, с моей точки зрения, среди равных. Надо еще заметить такое, конечно же, случайное совпадение, что нечетные симфонии Бетховена ближе моему сердцу, чем его четные, хотя, повторяю, градация, может быть, очень условная, ну на какие-то проценты, что ли.
Совершенно особое место в душе моей занимают несколько огромных музыкальных полотен трех разных композиторов: симфоническая сюита Римского-Корсакова «Шахерезада», балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» Чайковского и музыка Эдварда Грига к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт».
Совершенно не похожи между собой творческие манеры этих трех музыкальных гигантов. Различны сюжеты их произведений, различны краски и взгляды на жизнь. Почему же я поставил все эти полотна рядом? Отчего занимают они в душе моей совершенно особое место? Да потому что есть в них и нечто общее, то, что трогает в моем сердце совершенно особые струны. И имя этому чувству: Мечта, Фантазия, Сказка. Как бы ни был превосходен реальный мир, для сказки в нашей душе всегда есть место. Ибо там, где кончаются права у природы, начинаются права сказки. Сказка отсекает зло и концентрирует в себе все самое светлое, совершенное, прекрасное и, что самое, может быть, важное, самое справедливое. Как бы ни любил реальную жизнь человек, без мечты, без фантазии, без нарядной, как райская птица, сказки полнокровно и ярко он жить не может.
«Шахерезада» Римского-Корсакова – это не просто музыкальная иллюстрация к собранию восточных сказок, это вторая, не менее прекрасная музыкальная «Тысяча и одна ночь».
Трудно найти в мировой музыкальной культуре произведение, где с такой поэтической красочностью были бы нарисованы, да, да, именно нарисованы, а не просто сочинены смелой волшебной кистью экзотические картины древнего Востока. Картины настолько поэтичны, настолько красочны и зримы, что кажутся совершенно живыми. Слушаешь музыку, полную изумительных мелодий, пронизанную насквозь восточными ароматами и колоритом Востока, и словно бы смотришь яркий, праздничный и необыкновенный цветной широкоэкранный фильм. Дослушав последнюю ноту, долго еще сидишь в каком-то просветленном, радостном, честное слово, почти «заоблачном» состоянии, не в силах какое-то время вернуться к повседневным делам.
Не менее, наверное, ярка, колоритна и самобытна музыка Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт». Не знаю, может быть, я погрешу против общепринятых догм, но при всем своем самом искреннем уважении к автору превосходной драмы «Нора» и многим другим его шедеврам, в данном случае отношение мое к драме «Пер Гюнт» и музыке к ней неравноценно. Музыка Грига кажется мне значительно сильней и выразительнее драмы. Она легко может быть отделена от пьесы и, почти ничего не теряя, может жить своей великолепной, самостоятельной жизнью. Драма же эта без музыки, как лишенное плавучести судно, пойдет ко дну. Возможно, что кто-то со мной не согласится, но думать от этого по-иному я все равно не смогу. За исключением трогательного образа Сольвейг, которая появляется лишь в начале и в конце драмы, да эпизодического образа матери, все живое население пьесы вызывает неприятное чувство. И как ни мудр, может быть, замысел автора, но сам Пер Гюнт, которого Ибсен все-таки хоть и осуждает, но любит, настолько жесток, неблагодарен и грубо бессердечен, что без конца морщишься и не устаешь возмущаться этим олицетворенным бездушием.
Что касается до музыки Грига, то входишь в нее, как в какой-то удивительный, яркий и загадочный сад. Тут все по-норвежски сурово и строго и вместе с тем удивительно, красиво и сказочно. Что в ней прекраснее всего: песня Сольвейг? Картины таинственного царства подземных духов? Бешеная, все убыстряющаяся пляска троллей? А может быть, полный восточной неги, ленивый и прекрасный танец Анитры? Сказать это, без сомнения, так же трудно, как выбрать лучшую из только что срезанного букета роз! Подлинно талантливое всегда имеет свое, неповторимое лицо. Романтически приподнятую, гордую, то могуче-грозную, то журчаще-ласковую музыку Грига можно узнать сразу, с первых же звуков. А услышав однажды – нельзя забыть никогда. Живопись и поэтичность ее иная, чем у Римского-Корсакова, но она так же выпукла, красочна, ароматна и полна своей, не менее удивительной прелести и красоты. Вот пишу эти строки и слышу, как в душе моей медленно, накатываясь какими-то волнами, сменяют друг друга мелодии Эдварда Грига, вот только что затих загадочный танец Анитры, и все отчетливей и громче нарастают нежные звуки серебристой песни Сольвейг…
Балетную музыку Чайковского я ничему не противопоставляю и не сравниваю ни с чем. Это совершенно особое царство, редкостный по красоте и, если так можно сказать, трепетной незащищенности, волшебный мир. Сказка? Да, сказка. Поэтическое многоцветье – безусловно да. Глубина? Выразительность? Свежесть? Да, да, все это, конечно, есть. И тем не менее живет в этой музыке и нечто такое, чему, вероятно, попросту нет на обычном нашем языке и названия. Ну, а если все-таки хоть как-то попытаться об этом сказать, то говорить, вероятно, надо о чуде, сотворенном рукою гения, о волшебном слиянии поэзии, музыки и красоты.
Однажды в июле 1961 года в Одессе я испытал удивительные ощущения. Стояла на редкость тихая, теплая, лунная и ласковая даже для юга черноморская ночь. Ни ветерка, ни шороха листьев. Море дремало, припав бархатисто-влажной щекой к берегу, без всякого движения, без всплеска. И только в загадочных потоках лунного света с оглушительной радостью гремели цикады. Кто-то из моих друзей отдыхающих предложил мне искупаться. Честно говоря, я экстравагантных ощущений не жаждал никогда. И ночными купаниями не соблазнялся, считая, что для этого довольно и дня. Но эта ночь была такой необыкновенной, что я пошел. Пошел и не пожалел. Дневной жар давно остыл, и в воздухе было градусов 16–17, не больше. В море же, как мы потом узнали, было 25. И вот представьте себе на мгновение тихую, усыпанную огромными звездами южную ночь. Янтарные лунные блики на маслянисто-черной воде, густой опьяняющий запах цветов и соленого моря. И могучий симфонический оркестр, состоящий из тысяч лирически настроенных цикад! И вот, спускаясь с деревянных мостков в воду, ты, оставляя позади ступеньку за ступенькой, погружаешься не в море, нет, ни в какую там не в воду, а в нечто удивительно прохладное, теплое, нежное, ну, в общем, такое, о чем ни в сказке сказать, ни пером описать! Нет, я ни капельки не преувеличиваю. Попытки повторить подобные мгновения ни к чему не привели. Ни до, ни после я никогда не испытывал такого поразительно блаженного состояния, когда покачивался в ту ночь еле-еле в этой волшебно-невесомой радости. И чего, видимо, уже никогда не испытаю вновь. Слишком много должно было совпасть для этого блаженного ощущения компонентов. Нет, я не хочу сравнивать ощущения этой ночи с музыкой, но все-таки когда я думаю о балетах Чайковского, то мне невольно вспоминается красота и радость того неповторимого южного чуда. Впрочем, нет, когда я слышу балетную музыку Петра Ильича Чайковского, то ограничить мир своих чувств сравнением с ощущениями удивительной южной ночи значило бы сказать обо всем слишком все-таки мало. Рядом с этой музыкой соседствуют в душе моей произведения другого горячо любимого мной также с детских лет человека – Ганса Христиана Андерсена. И хотя Чайковский писан на иные сказочные сюжеты, вот это сопоставление будет гораздо более полным. Сказки Андерсена зажгли во мне с первых мальчишеских лет любовь ко всему светлому, благородному и прекрасному. Разбудили во мне огромный, яркий и радостно-пестрый фантастический мир. Балетная музыка Чайковского сделала то же самое. Я даже не представляю себе, как бы жил наш мир, если бы в нем не было, я не говорю обо всем творчестве, но хотя бы вот этой невыразимо-прекрасной балетной музыки Петра Ильича. И танец Одетты, и танец маленьких лебедей, свежий и трепетный, как розовая утренняя заря. Почти уже целое столетие порхают по сценам всего мира эти хрустально-чистые, быстрые и прозрачные звуки вместе с белоснежными крохами. А таинственный, полный удивительно тонкой прелести вальс из «Спящей красавицы»? Да что там вальс, весь балет, каждый танец, каждая нота… И венец всей этой балетной музыки – «Щелкунчик». Да, по моему глубочайшему убеждению, «Щелкунчик» – это на сегодняшний день вершина балетной музыки. И если со мной кто– то, может быть, не согласится, я не огорчусь. Ведь от того, что я в этом убежден, никакого вреда нет. Не так ли? А музыку к «Щелкунчику» я могу слушать без конца. Особенно поздно вечером, когда в комнате никого нет, за окном стихает уличный шум, а за шкафом и по углам прячутся молчаливые тени…
Помните этот удивительный, медленный сказочный танец Феи Драже, исполняемый на каком-то загадочно позванивающем инструменте? Если я не ошибаюсь, он называется челеста. А стремительнозадорный танец маленьких арапчат? Так и видишь их веселые черномазые мордашки с полными красными губами и большими вращающимися белками глаз. Они кружатся, смеются, забавно подпрыгивают, словно поддразнивая друг друга, и исчезают так же неожиданно, как и появились. А полный восточной неги, редкий по своей неповторимой красоте Арабский танец? А танец маленьких китайчат? А марш шоколадных солдатиков? А вальс Маши и Щелкунчика? А торжественно прекрасное па-де-де, оно накатывается сверкающими волнами и, упав, словно бы рассыпается на тысячи синих, золотых, алых и изумрудных звуков. Да, я готов слушать эту музыку без конца. Сколько доброго сделала она для меня, сколько хорошего! И я вновь с абсолютной убежденностью говорю: балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» – это вершина мировой балетной музыки.








