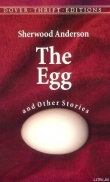Текст книги "Яйцо ангела"
Автор книги: Эдгар Пэнгборн
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
(1. Здесь почерк доктора Бэннермана меняется. Теперь он пользуется мягким карандашом вместо пера, и в почерке заметна торопливость. Однако, несмотря на это, он куда яснее, тверже и легче для чтения, чем ранние записи. Блэйн.
2. Несмотря на поверхностные изменения в почерке, эта подпись была признана экспертами-графологами подлинной. Блэйн).
9 июля.
Сегодня процедуры не будет. Мне следует чуточку отдохнуть. Вижу, что последний раз я писал в дневнике месяц назад. Мое полное возобновление идет три недели, и я уже смог отдать первые двадцать восемь лет своей жизни.
Так как обычный сон мне больше не нужен, восстановление идет по ночам, как только в деревне гаснут огни и опасность вмешательства снижается. Днями я вожусь по дому обычным манером. Продал Стилу своих кур, а жизнь Джуди была собрана неделю назад: это завершило все мои заботы, разве что пришлось написать дополнение к моему завещанию. Можно сделать это прямо здесь, в этом дневнике, чтобы не беспокоить моего адвоката. Оно будет законным.
ТЕМ, КОГО ЭТО КАСАЕТСЯ. Настоящим завещаю своему другу Лестеру Морсу, доктору медицины, из Огасты, Мэйн, кольцо, которое будет найдено после моей смерти на пятом пальце моей левой руки; и я настоятельно прошу доктора Морса хранить его в своем личном распоряжении постоянно и распорядиться им на случай собственной смерти тому лицу, к которому он питает наибольшее доверие.
(Подпись: Дэвид Бэннерман).
Вечером она улетела ненадолго, и я могу отдыхать, делая что угодно до ее возвращения. Использую это время, чтобы заполнить пробелы в этих записях, но боюсь, что это будет работа урывками, неудовлетворительная для любого человека, подверженного славной болезни – зуду фактов. Так будет потому, что многое мне уже кажется неважным. Хлопотно решать, какие предметы могут считаться важными для заинтересованных чужаков.
Кроме отсутствия какого бы то ни было желания спать, и телесной усталости, ничуть не противной, не замечаю больше никаких специфических эффектов. Не осталось ни малейших воспоминаний о том, что происходило до моего двадцать восьмого дня рождения. Моя дедуктивная память оказывается весьма действенной, и я уверен, что смог бы восстановить почти все, если бы это стоило труда: после обеда я рылся в старых письмах того времени, но они были неинтересны. Знание английского не затронуто; я по-прежнему читаю статьи по-немецки и отчасти по-французски, потому что я довольно часто пользовался этими языками и после двадцати восьми. Обломки школьной латыни начисто исчезли. То же самое с алгеброй и со всей математикой, кроме самых начал геометриеи: они мне никогда не были нужны. Помню, как я думал о маме после двадцати восьми, но не уверен, что сложившийся тогда образ действительно ее. Отец умер, когда мне был тридцать один год, так что я помню его сейчас лишь больным стариком. Уверен, что у меня был младший брат, но он, должно быть, умер ребенком. (Мать д-ра Бэннермана скончалась в 1918 году от инфлюэнцы. Его брат был тремя годами старше, а не младше: умер от пневмонии в 1906 году. Блэйн)"
Да! Уход Джуди был мирным. Думаю, даже приятным для нее. Он занял больше половины дня. Мы ушли в заброшенное поле, и она лежала на солнышке; ангелочка сидела рядом с нею, пока я копал могилу, а потом бродил, собирая дикую ежевику. Ближе к вечеру ангелочка сказала мне, что все кончено. Это оказалось очень интересно, сказала она. Не думаю, что в этом есть что-то порочащее бедную Джуди: ведь тяжелее всего смывать наши любимые самообманы.
Как объяснила мне ангелочка, ее народ, их коты, те "кенгуру", человек и, очень вероятно, коты нашей планеты (с ними она еще не встречалась), являются единственными из ведомых ей животных, способных развивать в себе самообманы и дутые претензии. Я предположил, что она могла бы отыскать нечто похожее, по крайней мере в рудиментарных формах, и среди других приматов. Она невероятно заинтересовалась и захотела узнать все, что я мог рассказать о мартышках и высших обезьянах. Кажется, на той планете были некогда неуклюжие, тяжелокрылые существа, столько же напоминавшие ангелов, сколько большие антропоиды нас. Они вымерли около сорока миллионов лет назад, несмотря на просвещенные попытки сохранить их вид в живых. Уровень их рождаемости стал недостаточным для возобновления, будто просто затухла какая-то важная искра: почти так, как если бы природа, или как бы вы назвали Неведомое, деликатно стала вычеркивать их из своего списка...
Снятие не показалось мне болезненным – по крайней мере в ретроспекции. Были, должно быть, острые моменты, милостиво забытые вместе с их причинами, словно процесс шел под анестезией. Разумеется, в свои первые двадцать восемь лет я пережил достаточно инцидентов, которые не собирался предлагать ничьему пониманию, кроме ангельского. Очень часто я бывал низок и себялюбив, многими способами, если судить по записям тех лет. Старые письма затрагивают немногие из таких вещей. Для меня они теперь имеют значение лишь как материал для записей, по-другому недоступный мне.
Однако всем, кому когда-то принес вред, я хотел бы оказать вот что: вам причинили боль те стороны моей человеческой природы, которые, возможно, перестанут быть такими обычными для всех нас через несколько миллионов лет. Против этих темных стихий я и боролся на свой человеческий лад, как и вы. Усилия не пропали даром.
Через неделю после того, как я сказал ангелочке о своем решении, она была готова начать снятие. Все это время она исследовала мой теперешний разум куда тщательней, чем я считал возможным: она хотела быть уверенной. За эту неделю строжайшего допроса она, смею сказать, узнала о нашем роде более, чем когда-либо попадало в записи практикующего терапевта; надеюсь, что так. Любому психиатру, который возьмется это оспаривать, я предложу взгляд натуралиста: легко вообразить, особенно потрудившись как следует, что мы увидели все, что мог дать нам этот пятачок земли; но измените лишь чуточку угол зрения выройте ямку в фут глубиной, или залезте на дерево, взгляните вниз – и перед вами целый новый мир.
Когда ангелочка не была занята исследованиями подобного рода, она изо всех сил старалась явить мне все удовольствия и миллионы вознаграждающих впечатлений, ждущих меня на другом пути. Я понимал, насколько это необходимо; но временами это казалось почти жестокостью. Ей необходимо было сделать это, ради меня же самого, и я рад, что сумел как-то устоять в своем прежнем выборе. И она в конце концов обрадовалась:, она даже сказала, что любит меня за это. Что эти волнующие слова на деле означали для нее, не проникло в мой мозг: я рад принять их в простом человеческом смысле.
В один из вечеров той недели – кажется, это было двенадцатого июня Лестер заглянул на стаканчик шерри и партию в шахматы. Мы долго не виделись сначала до, а потом после этой встречи. Этим летом возникла умеренная угроза эпидемии полиомиелита, он тревожился. Ангелочка спряталась за книгами на верхней полке – там ведь полно пыли! – и забавлялась, глядя на нашу игру. Ей отлично было видно твою лысую макушку, Лестер; позже она заметила, что ей понравилась твоя внешность и нельзя ли что-нибудь сделать с твоим лишним весом? Она предложила смелый эксперимент, который, несомненно, время от времени планирует и твоя медицинская натура – есть поменьше.
Наверное, ей не стоило делать этого с шахматами. В течение первых десяти ходов ничего ужаснее моих обычных зевков не происходило; к тому времени она, видимо, усвоила правила и потихонечку взялась за дело сама. Я не ощущал этого, пока не увидел,что Лестер сидит мокрой курицей, и я вообразил, что мои изумительные ходы есть результат моей чертовской сообразительности.
Серьезно, Лестер, припомни-ка тот вечер. Ведь ты играл на серьезных любительских турнирах: ты знаешь свои способности и знаешь мои. Спроси себя, мог ли я совершить нечто подобное без чьей-то помощи? Повторяю – я не изучил игру за то время, что мы не виделись. Не было у меня в библиотеке ни единой шахматной книги, а если бы и были, никакая учеба не выдвинула бы меня в твой класс. Другой склад ума – просто твой смиренный спарринг-партнер, и ничего более. И мне нравилось быть им, как тебе могло бы нравиться наблюдать за хирургом экстра-класса, творящим чудеса, ,о которых ты и мечтать не смел. Даже если бы игра в этот вечер была ниже обычного уровня (а я так не думаю), я все равно бы не пришпилил тебя к стенке три раза подряд без чьей-то помощи, В тот вечер ты попал совсем не в свой класс, только и всего.
Тогда я не мог тебе ничего сказать – она настояла на этом – так что мне оставалось лишь отговариваться и надуваться, и оставить тебя в недоумении. Но она хочет, чтобы я здесь писал все, что мне угодно, и я почему-то уверен, Лестер, что следующие несколько десятилетий покажутся тебе крайне интересными. Ты еще молод – почти на десять лет моложе меня. Думаю, что ты увидишь, как произойдет все, что я хочу увидеть сам, или хотел бы, не будь я уверен в правильности своего выбора.
Большинство этих событий, я уверен, будут очень яркими. Многие из поворотов к лучшему вряд ли окажутся к этому времени понятыми – и тобой, и другими. Очевидно, что мы, такие, какие мы есть, не перескочим в рай за одни сутки. Надеяться на это – чистый абсурд, все равно что воображать, что любая формула, теория или общественный уклад приведет нас к Утопии.
Мне кажется, Лестер, – и я думаю, что в своем кабинете ты сейчас чувствуешь то же самое, даже если твоя интуиция пока молчит– что сть лишь одна значащая дитва: Армагеддон. И поле Армагеддонова в каждой душе, чей мир бесконечен.
Сейчас я верю: я – счастливейший из всех живущих и живших.
30 июля.
Отдано все, кроме последних десяти лет. Физическое утомление (все еще приятное) стало всепоглощающим. Меня не беспокоят сорняки в огороде – просто другой сорт цветов там, где я планировал посадить что-то иное. А час назад она принесла мне семена одуванчика – показать, какие они прелестные; не уверен, что раньше я это замечал. Надеюсь, что тот, кому достанется это место, вернет его в хозяйство: говорят, что из десяти акров за домом получится отличное картофельное поле – превосходная целина.
Как приятно сидеть на солнышке, словно я уже дряхл. Перелистав ранние записи, вижу, что часто испытывал горечь за свой народ. Вывожу из этого, что я был, наверное, очень одинок, по большей части намеренно. Почти вся моя горечь – не что иное, как уродливый побочный продукт жизни, проведенной в отстранении. Без сомнения, что-то вызвано объективными причинами, однако я не верю, что у меня для этого было больше поводов, чем у любого другого умеренно интеллигентного человека, желающего видеть мир чуть приятнее, чем он есть. Моя ангелочка сказала мне, что боли в спине – это следствие травмы, полученной мною на ранней стадии мировой войны, продолжающейся до сих пор. Возможно, это огорчало меня. Все это также будет в записях.
Ангелочка носится взапуски с колибри – медлит, кажется мне, чтобы дать комочку зеленого пуха умчаться вперед.
Еще одна заметка для тебя, Лестер. Я уже указал, что мое кольцо должно стать твоим. Не хочу говорить, какие свойства я открыл в нем, из страха, что оно не доставит тебе того же удовольствия и интереса, что мне. Ясно, что как любая точка меняющегося света и цвета, оно помогает самогипнозу. Но здесь заключено гораздо, гораздо больше... и все же... но найди это сам, когда-нибудь, когда ты будешь огражден от повседневной суеты. Верю, что ЭТО не принесет тебе вреда, потому что знаю ЕГО источник.
Кстати, я прошу тебя довести до сведения моих издателей просьбу либо прервать набор моего "Введения в биологию", либо предпринять новое издание, пересмотренное в соответствии с заметками, которые ты найдешь в верхнем левом ящике моего стола. Я просмотрел эту книгу после того, как ангелочка убедила меня, что ее написал я, и был изумлен. Однако я боюсь, что мои заметки беспорядочны (назвать их моими – поэтическая вольность) и слишком опережают теперешние представления, хотя пересмотр текста главным образом и будет состоять в удалении некоторых общих мест. Но это на твое усмотрение: учебник не из важных, и дело не слишком значительное. Последний всплеск личного тщеславия.
27 июля.
Я видел ночь двух лун.
Ее показал мне второй из взрослых, в конце чудесного визита, когда он и девять других детей пришли повидать меня. Это было прошлым вечером – да, скорее всего так. Сначала вокруг дома зажурчали их крылья, смеясь, влетела моя ангелочка, затем влетели они и закружились вокруг меня. Сплошь веселье и огнецветные радуги, и все для того, чтобы доставить мне удовольствие – они знали, как. Каждый сумел сказать мне что-нибудь милое и дружелюбное. Один подарил мне движущееся изображение собора святого Лоуренса в раннее утро, сделанное сверху, с высоты полумили – облака, орлы; как он мог знать, насколько это меня обрадует? И каждый благодарил меня за то, что я сделал.
Но это же было так легко!
А в конце старший – у него абсолютно черная кожа, а пух белый с проседью послал мне запечатленный памятью образ ночи двух лун. Он видел ее около шестидесяти лет назад.
Не собираюсь даже пытаться описывать это: мои пальцы сегодня не смогут долго держать карандаш. О... возносящиеся Дворцы янтарного и белого света над нетронутой равниной, серебро изгибающихся рек, вид открытого моря; луна, встающая в ясном небе, и вторая, садящаяся в закатные облака, а между ними широкий разлет незнакомых созвездий; и повсюду ангелы... достойные после пятидесяти миллионов лет жить в таких ночах. Нет, я не могу описать подобное. Но, сородичи мои по человечеству, я могу кое-что получше. Я могу сказать вам, что эта двулунная ночь, как она ни прекрасна, немногим лучше ночи под единственной луной на древней и знакомой Земле – вообразите лишь, что весь мусор человеческого зла отброшен прочь и что наши собственные народы начали наконец величайшее изо всех исследований.
29 июля.
Больше отдавать нечего, кроме памяти о времени, прошедшем с появлением ангелочки. Я могу оставаться здесь сколько захочу и писать что угодно. Потом я поднимусь в спальню и лягу, будто для сна. Она говорит, что я могу оставить глаза открытыми; она сама закроет их мне, когда я больше не буду видеть ее.
Я остаюсь при убеждении, что у человечества есть надежда. Я уверен, что всего лишь через несколько тысяч лет мы сумеем решить простые подготовительные задачи – изгнать зло и возлюбить своих ближних. И если это будет доказано, кто сможет усомниться, что через следующие пятьдесят миллионов лет мы встанем лишь чуть ниже, чем ангелы?..
* * *
ПРИМЕЧАНИЯ ХРАНИТЕЛЯ: Общеизвестно, что оригинал "Дневников Бэннермана", считается принадлежащим д-ру Лестеру Морсу до его исчезновения в 1964 году, и это исчезновение доселе остается неразрешимой загадкой.
Мак-Каррэн посетил капитана Харрисона Блэйна в октябре 1951 года, но никаких записей об этом визите нет. Капитан Блэйн был одиноким холостяком. Убит при исполнении служебных обязанностей в декабре 1951 года. Мак-Каррэн, по всей видимости, не писал никому и ни с кем не обсуждал дело Бэннермана. Почти наверняка им были удалены собственноручно те выдержки из "Дневников", и все связанные с ними бумаги из всех досье (само собой, неофициально!), когда он в 1957 году порвал отношения с ФБР; во всяком случае, они были найдены среди его вещей лишь после покушения и обнародованы много позже миссис Мак-Каррэн.
Нижеследующий меморандум был вначале присоединен к выдержке из "Дневников Бэннермана", на нем стоят инициалы Мак-Каррэна.
Август, 11. 1951.
Оригинал письма-жалобы д-ра медицины Стивена Клайда, упомянутого в сопроводительной записке капитала Блэйна, к несчастью, утерян, очевидно, из-за ошибки при подшивании.
Персонал, ответственный за это, проинструктирован не допускать повторения таких ошибок, кроме случаев, если, когда это необходимо.
К М.-К.
На полях карандашом приписка. Отпечаток достаточно четок, чтобы различить почерк Мак-Каррэна. Приписка читается так:
"Трудно М.-К. потерять свою работу, кроме случая, если, когда и-или..." остальное неразборчиво, кроме ключевого слова, к сожалению, непарламентского.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЛЕСТЕРА МОРСА, Д-РА МЕДИЦИНЫ, ОТ 9 АВГУСТА 1951.
В полдень 30 июля 1951 года, побуждаемый тем, что я определил бы как неожиданный импульс, я поехал в деревню с целью навестить моего друга д-ра Дэвида Бэннермана. Я не видел его и не получал от него писем с 12 июня сего года.
Вошел я, как обычно, без стука. Позвав его и не получив ответа, я поднялся в его спальню и обнаружил, что он мертв. По поверхностным признакам я определил, что смерть имела место в течение прошлой ночи. Он лежал на левом боку, уютно расположившись как бы для сна, но полностью одетым, в свежей рубашке и чистых летних брюках. Глаза и рот закрыты; никакого беспорядка, обычного даже при самой легкой естественной смерти. По этим данным я заключил, определив отсутствие дыхания и сердцебиения и заметив охлаждение тела, что кто-то из соседей уже нашел его, совершил эти простые ритуалы из уважения к нему и, возможно, известил местного врача или других ответственных лиц. Поэтому я ждал (у д-ра Бэннермана не было телефона), что кто-нибудь вскоре появится.
Дневник д-ра Бэннермана лежал на прикроватном столике, открытый на странице, где он записал дополнение к своему завещанию. Эту часть я прочел. Позже, пока я ждал прихода других, я прочел и остальное, как он, я полагаю, и хотел. Кольцо, упомянутое им, было на пятом пальце его левой руки: теперь оно в моем владении. Вписывая это дополнение, д-р Бэннерман, очевидно, просмотрел или позабыл тот факт, что в его официальном завещании, составленном несколько месяцев назад, он назначил меня своим душеприказчиком. Если начнут действовать механизмы закона, буду рад сотрудничать целиком и полностью с соответствующими лицами.
Однако перстень останется у меня, в соответствии с выраженной д-ром Бэннерманом волей, и я не собираюсь предоставлять его для исследований ни при каких обстоятельствах.
Заметки для переработки текста одного из его учебников находились в его столе, как отмечалось в дневнике. Ни в коем случае нельзя счесть их "беспорядочными", и революционными их тоже не назовешь, разве что в стремлении теоретически или гипотетически пересмотреть некоторые аксиомы. Это не моя сфера, и судить я не компетентен. С издателями я поговорю при ближайшей возможности.
Насколько я могу заключить, памятуя о результатах вскрытия, проведенного д-ром Стивеном Клайдом, смерть д-ра Дэвида Бэннермана не исключает наличия эмболии некоего типа, не указанного в протоколе вскрытия. Я так и отметил в свидетельстве о смерти.
Вряд ли в интересах общества оставить такие моменты непроясненными. Я, как медик, считаю необходимым добавить еще один момент, чего бы это ни стоило.
Я не психиатр, но в соответствии с требованиями повседневной практики полагаю нужным быть осведомленным об открытиях и мнениях этой отрасли медицины. По моему мнению, доктор Бэннерман обладал эмоциональной и интеллектуальной стабильностью в большей степени, чем любой из обладающих тем же уровнем интеллекта среди всех моих знакомых, личных или профессиональных. Если возникнет предположение, что он страдал галлюцинаторными психозами, могу сказать лишь, что это тип, выходящий за пределы моих знаний и, насколько мне известно, нигде в литературе не описанный.
Дом д-ра Бэкнермана в полдень 30-го июля был в полном порядке. Рядом с открытым незавешенным окном спальни лежала обувная коробка без крышки, со сложенным на дне шелковым шарфом. Я не нашел описанной д-ром Бэннерманом подушечки, но обнаружил, что от шарфа был отрезан небольшой лоскуток. В коробке и рядом с нею держится особый аромат – слабый, приятный, очень нежный, какого я никогда не встречал и поэтому не смогу описать.
Связано это все с данным случаем или нет, но когда я в тот день оставался в доме, ни горя, ни чувства утраты я не ощущал, хотя д-р Бэннерман был моим любимым и уважаемым другом в течение многих лет. Я просто испытывал, и испытываю уверенность, что после совершения некоего великого дела он наконец обрел покой.
[1]Собака д-ра Бэннермана, упомянутая ранее в дневнике. Девятилетний английский сеттер; согласно записи от 15 мая 1951 г., она начинала слепнуть. Прим. X. Блэйна.