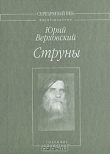Текст книги "Рассказы, не входившие в прижизненные сборники"
Автор книги: Эдгар Аллан По
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Несмотря на прежнее свое решение, я открыл было рот, чтобы пожурить его за божбу, как вдруг услышал у себя за спиной легкое покашливание, словно кто-то тихонько произнес: «Кхе!»Я вздрогнул и с удивлением огляделся. Наконец взгляд мой упал на небольшого хромого господина преклонных лет и почтенной наружности, стоявшего в укромном уголке у стены. Вид у него был самый достойный – он был облачен во все черное, рубашка блистала белизной, уголки воротничка были аккуратно подвернуты, высокий белый галстук подпирал подбородок, а волосы были расчесаны, как у девушки, на ровный пробор. Руки он в задумчивости сложил на животе, а глаза закатил под самый лоб.
Вглядевшись пристальнее, я заметил, что ноги у него прикрыты черным шелковым фартуком, и это показалось мне странным. Не успел я, впрочем, и слова сказать об этом удивительном обстоятельстве, как он остановил меня, снова промолвив: «Кхе!»
На это замечание я не тотчас нашелся что ответить. Дело в том, что на рассуждения такого лаконичного свойства отвечать вообще практически невозможно. Мне даже известен случай, когда одно трехмесячное обозрение растерялосьот единого слова: «Вранье!»Вот почему я не стыжусь признать, что тут же обратился за помощью к мистеру Накойчерту.
– Накойчерт, – сказал я, – что с тобой? Ты разве не слышишь, этот господин сказал «Кхе!»? – С этими словами я строго взглянул на своего друга, ибо, признаюсь, я вконец растерялся, а когда растеряешься, приходится хмурить брови и принимать суровый вид, чтобы не выглядеть совсем дураком.
– Накойчерт, – заметил я (это прозвучало как ругательство, хоть смею вас заверить, у меня этого и в мыслях не было). – Накойчерт, – проговорил я, – этот господин говорит «Кхе!»
Я не собираюсь утверждать, что слова мои отличались глубоким смыслом, но впечатление от наших речей, как я замечаю, далеко не всегда пропорционально их смыслу в наших глазах. Швырни я в мистера Накойчерта пексановскую бомбу или обрушь я на его голову «Поэтов и поэзию Америки», он и тогда не был бы так огорошен, как услышав эти простые слова: «Накойчерт – что с тобой? – ты разве не слышишь – этот господин сказал «Кхе!».
– Не может быть, – прошептал он, меняясь в лице, словно пират, завидевший, что их настигает военный корабль. – Ты уверен, что он именно таки сказал? Что же, я, видно, попался – не праздновать же мне теперь труса. Остается одно – кхе!
Услышав это, пожилой господин просветлел – Бог знает, почему. Он покинул свое укромное местечко у стены, подковылял, любезно улыбаясь, к Накойчерту, схватил его за руку и сердечно потряс ее, – глядя все это время ему прямо в лицо с выражением самой искренней и нелицеприятной благосклонности.
– Накойчерт, я совершенно уверен, что вы выиграете, Накойчерт, – проговорил он с самой открытой улыбкой, – но все же надо произвести опыт. Пустая проформа, знаете ли…
– Кхе, – отвечал мой приятель, снимая с глубоким вздохом свой сюртук, повязываясь по талии носовым платком, опуская концы губ и подымая очи к небесам, отчего лицо его приняло самое невероятное выражение, – кхе! – И, помолчав, он снова промолвил: «Кхе!» – другого слова я так от него больше и не услышал. – Ага, – подумал я, не высказывая, впрочем, своих мыслей вслух, – Тоби Накойчерт молчит – такого еще не бывало! Это, несомненно, следствие его прежней болтливости. Одна крайность влечет за собой другую. Интересно, помнит ли он, как ловко он меня допрашивал в тот день, когда я прочел ему свое последнее наставление? Во всяком случае, от трансцендентализма он теперь излечился.
– Кхе, – отвечал тут Тоби, словно читая мои мысли, с видом задумчивым и покорным.
Тут пожилой господин взял его под руку и отвел в глубь моста, подальше от калитки.
– Любезный друг, – сказал он, – для меня дело чести предоставить вам нужный разбег. Подождите здесь, пока я не займу своего места у калитки, откуда мне будет видно, насколько изящно и трансцендентально вы возьмете этот барьер, – и не забудьте про курбет в воздухе. Конечно, все это пустая проформа… Я сосчитаю «раз – два – три – пошли». При слове «пошли» бегите, но никак не раньше. – Затем он занял свою позицию у калитки, минутку помолчал, словно в глубоком раздумье, а затем взглянулвверх и, как мне показалось, легонько усмехнулся. Потом потуже затянул свой фартук, потом пристально посмотрел на Тоби Накойчерта и, наконец, произнес условный сигнал: – Раз, два, три – пошли!
На слове «пошли», не раньше и не позже, мой бедный друг сорвался в галоп. Калитка была не так высока, как стиль мистера Лорда, но и не так низка, как стиль его критиков. В целом я был совершенно уверен, что он без труда ее перепрыгнет. А если нет? – вот именно в том-то и дело, – что, если нет? – По какому праву, – сказал я про себя, – этот господин заставляет других прыгать? Да кто онтакой, этот старикашка? Предложи он мне прыгнуть, я ни за что не стану – это уж точно, плевать мне на этого старого черта. Как я уже сказал, мост был крытый, в виде такой нелепой галереи, и все слова отдавались в нем пренеприятнейшим эхом, – обстоятельство, которое я особо отметил, произнеся последние два слова.
Но что я сказал и что я подумал и что я услышал – все это заняло лишь миг. Не прошло и пяти секунд, как бедный мой Тоби прыгнул, выделывая ногами в воздухе всевозможные фигуры. Я видел, как он взлетел вверх и сделал курбет над самой калиткой, но по какой-то совершенно необъяснимой причине через нее он так и не перепрыгнул. Впрочем, весь прыжок был делом одного мгновения; предаваться глубоким размышлениям у меня попросту не было времени. Не успел я и глазом моргнуть, как мистер Накойчерт упал навзничь с той же стороны калитки, с какой прыгнул. В тот же миг я заметил, что пожилой господин со всех ног бежит, прихрамывая, прочь, поймав и завернув в свой фартук что-то, тяжело упавшее сверху, из-под темного свода прямо над калиткой. Всему этому я немало поразился; впрочем, времени размышлять не было, ибо Накойчерт лежал, как-то особенно притаясь, и я решил, что он обижен в лучших своих чувствах и нуждается в моей поддержке. Я поспешил к нему и обнаружил, что ему, как говорится, был нанесен серьезный урон. Сказать по правде, он попросту лишился своей головы, и как я ни искал, мне так и не удалось ее нигде найти. Тогда я решил отвести его домой и послать за гомеопатами. Меж тем в голове у меня мелькнула одна мысль – я распахнул ближайшее окошко в стене и тут же узрел печальную истину. Футах в пяти над самой калиткой шла поперек узкая железная полоса, укреплявшая, как и ряд других, перекрытие на всем его протяжении. С острым ее краем, как видно, и пришла в непосредственное соприкосновение шея моего несчастного друга.
Он ненадолго пережил эту ужасную потерю. Гомеопаты давали ему недостаточно малые дозы, да и то, что давали, он не решался принять. Вскоре ему стало хуже, и, наконец, он скончался (да послужит его кончина уроком любителям бурных развлечений). Я оросил его могилу слезами, добавил диагональную полосу к его фамильному гербу, а весь скромный счет на расходы по погребению отправил трансценденталистам. Эти мерзавцы отказались его оплатить – тогда я вырыл тело мистера Накойчерта и продал его на мясо для собак.
ЭЛЕОНОРА [42]42
Перевод Н. Демуровой
[Закрыть]
Я родом из тех, кто отмечен силой фантазии и пыланием страсти. Меня называли безумным, но вопрос еще далеко не решен, не есть ли безумие высший разум и не проистекает ли многое из того, что славно, и все, что глубоко, из болезненного состояния мысли, из особых настроений ума, вознесшегося ценой утраты разумности. Тем, кто видят сны наяву, открыто многое, что ускользает от тех, кто грезит лишь ночью во сне. В туманных видениях мелькают им проблески вечности, и, пробудясь, они трепещут, помня, что были на грани великой тайны. Мгновениями им открывается нечто от мудрости, которая есть добро, и несколько больше от простого знания, которое есть зло, и все же без руля и ветрил проникают они в безбрежный океан «света неизреченного» и вновь, словно мореплаватели нубийского географа, «agressi sunt mare tenebrarum, quid in eo esset exploraturi». [44]44
Вступают в море тьмы, чтобы исследовать, что в нем (лат.).
[Закрыть]
Что ж, пусть я безумен. Я готов, впрочем, признать, что есть два различных состояния для моего духа: состояние неоспоримого ясного разума, принадлежащего к памяти о событиях, образующих первую пору моей жизни, и состояние сомнения и тени, относящихся к настоящему и воспоминаниям о том, что составляет вторую великую эру моего бытия. А потому рассказу о ранних моих днях – верьте; а к тому, что поведаю я о времени более позднем, отнеситесь с той долей доверия, какую оно заслуживает, или вовсе в нем усомнитесь, или, если и сомневаться вы не можете, разгадайте, подобно Эдипу, эту загадку.
Та, кого любил я в юности и о которой теперь спокойно и ясно пишу я эти воспоминания, была единственным ребенком единственной сестры моей матери, давно усопшей. Элеонора – это имя носила моя кузина. Всю жизнь мы прожили вместе под тропическим солнцем, в Долине Многоцветных Трав. Путник никогда не забредал ненароком в эту долину, ибо лежала она далеко-далеко, за цепью гигантских гор, тяжко нависших над нею со всех сторон, изгоняя солнечный свет из прекрасных ее уголков. К нам не вела ни одна тропа, и, чтобы попасть в наш счастливый край, нужно было пробраться сквозь заросли многих тысяч лесных деревьев, растоптав каблуком прелесть многих миллионов душистых цветов. Вот почему жили мы совсем одни, не зная ничего о внешнем мире, – я, моя кузина и мать ее.
Из угрюмых краев, что лежали за далекими вершинами гор, замкнувших наш мир, пробивалась к нам узкая глубокая река, блеск которой превосходил все – все, кроме глаз Элеоноры; неслышно вилась она по долине и наконец исчезала в тенистом ущелье, среди гор, еще угрюмее тех, из которых она вытекала. Мы называли ее Рекой Молчания, ибо была в ее водах какая-то сила беззвучия. На ее берегах не раздавалось ни шороха, и так тихо скользила она, что жемчужная галька на глубоком ее дне, которой мы любовались, не двигалась, а лежала в недвижном покое на месте, блистая неизменным своим сиянием.
Берега этой реки – и множества ослепительных ручейков, бегущих, извиваясь, к ее волнам, и все пространство, что шло от склонов вниз, в самую глубь ее потоков, до ложа из гальки на дне, все это – и поверхность долины, от реки и до самых гор, вставших кругом, были, словно ковром, покрыты мягкой зеленой травой, густой, короткой, удивительно ровной, издававшей запах ванили, по которой рассыпаны были желтые лютики, белые маргаритки, лиловые фиалки и рубиново-красные асфодели, и безмерная их красота громко вещала нашим сердцам о любви и о славе Господней.
Тут и там над этой травой, словно порождения причудливых снов, вздымали стройные стволы невиданные деревья; они не стояли прямо, как свечи, но, выгибаясь изящно, тянулись к солнечному свету, который в час полудня заглядывал в сердце долины. Кора их была испещрена изменчивым ярким сиянием черни и серебра, и была она нежной – нежнее всего, кроме щек Элеоноры; и если б не яркая зелень огромных листов, что спадали с вершин длинным, трепещущим рядом, играя с легким ветерком, деревья эти можно было б принять за гигантских сирийских змеев, воздающих хвалу своему властелину Солнцу.
Пятнадцать лет рука об руку бродил я с Элеонорой по этой долине, пока любовь не вошла в наши сердца. Это случилось однажды вечером, на исходе третьего пятилетия ее жизни, и четвертого пятилетия – моей; мы сидели, сомкнув объятия, под змееподобными стволами и смотрели в Реку Молчания, на свои отражения в ней. Мы не произнесли ни слова за весь этот дивный день, и даже назавтра сказали друг другу лишь несколько робких слов. Из волн мы вызвали бога Эроса и знали теперь, что он зажег в нас пламенный дух наших предков. Страсти, которыми веками славился наш род, слились в своем биении с мечтами, которые равно нас отличали, и пронеслись горячкой блаженства над Долиной Многоцветных Трав. Все в ней переменилось. Странные, яркие цветы раскрылись, словно звезды, на деревьях, которые раньше не знали цветения. Зелень изумрудных ковров стала глубже; а когда, одна за другой, белые маргаритки увяли, вместо них засверкали десятки рубиново-красных асфоделей. И жизнь засияла повсюду, куда мы ступали, ибо стройный фламинго, никогда не виданный ранее, вместе с другими веселыми светлыми птицами развернул перед нами алые крылья. В реке заиграли золотые и серебряные рыбы, а в глубине родился ропот, который, все ширясь, зазвучал наконец колыбельной, слаще эоловой арфы, краше всего на свете, кроме голоса Элеоноры. И огромное облако, которое давно замечали мы возле Геспера, выплыло, сверкая золотом и багрянцем и, мирно встав над нами, день за днем опускалось все ниже, пока наконец не коснулось краями верхушек гор, превратив их угрюмость в сияние и заключив нас, как бы навеки, в волшебной темнице величия и славы.
Элеонора красой подобна была серафиму, бесхитростна и невинна, как та недолгая жизнь, что провела она среди цветов. Она не скрывала лукаво пламя любви, что охватило ее сердце, и вместе со мной заглянула в его тайники, когда мы бродили вдвоем по долине, беседуя о переменах, недавно свершившихся здесь.
И, наконец, заговорив однажды в слезах о последней печальной перемене, что выпадает всем людям, она стала с тех пор грустна, не расставалась с этой мыслью, то и дело возвращаясь к ней, подобно тому, как в песнях певца Шираза во всех величавых вариациях снова и снова возникают все те же образы.
Она видела, что Смерть коснулась своим перстом ее груди, – подобно мотыльку, она создана была бесконечно прелестной лишь для того, чтоб погибнуть; но ужас могилы был для нее лишь в одном; она поведала мне об этом однажды в сумерках на берегу Реки Молчания. Ей горестно было думать, что, похоронив ее в Долине Многоцветных Трав, я навсегда покину этот счастливый край, отдав свою любовь, так страстно ей теперь посвященную, деве из мира будничного и чужого. И тогда, ни минуты не медля, я бросился к ногам Элеоноры и поклялся ей и небесам, что никогда не соединюсь браком с дочерью Земли, что ни в чем не изменю ее благословенной памяти и памяти о том неземном чувстве, которым она меня одарила. И я призвал Великого Владыку Мира в свидетели того, что обет этот свят и нерушим. И кара, ниспослать которую я молил Егои ее, святую, чье жилище будет в Элизиуме, если нарушу я свой обет, кара эта была столь чудовищно страшной, что я не решусь говорить о ней здесь. И ясные глаза Элеоноры прояснились при этих словах, она вздохнула, словно смертельная тяжесть спала у нее с груди, и, трепеща, заплакала горько; но приняла мой обет (ибо была всего лишь ребенком), и он принес ей облегчение на ложе смерти. Несколько дней спустя, умирая спокойно и мирно, она мне сказала: за то, что сделал я для спокойствия ее духа, дух ее после кончины будет меня охранять, и если будет ей то дозволено, то по ночам будет она являться мне зримо; но если не дано это душам рая, то будет часто посылать мне весть о своем присутствии – вечерний ветерок обвеет ее вздохом мне щеку или напоит воздух, которым я дышу, благоуханием небесных кадильниц. И с этими словами она рассталась со своей безгрешной жизнью, кладя предел первой поре моего бытия.
Истинно излагал я все до сего мгновения. Но, пересекая преграду на путях Времени, преграду, воздвигнутую смертью любимой, и вступая во вторую пору моего существования, чувствую, как тени окутывают мой мозг, и не доверяю своему разуму и памяти. Но продолжаю. – Годы тяжко влачили свой груз, а я не покидал Долины Многоцветных Трав; и снова все в ней переменилось. Звездоподобные цветы исчезли и более не появлялись на деревьях. Зеленые ковры поблекли, и одна за другой увяли рубиново-красные асфодели, а на их месте раскрыли свои глаза десятки черных фиалок, беспокойно трепещущих и вечно отягощенных влагой. И Жизнь покинула те края, где мы когда-то ступали, ибо стройный фламинго сложил свои алые крылья и с другими веселыми светлыми птицами, что появились когда-то с ним вместе, с грустью покинул Долину. Золотые и серебряные рыбы уплыли по ущелью в самый дальний конец края и не украшали больше нашей реки. И колыбельная, что звучала слаще эоловой арфы, волшебней всего – кроме голоса Элеоноры, – начала затихать и понемногу вовсе замолкла; ропот волн становился все глуше, пока наконец река не погрузилась снова в торжественное свое молчание; и огромное облако поднялось и, возвращая вершинам гор прежнюю их угрюмость, пало назад, в край Геспера, унеся из Долины Многоцветных Трав всю многокрасочную и золотую прелесть сияния.
Но обет, данный Элеонорой, не был забыт – я слышал звон небесных кадильниц, волны нездешнего благоухания плыли по долине, и в часы одиночества, когда сердце тяжко стучало в груди, ветерок, обвевавший мое чело, доносил до меня тихий вздох. Часто воздух ночи исполнен был невнятного шепота, и раз – о, только раз! – я пробудился от глубокого, словно смертельного, сна, ощутив на своих губах прикосновение призрачных уст.
Но пустота в моем сердце все не заполнялась. Я тосковал по любви, которая прежде заполняла его до краев. Настало время, когда долина стала меня тяготить памятью об Элеоноре, и я покинул наш край навсегда ради бурных волнений и суетных радостей мира.
* * *
Я очутился в незнакомом городе, где все, казалось, служило тому, чтобы изгнать из памяти сладкие сны, которым предавался я так давно в Долине Многоцветных Трав. Великолепие и пышность блестящего двора, и упоительный звон оружия, и сияние женских очей, смутив, опьянили мой ум. Но душа моя все еще оставалась верна своему обету, и по ночам мне все еще было дано знать о присутствии Элеоноры. Внезапно все прекратилось; и мир потемнел у меня пред глазами; и я пришел в ужас от неотступных мучительных мыслей и страшных соблазнов, ибо из далекой-далекой, чужой, неизвестной земли прибыла к веселому двору короля, которому я служил, дева, чьей красотой пленилось мое неверное сердце – к ее ногам склонил я без колебаний колена в пылком самозабвении. Разве могла моя страсть к девочке из Долины сравниться с тем лихорадочным жаром, с тем возвышающим дух восторгом и преклонением, с которым излил я в слезах свое сердце божественной Эрменгарде? О, светел был ангельский лик Эрменгарды! – и, зная об этом, я не помышлял ни о ком другом. О божественный свет Эрменгарды! – и, глядя в самую глубь ее всепомнящих очей, я думал только о них – и о ней.
Я обвенчался и не трепетал той кары, которую призывал на себя, и горечь ее меня миновала. И раз – но только раз! – в ночной тиши сквозь решетку окна послышались давно замолкшие тихие вздохи, и милый, такой знакомый голос сказал:
– Спи с миром! – ибо над всем царит Дух Любви, и, отдав свое сердце той, кого зовешь Эрменгардой, ты получишь отпущение – почему, узнаешь на небесах – от клятвы, данной Элеоноре.
ТРИ ВОСКРЕСЕНЬЯ НА ОДНОЙ НЕДЕЛЕ [45]45
Перевод И. Бернштейн
[Закрыть]
«У, бессердечный, бесчеловечный, жестоковыйный, тупоголовый, замшелый, заматерелый, закоснелый, старый дикарище» – воскликнул я однажды (мысленно), обращаясь к моему дядюшке (собственно, он был мне двоюродным дедом) Скупердэю, и (мысленно же) погрозил ему кулаком.
Увы, только мысленно, ибо в то время существовало некоторое несоответствие между тем, что я говорил, и тем, чего не отваживался сказать, – между тем, как я поступал, и тем, как, право же, готов был поступить.
Когда я распахнул дверь в гостиную, старый морж сидел, задрав ноги на каминную полку и держа в руке стакан с портвейном, и, насколько ему это было по силам, пытался петь известную песенку:
– Любезный дядюшка, – обратился я к нему, осторожно прикрыв дверь и изобразив на лице своем простодушнейшую из улыбок, – вы всегда столь добры и снисходительны и так много раз выказывали всячески свое благорасположение, что… что я не сомневаюсь, стоит мне только заговорить с вами опять об этом небольшом деле, и я получу ваше полное согласие.
– Гм, – ответствовал дядюшка. – Умник. Продолжай.
– Я убежден, любезнейший дядюшка (у-у, чтоб тебе провалиться, старый злыдень!), что вы, в сущности, вовсе и не хотите воспрепятствовать моему союзу с Кейт. Это просто шутка, я знаю, ха-ха-ха! Какой же вы, однако, дядюшка, шутник!
– Ха-ха, – сказал он. – Черта с два. Ну, так что же?
– Вот видите! Конечно же! Я так и знал. Вы шутили. Так вот, милый дядюшка, мы с Кейт только просим вашего совета касательно того… касательно срока… ну, вы понимаете, дядюшка… срока, когда вам было бы удобнее всего… ну, покончить это дело со свадьбой?
– Покончить, ты говоришь, негодник? Что это значит? Чтобы покончить, надо прежде начать.
– Ха-ха-ха! Хе-хе-хе! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо. Ну, не остроумно ли? Прелесть, ей-богу! Чудо! Но нам всего только нужно сейчас, чтобы вы точно назначили срок.
– Ах, точно?
– Да, дядюшка. Если, понятно, вам это нетрудно.
– А если, Бобби, я эдак приблизительно прикину – скажем, в нынешнем году или чуть позже, – это тебе не подходит?
– Нет, дядюшка, скажите точно, если вам нетрудно.
– Ну, ладно, Бобби, мой мальчик, – ты ведь славный мальчик, верно? – коли уж тебе так хочется, чтобы я назначил срок точно, я тебя на этот раз так и быть уважу.
– О, дядюшка!
– Молчите, сэр – (заглушая мой голос). – На этот раз я тебя уважу. Ты получишь мое согласие, – а заодно и приданое, не будем забывать о приданом– постой-ка, сейчас я тебе скажу, когда. Сегодня у нас воскресенье? Ну, так вот, ты сможешь сыграть свадьбу точно – точнехонько, сэр! – тогда, когда три воскресенья подряд придутся на одну неделю!Ты меня слышал? Ну, что уставился, разинув рот? Говорю тебе, ты получишь Кейт и ее деньги, когда на одну неделю придутся три воскресенья. И не раньше, понял, шалопай? Ни днем раньше, хоть умри. Ты меня знаешь: я – человек слова!А теперь ступай прочь. – И он одним глотком осушил свой стакан портвейна, а я в отчаянии выбежал из комнаты.
Как поется в балладе, «английский славный джентльмен» был мой двоюродный дед мистер Скупердэй, но со своими слабостями – в отличие от героя баллады. Он был маленький, толстенький, кругленький, гневливый человечек с красным носом, непрошибаемым черепом, туго набитым кошельком и преувеличенным чувством собственной значительности. Обладая, в сущности, самым добрым сердцем, он среди тех, кто знал его лишь поверхностно, из-за своей неискоренимой страсти дразнить и мучить ближних почитался жестоким и грубым. Подобно многим превосходным людям, он был одержим бесом противоречия, что по первому взгляду легко сходило за прямую злобу. На любую просьбу «Нет!» – бывало его неизменным ответом, и, однако же, почти не бывало таких просьб, которые бы он рано или поздно – порой очень поздно – не исполнил. Все посягательства на свой кошелек он встречал в штыки, но сумма, исторгнутая у него в конечном итоге, находилась, как правило, в прямо пропорциональном отношении к продолжительности предпринятой осады и к упорству самозащиты. И на благотворительность он жертвовал всех больше, хотя и ворчал и кряхтел при этом всех громче.
К искусствам, особливо к изящной словесности, питал он глубочайшее презрение, которому научился у Казимира Перье, чьи язвительные слова: «А quoi un poete est-il bon?» [47]47
Что проку от поэта? (фр.).
[Закрыть]– имел обыкновение цитировать с весьма забавным прононсом, как пес plus ultra [48]48
Предел (лат.).
[Закрыть]логического остроумия. Потому и мою склонность к музам он воспринял крайне неодобрительно. Как-то, в ответ на мою просьбу о приобретении нового томика Горация, он вздумал даже уверять меня, будто изречение: «Poeta nascitur non fit» [49]49
Поэтом рождаются, а не становятся (лат.).
[Закрыть]надо переводить как «Поэт у нас-то дурью набит», чем вызвал глубокое мое негодование. Его нерасположение к гуманитарным занятиям особенно возросло в последнее время в связи со вдруг вспыхнувшей у него страстью к тому, что он именовал «естественной наукой». Кто-то однажды на улице обратился к нему, по ошибке приняв его за самого доктора О'Болтуса, знаменитого шарлатана «виталиста». Отсюда все и пошло, и ко времени действия моего рассказа – а это все-таки будет рассказ – подъехать к моему двоюродному деду Скупердэю возможно было только на его собственном коньке. В остальном же он только хохотал да отмахивался руками и ногами. И вся его несложная политика сводилась к положению, высказанному Хорслеем, что «человеку нечего делать с законами, как только подчиняться им».
Я прожил со стариком всю жизнь. Родители мои, умирая, завещали ему меня, словно богатое наследство. По-моему, старый разбойник любил меня как родного сына – почти так же сильно, как он любил Кейт, – и все-таки это была собачья жизнь. С года и до пяти включительно он потчевал меня регулярными трепками. С пяти до пятнадцати, не скупясь, ежечасно грозил исправительным домом. С пятнадцати до двадцати каждый Божий день сулился оставить меня без гроша в кармане. Я, конечно, был не ангел, это приходится признать, – но такова уж моя натура, и таковы, если угодно, мои убеждения. Кейт была мне надежным другом, и я это знал. Она была добрая девушка и прямо объявила мне со свойственной ей добротой, что я получу ее вместе со всем ее состоянием, как только уломаю дядюшку Скупердэя. Ведь бедняжке едва исполнилось пятнадцать лет, и без его согласия сколько там ни было у нее денег, все оставалось недоступным еще в течение пяти бесконечных лет, «медлительно длину свою влачащих». Что же в таком случае оставалось делать? Когда тебе пятнадцать, и даже когда тебе двадцать один (ибо я уже завершил мою пятую олимпиаду), пять лет – это почти так же долго, как и пятьсот. Напрасно наседали мы на старика с просьбами и мольбами. Этот «piece de resistance» [50]50
В кулинарии – самое главное блюдо в меню (фр.).
[Закрыть](в терминологии господ Юда и Карема) как раз пришелся ему по вкусу. Сам долготерпеливый Иов возмутился бы, наверное, при виде того, как он играл с нами, точно старый многоопытный кот с двумя мышатами. В глубине души он и не желал ничего иного, как нашего союза. Он сам уже давно решил нас поженить, и, наверное, дал бы десять тысяч фунтов из своего кармана (денежки Кейт были ее собственные), чтобы только изобрести законный предлог для удовлетворения нашего вполне естественного желания. Но мы имели неосторожность завести с ним об этом речь сами. И при таком положении вещей ясно, что он просто не мог не заупрямиться.
Выше я говорил, что у него были свои слабости: но при этом я вовсе не имел в виду его упрямство, которое считаю, наоборот, его сильной стороной – assurement се n'etait pas sa faible». [51]51
Это, безусловно, не было его слабостью (фр.).
[Закрыть]Под его слабостью я подразумеваю его невероятную, чисто старушечью приверженность к суевериям. Он придавал серьезное значение снам, предзнаменованиям et id genus omne [52]52
И всей такого рода (лат.).
[Закрыть]ерунде. И, кроме того, был до мелочности щепетилен. По-своему, он, безусловно, был человек слова. Я бы даже сказал, что верность слову была его коньком. Дух данного им обещания он ставил ни во что, но букву соблюдал неукоснительно. И именно эта его особенность позволила моей выдумщице Кейт в один прекрасный день, вскоре после моего с ним объяснения в столовой, неожиданно обернуть все дело в нашу пользу. На сем, исчерпав по примеру современных бардов и ораторов на prolegomena [53]53
Введение (греч.).
[Закрыть]имевшееся в моем распоряжении время и почти все место, я теперь в нескольких словах передам то, что составляет, собственно, суть моего рассказа.
Случилось так – по велению Судеб, – что среди знакомых моей нареченной были два моряка и что оба они только что вновь ступили на британскую землю, проведя каждый по целому году в дальнем плавании. И вот, сговорившись заранее, мы с моей милой кузиной взяли с собой этих джентльменов и вместе с ними нанесли визит дядюшке Скупердэю – было это в воскресенье десятого октября, ровно через три недели после того, как он произнес свое окончательное слово, чем сокрушил все наши надежды. Первые полчаса разговор шел на обычные темы, но под конец нам удалось как бы невзначай придать ему такое направление.
Капитан Пратт:М-да, я пробыл в отсутствии целый год. Как раз сегодня ровно год, по-моему. Ну да, погодите-ка, конечно! Сегодня ведь десятое октября. Помните, мистер Скупердэй, год назад я в этот же самый день приходил к вам прощаться? И, кстати сказать, надо же быть такому совпадению, что наш друг капитан Смизертон тоже отсутствовал как раз год – ровно год сегодня, не так ли?
Смизертон:Именно! Точнешенько год! Вы ведь помните, мистер Скупердэй, я вместе с капитаном Праттом навестил вас в этот день год назад и засвидетельствовал вам перед отплытием мое почтение.
Дядя:Да, да, да, я отлично помню. Как, однако же, странно. Оба вы пробыли в отсутствии ровнехонько год! Удивительное совпадение! То, что доктор О'Болтус назвал бы редкостным стечением обстоятельств. Доктор О'Бол…
Кейт (прерывая): И в самом деле, папочка, как странно. Правда, капитан Пратт и капитан Смизертон плыли разными рейсами, а это, вы сами знаете, совсем другое дело.
Дядя:Ничего я такого не знаю, проказница. Да и что тут знать? По-моему, тем удивительнее. Доктор О'Болтус…
Кейт:Но, папочка, ведь капитан Пратт плыл вокруг мыса Горн, а капитан Смизертон обогнул мыс Доброй Надежды.
Дядя:Вот именно! Один двигался на запад, а другой на восток. Понятно, стрекотунья? И оба совершили кругосветное путешествие. Между прочим, доктор О'Болтус…
Я (поспешно): Капитан Пратт, приходите к нам завтра вечером – и вы, Смизертон, – расскажете о своих приключениях, сыграем партию в вист…
Пратт:В вист? Что вы, молодой человек! Вы забыли: завтра воскресенье. Как-нибудь в другой раз…
Кейт:Ах, ну как можно? Роберт еще не совсемпотерял рассудок. Воскресенье сегодня.
Дядя:Разумеется.
Пратт:Прошу у вас обоих прощения, но невозможно, чтобы я так ошибался. Я точно знаю, что завтра воскресенье, так как я…
Смизертон (с изумлением): Позвольте, что вы такое говорите? Разве не вчера было воскресенье?
Все:Вчера? Да вы в своем ли уме!
Дядя:Говорю вам, воскресенье сегодня! Мне ли не знать?
Пратт:Да нет же! Завтра воскресенье.
Смизертон:Вы просто помешались, все четверо. Я так же твердо знаю, что воскресенье было вчера, как и то, что сейчас я сижу на этом стуле.
Кейт (вскакивая в возбуждении): Ах, я понимаю! Я все понимаю! Папочка, это вам перст судьбы – сами знаете в чем. Погодите, я сейчас все объясню. В действительности это очень просто. Капитан Смизертон говорит, что воскресенье было вчера. И он нрав. Кузен Бобби и мы с папочкой утверждаем, что сегодня воскресенье. И это тоже верно; мы правы. А капитан Пратт убежден в том, что воскресенье будет завтра. Верно и это; он тоже прав. Мы все правы, и стало быть, на одну неделю пришлось три воскресенья!