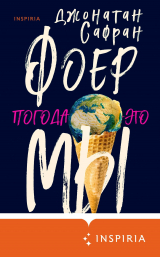
Текст книги "Погода – это мы"
Автор книги: Джонатан Фоер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Я знаю, что ничего не знаю
В 1942 году двадцативосьмилетний католик и участник польского подполья, Ян Карский, взял на себя миссию отправиться из оккупированной нацистами Польши в Лондон и дальше – в Америку, чтобы сообщить мировым лидерам о том, что творят немцы. Готовясь к путешествию, он встретился с несколькими группами Сопротивления, получив от них информацию и свидетельства для передачи на Запад. В своих мемуарах он описывает встречу с главой Еврейского союза социалистов:
«Лидер Бунда молча подошел ко мне[37]37
Лидер Бунда молча подошел ко мне: Lewin and Bartoszewski, Righteous Among Nations.
[Закрыть]. Он схватил меня за руку так яростно, что мне стало больно. Я с трепетом посмотрел в его безумные, буравящие глаза, и меня тронула глубокая, невыносимая боль в его взгляде. «Скажите лидерам еврейского народа, что это не вопрос политики или тактики. Скажите им, что твердь земная должна разверзнуться до основания, мир должен восстать на дыбы. Скажите им, что они должны найти силу и мужество пойти на жертвы, на которые никогда ранее не шел ни один государственный деятель, жертвы столь же тяжкие, как и судьба моих умирающих соплеменников, и такие же беспрецедентные. Это то, чего они не понимают. Цели и методы немцев не имеют прецедента в истории. Демократические режимы должны отреагировать столь же беспрецедентно, выбрать в ответ неслыханные доселе методы…»
«Вы спросите меня, какой план действий я предлагаю лидерам еврейского народа. Скажите им обратиться во все важнейшие правительственные учреждения Англии и Америки. Скажите не уходить, пока они не получат гарантий, что решение о спасении евреев найдено и согласовано. Не позволяйте им ни есть, ни пить, пусть они умрут медленной смертью на глазах у всего мира. Пусть они умрут. Возможно, тогда совесть мира встрепенется».
В июне 1943 года, пережив путешествие настолько опасное, насколько это можно вообразить, Карский прибыл в Вашингтон. Там он встретился с судьей Верховного суда Феликсом Франкфуртером, одним из величайших умов юриспруденции в истории США, который сам был евреем. Выслушав доклад Карского о ликвидации варшавского гетто и массовых уничтожениях в концентрационных лагерях и задав ему ряд все более детальных вопросов («Какова высота стены, отделяющей гетто от остального города?»), Франкфуртер принялся молча шагать по комнате, потом сел обратно на стул и произнес: «Господин Карский, такой человек, как я, говоря с таким человеком, как вы, должен быть полностью откровенен. Поэтому я должен сказать, что не в силах поверить тому, что вы мне рассказали». Когда товарищ Карского стал умолять Франкфуртера принять доклад, тот ответил: «Я не сказал, что этот молодой человек лжет. Я сказал, что не в силах ему поверить. Мой ум и мое сердце устроены так, что не позволяют мне этого принять».
Франкфуртер не подвергал сомнению правдивость рассказа Карского. Он не оспаривал того, что немцы планомерно уничтожали европейских евреев – его собственных родственников. Он также не ответил, что, несмотря на то что доклад убедил его и поверг в ужас, он ничего не мог сделать. Вместо этого он признал не только собственную неспособность поверить в правду, но и осознание этой неспособности. Совесть Франкфуртера не встрепенулась.
Наши умы и сердца отлично подходят для выполнения одних задач и плохо подходят для других. Нам хорошо даются расчеты траектории движения урагана и плохо – решения убраться с этой траектории. Наша эволюция заняла сотни миллионов лет в условиях, мало похожих на современный мир, и поэтому мы зачастую испытываем желания, страхи и равнодушие, которые не соответствуют современным реалиям и не отвечают им. Мы чрезмерно зациклены на сиюминутных и внутренних нуждах – нас тянет на жирное и сладкое (что вредно для людей, живущих в мире, где и то и другое доступно по первому требованию), мы с преувеличенной бдительностью следим за детьми на игровых площадках (при этом игнорируем опасности для их здоровья посерьезнее, например перекармливаем их жирным и сладким) – оставаясь равнодушными к тому, что смертельно, но где-то там, далеко.
Не так давно Хэл Хершфилд, психолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, провел исследование[38]38
Психолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, провел исследование: Hershfield, “Better Decisions.”
[Закрыть], в ходе которого выяснил, что, когда испытуемых просили описать себя в будущем, хотя бы через десять лет, результаты функциональной МРТ их мозга имели больше сходства с результатами, полученными при описании незнакомцев, чем с результатами, полученными при описании себя в настоящем времени. Однако, когда испытуемым показывали цифровым способом состаренные изображения их самих, это расхождение менялось, как менялось и их поведение. В ответ на просьбу распределить тысячу долларов между четырьмя вариантами: сделать подарок любимому человеку, потратить на развлекательное мероприятие, положить на текущий банковский счет или на пенсионный счет, те, кто видел себя в старости, положили на пенсионные счета в два раза больше денег, чем те, кто не видел.
То, что визуализация усиливает эмоциональные реакции, широко доказано[39]39
Широко доказано: Там же.
[Закрыть]. Исследователями описаны несколько интересных факторов, влияющих на «сочувственную предвзятость»[40]40
«Сочувственную предвзятость»: Sudhir et al., “Sympathy Biases.”
[Закрыть]: узнаваемость жертвы (способность наглядно представить страдание во всех подробностях), принадлежность к «своей» группе (указание на социальную близость к страданию) и эффект корреляционного сочувствия (представление состояния жертвы не просто статично ужасным, а ухудшающимся). Группа исследователей провела эксперимент по сбору пожертвований путем адресной почтовой рассылки с участием около двухсот тысяч потенциальных благотворителей. Если в отправлении указывалось имя конкретного человека в противоположность безымянной группе, пожертвования возрастали на 110 %. Если благотворитель и реципиент принадлежали к одной религиозной группе, пожертвования возрастали на 55 %. Если бедность реципиента представлялась возникшей недавно, а не хронической, пожертвования возрастали на 33 %. Объединение всех этих факторов[41]41
Объединение всех этих факторов: Institute for Operations Research and the Management Sciences, “Carefully Chosen Wording.”
[Закрыть] увеличивало пожертвования на 300 %.
Сложность глобального кризиса в том, что он наталкивается на множество факторов имманентной «бесчувственной предвзятости». Несмотря на то что многие сопутствующие изменению климата бедствия – прежде всего погодные катаклизмы, наводнения и лесные пожары, вынужденное переселение и нехватка ресурсов – наглядны, относятся к конкретным людям и предполагают ухудшение ситуации, в совокупности они такими не кажутся[42]42
В совокупности они такими не кажутся: Ballew et al., “Global Warming as a Voting Issue.”
[Закрыть]. Вместо того, чтобы служить опорами для постоянно дополняемой картины бытия, они кажутся абстрактными, отдаленными и разрозненными. Как написал журналист Оливер Беркман[43]43
Написал журналист Оливер Беркман: Burkeman, “Climate Change Deniers.”
[Закрыть] в «Гардиан»: «Если бы клика злонамеренных психологов собралась на секретной подводной базе, чтобы сварганить кризис, справиться с которым человечество оказалось бы совершенно не готово, они не смогли бы придумать ничего лучше изменения климата».
Так называемые отрицатели изменения климата[44]44
Отрицатели изменения климата: Nuccitelli, “Climate Consensus”; NASA, “Scientific Consensus.”
[Закрыть] отвергают вывод, к которому пришли 97 % ученых-климатологов: планета нагревается из-за деятельности человека. Но как насчет тех из нас, кто якобы согласен с тем, что изменение климата вызвано человеком? Мы можем не думать, что ученые лгут, но способны ли мы поверить их словам? Поверь мы им, это неминуемо заставило бы нас осознать наш неотложный моральный долг, заставило бы встрепенуться нашу коллективную совесть и побудило бы нас добровольно идти на мелкие жертвы в настоящем, чтобы избежать катастрофических в будущем.
В самом по себе рациональном принятии правды нет ничего добродетельного. И оно нас не спасет. В детстве мне часто говорили: «Ты же понимаешь, что так нельзя», – когда я делал что-нибудь неподобающее. Именно в знании и заключалась разница между ошибкой и проступком.
Если мы принимаем за правду фактическое положение дел (что мы разрушаем планету), но не способны в это поверить, мы ничем не лучше тех, кто отрицает существование изменения климата, вызванного человеком, так же как Феликс Франкфуртер был ничем не лучше отрицавших холокост. И когда будущее установит разницу между этими двумя видами отрицания, какое из них будет роковой ошибкой, а какое – непростительным преступлением?
Уезжай, поверь, живи
За год до того, как Карский покинул Польшу, чтобы поведать миру об уничтожении европейских евреев, моя бабушка бежала из своей польской деревни, чтобы спасти свою жизнь. Она оставила дома бабушек и дедушек по матери и отцу, мать, сестру, брата, двоюродных братьев и сестер, и друзей. Ей было двадцать лет, и она знала то же, что и все остальные: что фашисты продвигаются на восток, занимая ту часть Польши, которая была оккупирована советскими войсками, и что до их прихода остаются считаные дни. На вопрос, почему она уехала, она всегда отвечала: «Я чувствовала, что нужно что-то делать».
Моя прабабушка, которую расстреляли на краю братской могилы с падчерицей на руках, наблюдала, как моя бабушка собирала вещи. Обе молчали. Это молчание было их последней беседой. Зная не меньше, чем дочь, мать не чувствовала, что нужно было что-то делать. Ее знание было просто знанием.
Младшая сестра моей бабушки, которую потом застрелили, когда она пыталась обменять какую-то безделушку на еду, в тот день вышла из дома вместе с ней. Она сняла с себя свою единственную пару туфель и отдала их моей бабушке. «Тебе так везет, что ты едешь», – сказала она. Мне рассказывали эту историю множество раз. В детстве мне слышалось: «Тебе так везет, что ты веришь».
Возможно, это и вправду было везением. Если бы во время бабушкиного отъезда что-нибудь пошло не так – заболей она или влюбись в кого-нибудь – возможно, ей бы не повезло уехать. Те, кто остался, были ничуть не менее смелы, разумны, находчивы или меньше боялись смерти. Они просто не верили, что грядущее чем-то отличается от того, что они уже столько раз пережили. Вера не пробуждается усилием воли. Ни доводами – будь они еще лучше, еще громче, еще благонамереннее – ни даже неопровержимыми доказательствами вы можете заставить кого-нибудь во что-то поверить. Вот как режиссер Клод Ланцманн изложил это в своем прологе к «Отчету Карского», документальному фильму о приезде Карского в Америку:
«Что есть знание?[45]45
Что есть знание? Brody, “The Unicorn and ‘The Karski Report.’”
[Закрыть] Что могут сведения об ужасе, буквально неслыханном, значить для человеческого мозга, не готового их воспринять, потому что речь идет о преступлении, которому нет примеров в истории человечества?… Раймона Арона, ранее бежавшего в Лондон, спросили, знал ли он, что творилось тогда на Востоке. Он ответил: «Я знал, но не верил в это, а раз я в это не верил, то, значит, не знал».
Иногда мне грезится, как я хожу из дома в дом в бабушкином местечке, хватаю оставшихся людей и кричу им в лицо: «Вы должны что-нибудь сделать!» Эти грезы посещают меня в доме, который – я это знаю – потребляет, поглощает значительную часть всей потребляемой мной энергии, и – я это знаю – представляет собой тот ненасытный образ жизни, который – я это знаю – разрушает нашу планету. Я способен представить, что кому-нибудь из моих потомков грезится, как он хватает меня и кричит мне в лицо: «Ты должен что-нибудь сделать!» Но я не способен на веру, которая подвигла бы меня что-нибудь сделать. Значит, я ничего не знаю.
Как-то утром, когда мы ехали в школу, мой десятилетний сын оторвал взгляд от книги, которую читал, и сказал: «Нам так повезло, что мы живем».
Вот то, чего я не знаю: как увязать мою благодарность за жизнь с поведением, предполагающим полное к ней безразличие.
Уходя из дома, моя бабушка взяла зимнее пальто, хотя на дворе был июнь.
Истерическое
Однажды летним вечером 2006 года восемнадцатилетний Кайл Холтраст ехал на велосипеде по краю встречной полосы в восточной части Тусона, когда его сбил «Шевроле Камаро» и метров десять протащил под собой. Увидев это, Томас Бойл-младший, пассажир оказавшегося рядом грузовика, выпрыгнул из машины и побежал на помощь. Под действием адреналина он схватил «Камаро» за раму спереди и поднял, продержав на весу сорок пять секунд, пока Холтраста вытаскивали из-под колес. Объясняя, почему он сделал то, что сделал[46]46
Почему он сделал то, что сделал: Huicochea, “Man Lifts Car.”
[Закрыть], Бойл сказал: «Я был бы просто чудовищем, если бы видел, как кто-то так мучается, и даже не попытался бы помочь… Я все думал: а что, если бы это был мой сын?» Он чувствовал, что должен был что-то сделать.
Но вопрос о том, как он сделал то, что сделал, поставил его в тупик: «Сейчас бы у меня ни за что не получилось бы поднять эту машину». Мировой рекорд в становой тяге составляет 500 килограммов. «Камаро» весит почти полторы тонны. Бойл, никогда не занимавшийся тяжелой атлетикой,[47]47
Никогда не занимавшийся тяжелой атлетикой: Wise, Extreme Fear, 25–27.
[Закрыть] продемонстрировал то, что называется «истерической силой» – физический подвиг, совершенный перед лицом жизни и смерти, превосходящий обычные человеческие возможности.
Машину над телом Холтраста поднял один невероятный человек, но потом многие люди прижимали машины к обочине, чтобы дать «Скорой» подъехать быстрее. Они сыграли в спасении юноши такую же важную роль, но мы не видим в их действиях ничего выдающегося. Поднять машину в воздух – это максимум того, что способен сделать человек. Прижать машину к обочине при виде «Скорой» – минимум. Жизнь Кайла зависела и от того, и от другого.
Когда я учился в начальной школе, полицейские и пожарные каждый год выступали перед нами, чтобы воспитывать в нас гражданскую ответственность и научить, как действовать в случае опасности. Помнится, пожарный говорил, что каждый раз, как мы видим «Скорую», нам нужно представлять, что она везет того, кого мы любим. Какая жуткая мысль для детских мозгов! Особенно потому, что она не порождает нужных ассоциаций. Мы уступаем дорогу «Скорой помощи» не потому, что она может везти кого-то, кого мы любим. Мы уступаем ей дорогу не потому, что так положено по закону. Мы делаем это, потому что так принято. Уступать дорогу «Скорой помощи» – это одна из общепринятых норм поведения, так же как соблюдать очередь и выбрасывать мусор в урну, которая настолько укоренилась в нашей культуре, что мы ее даже не замечаем.
Нормы могут меняться, или их могут игнорировать. По Москве в начале 2010-х[48]48
По Москве в начале: 2010-х: “Russia’s Rich.”
[Закрыть] разъезжало множество «Скорых»-такси – микроавтобусов, снаружи закамуфлированных под кареты «Скорой помощи», но роскошно отделанных изнутри, за поездку в которых платили больше двухсот долларов в час с целью избежать печально известных городских пробок. Трудно представить, чтобы эту идею одобряли те, кто не пользовался их услугами. Эти такси оскорбительны, не потому что извлекают преимущество из каждого по отдельности (большинству из нас такая машина никогда не встретится), а потому что попирают нашу готовность приносить жертвы ради всеобщего блага. Они паразитируют на наших благородных порывах. Во время Второй мировой войны тыловые затемнения приводили к мародерству, а выдача продуктов по карточкам – к подделкам и воровству. После прямого попадания сброшенной люфтваффе бомбы в лондонский ночной клуб на Пикадилли[49]49
Ночной клуб на Пикадилли: Rennell, “Blitz 70 Years On.”
[Закрыть] спасателям приходилось отгонять тех, кто пытался снять с погибших драгоценности.
Но это всё крайности. Практически всегда наши правила поведения и личины, этими правилами сформированные, настолько трудноразличимы, что практически невидимы. Разумеется, мы не разъезжаем в такси, закамуфлированных под «Скорую помощь», но многие из наших жизненных привычек покажутся нашим потомкам настолько же возмутительными (и даже хуже). [В странах, использующих латиницу], слова «Скорая помощь» на капотах машин пишутся в зеркальном порядке, чтобы водители едущих впереди машин смогли прочесть их в зеркале заднего вида. Можно сказать, эти слова пишутся для будущего – для машин, которые едут впереди. Точно так же как находящийся в машине «Скорой» не может видеть слова «Скорая помощь», так и мы не можем прочитать историю, которую создаем, она написана в зеркальном порядке, чтобы ее прочли в зеркале заднего вида те, кто еще не родился.
Слова «стихийное бедствие» происходят от латинского emergere, что означает «поднимать, выносить на свет».
Слово «апокалипсис» происходит от греческого apokalyptein, что означает «открывать, обнажать».
Слово «кризис» происходит от греческого krisis, что означает «решение».
В нашем языке закодировано понимание того, что катастрофы чаще всего обнажают то, что прежде было скрыто. По мере того, как чередой стихийных бедствий перед нами разворачивается глобальный кризис, наши решения обнажают нашу сущность.
Разные задачи требуют и вдохновляют на разные ответные действия. Вполне уместно бить тревогу, если человека придавило машиной, но тот, кто из-за крошечной протечки покидает свой во всех прочих отношениях замечательный дом, самым тревожным образом превышает пределы необходимого. Чего требует состояние нашей планеты и на какие действия оно вдохновляет? И что, если оно не вдохновляет на то, чего требует, что, если мы окажемся теми, кто включает световые сигналы на машинах, чтобы избежать пробок, но не выключает свет дома, чтобы избежать разрушения?
Игры на чужом поле
Несмотря на многочисленные примеры проявления истерической силы, она никогда не наблюдалась в лабораторной среде, потому что создание необходимых для нее условий противоречит этике. Но, даже оставив за скобками случаи, имеющие свидетелей, есть причины считать ее настоящим феноменом, включающим в себя воздействие электрических разрядов на мышцы (которые демонстрируют силу, намного превосходящую ту, что развивается усилием воли) и показатели спортсменов в важнейших соревнованиях. В том, что подавляющее большинство мировых рекордов устанавливается на Олимпийских играх, когда зрительская аудитория намного больше, чем на любых других соревнованиях, и ставки намного выше, нет никакого совпадения. Спортсмены больше радеют о победе, и это помогает им поднажать.
В любых видах спорта отдельные спортсмены и команды чаще выигрывают, выступая дома. (Помимо того что большинство мировых рекордов устанавливается на Олимпийских играх, страна-хозяйка всегда ведет в счете). Частично это можно объяснить тем, что спортсмены лучше высыпаются в собственных постелях, едят домашнюю еду и играют на домашнем поле. Частично тем, что судьи подсуживают своим командам. Но возможно, что наибольшее преимущество обеспечивают болельщики: игра на стадионе, полном собственных фанатов, порождает уверенность и мощную заинтересованность в победе. Исследование, проведенное в немецкой Бундеслиге[50]50
В немецкой Бундеслиге: Dohmen, “In Support of the Supporters?”
[Закрыть], продемонстрировало, что преимущество домашнего поля выше на тех стадионах, где футбольное поле не окружено беговым треком, чем на тех, где такой трек есть. Чем ближе к полю находятся болельщики, тем сильнее ощущается их присутствие – тем больше дом ощущается домом.
Было бы естественным предположить, что, если мы сможем проявить должную волю для борьбы с глобальным кризисом, то нам нужно проявить и должную заботу. Нам нужно будет отнестись к Земле как к единственному дому, не считая это образным выражением – не умом, а нутром. Как сказал психолог Дэниел Канеман, лауреат Нобелевской премии, первым обнаруживший, что наш мозг функционирует в медленном (созерцательном) и быстром (интуитивном) режимах: «Чтобы подтолкнуть человека к действию[51]51
«Чтобы подтолкнуть человека к действию»: Marshall, Don’t Even Think About It, 57.
[Закрыть], необходимы эмоции». Если мы и дальше будем относиться к борьбе за спасение планеты как к игре на чужом поле в середине сезона, мы обречены.
Очевидно, фактам не под силу подтолкнуть нас к действию. Но что, если мы не сможем вызвать необходимые эмоции и поддерживать их на нужном уровне? Я упорно борюсь с собственными реакциями на глобальный кризис. Мне кажется очевидным, что я забочусь о судьбе нашей планеты, но если эта забота выражается в затратах времени и энергии, то нельзя отрицать, что меня намного больше заботит судьба одной отдельно взятой бейсбольной команды на этой планете, «Вашингтон Нэшнлз» из города моего детства. Мне кажется очевидным, что я не отношусь к отрицателям климатических изменений, но веду себя как один из них. Я разрешаю детям прогуливать школу, чтобы поучаствовать в волне болельщиков в день открытия бейсбольного сезона, но не делаю практически ничего, чтобы противостоять будущему, в котором наш родной город окажется под водой.
Когда я готовил материал для этой книги, обнаруженные мною факты часто меня шокировали. Но они редко меня трогали. Когда же я бывал тронут, чувство это было преходящим и никогда не достигало той глубины или продолжительности, какие необходимы для долгосрочного изменения поведенческих привычек. Даже сведения, повергшие меня в ужас, вроде холодящего кровь очерка Дэвида Уоллеса-Уэллса «Необитаемая Земля», на момент публикации ставшего самой читаемой статьей в истории журнала «Нью-Йорк», не смогли заставить мою совесть встрепенуться или навсегда в ней застрять. В этом нет вины самого очерка, который мало того, что стал настоящим откровением, талантливо написан и читается с удовольствием – с каким можно читать только научно-популярные пророчества о конце света. Это вина предмета очерка. Найти для описания глобального кризиса такие слова, чтобы тебе поверили, мучительно, ужасно трудно.
Томасу Бойлу-младшему была не нужна информация, которая вдохновила бы его поднять «Камаро» над Кайлом Холтрастом, ему были нужны чувства: «Я все думал, а что, если бы это был мой сын?» Но что, если бы эта эмоциональная связь оказалась не настолько сильной? Поднял бы он машину – смог бы, попытался бы? – если бы ему было труднее представить Холтраста своим сыном? Будь Холтраст старше или другой расы? Что, если бы Бойл видел симуляцию происшедшего на экране, и ему сказали бы, что подъем трех тысяч фунтов[52]52
1360 кг.
[Закрыть]








