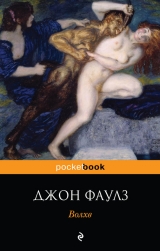
Текст книги "Волхв (вторая редакция романа)"
Автор книги: Джон Роберт Фаулз
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
– Я получил бы больше удовольствия, если б знал, что все это означает.
Мои слова польстили ему. Он откинулся назад, улыбнулся.
– Дорогой Николас, люди повторяют эту вашу фразу на протяжении последних десяти тысячелетий. И боги, к которым они обращаются, едины в своем нежелании отвечать на этот вопрос.
– Богов никаких не существует, потому они и ответить не могут. А вы – вот он.
– Что ж могу сделать я, если даже боги бессильны? Не думайте, что мне известны ответы на все вопросы. Это не так.
Я заглянул ему в лицо, теперь подчеркнуто вежливое, и тихо спросил:
– Почему именно я?
– А почему все остальные? И все остальное?
Я указал ему за спину, на восток.
– Все это – затем лишь, чтобы преподать мне урок теологии?
Он поднял руку к небу.
– Думаю, вы согласитесь, что некий бог, который создал бы все это затем лишь, чтобы преподать нам урок теологии, страдает безнадежным отсутствием чувства юмора и фантазии. – Помолчал. – Если хотите, можете вернуться в школу. Возможно, это самое мудрое.
Улыбнувшись, я покачал головой.
– На сей раз я разгрызаю зуб.
– На сей раз он может оказаться настоящим.
– Во всяком случае, теперь я догадываюсь, что все ваши игральные кости налиты свинцом.
– Значит, вы никогда не выиграете. – И поспешно продолжил, словно переступил запретную черту: – Вот что я вам скажу. Существует лишь один правильный ответ на ваш вопрос, и в широком смысле, и в том, что касается вашего пребывания здесь. Я привел вам его, когда вы впервые у меня появились. Все – и вы, и я, и различные божества – рождено случайностью. Больше ничем. Чистой случайностью.
В его глазах наконец засветилось что-то искреннее; я смутно понял, что домашний спектакль не сработал бы без моего неведения, моего образа мыслей, моих пороков и достоинств. Он поднялся, взял бутылку бренди, стоявшую у лампы на столике рядом. Наполнил мой бокал, плеснул себе и, не садясь, предложил тост.
– Чтоб лучше узнать друг друга, Николас.
– За это и до дна не грех. – Я выпил, осторожно улыбнулся. – Вы не закончили свой рассказ. – Как ни странно, он будто опешил, точно позабыл, о каком рассказе идет речь, или решил, что дальше мне слушать неинтересно. Поколебавшись, уселся.
– Хорошо. Я остановился… Впрочем, неважно, на чем. – Пауза. – Перейдем к кульминации. К моменту, когда боги, в которых мы с вами не верим, покарали гордеца.
Откинулся в шезлонге, бросил взгляд на море.
– Стоит мне увидеть на снимке скопище китайских крестьян или военный парад, стоит увидеть газетенку, где рекламируют всякий хлам, что производится для массового спроса, или сам этот хлам на полках универмагов, стоит увидеть гримасы pax Americana, – государств, обреченных перенаселением и низким уровнем образования на вековую духовную нищету, – как передо мной встает де Дюкан. Если мне не хватает простора и людского великодушия, я вспоминаю о нем. Когда-то, в далеком будущем, на земле, возможно, и не останется ничего, кроме таких вот замков или подобных им жилищ, никого, кроме схожих с ним людей. Но они не вырастут на зловонных удобрениях неравенства и эксплуатации; напротив, залогом их появления служат лишь выдержка и порядок, что царили в мирке де Дюкана, в Живре-ле-Дюк. Аполлон вернет себе утраченную власть. А Дионис возвратится в сумрак, из которого вышел.
…Что это? Спектакль с Аполлоном получил неожиданное толкование. Кончис явно пытался втиснуть в одну метафору десяток разных значений, как это делают некоторые современные поэты.
– Как-то один из слуг привел в замок девушку. Де Дюкан услышал ее смех. Не знаю, как уж это случилось… то ли окно было открыто, то ли она чуть-чуть выпила. Он приказал выяснить, кто посмел пригласить в его владения любовницу из плоти и крови. Оказалось, один из шоферов. Сын автомобильной эпохи. Де Дюкан рассчитал его и вскоре отбыл погостить в Италию.
Однажды ночью мажордом Живре-ле-Дюк почувствовал запах дыма. Выглянул. Огонь охватил все здание за исключением одного крыла. В отсутствие хозяина большинство слуг разбрелись по домам в соседние деревни. Кучка оставшихся принялась таскать к бушующему пламени ведра с водой. Пробовали связаться с pompiers [62]62
Пожарными (франц.).
[Закрыть], но телефонный провод кто-то перерезал. Когда те подоспели, было уже поздно. Полотна сморщились, книги сгорели дотла, фарфор побился и полопался, монеты расплавились, дорогие инструменты, мебель, куклы-автоматы, включая Мирабель, превратились в золу. Остались лишь руины, непоправимый хаос.
Меня тоже не было во Франции. Рано утром во флорентийской гостинице де Дюкана разбудил телефонный звонок. Он немедля вернулся. Но, говорят, даже не побывал на теплом еще пожарище. Издалека завидел, что натворил огонь, и повернул назад. Через два дня его нашли мертвым в спальне парижского дома. Он принял чрезмерную дозу снотворного. Слуга рассказывал, что на лице трупа застыла сардоническая усмешка. Смотреть на нее было жутко.
Я вернулся через месяц после похорон. Мать была в Южной Америке, и никто не сообщил мне о случившемся. Меня вызвался в нотариальную контору. Я предположил, что мне отказаны клавикорды. Так и вышло. А кроме того… но вы, наверное, уже догадались.
…Он помедлил, как бы давая мне время на размышление, но я не произнес ни слова.
– Часть его состояния, весьма солидная для тогдашнего молодого человека, что живет на средства матери. Сперва я не поверил. Я знал, что он хорошо ко мне относится, что его чувства схожи с теми, какие дядя питает к племяннику. Но такая сумма – и благодаря случайности! Тому, что я играл у открытого окна. Тому, что крестьяночка слишком громко смеялась… – На секунду-другую Кончис умолк.
– Но я обещал рассказать, какие слова де Дюкан мне оставил в придачу к деньгам и воспоминаниям. Не прощальное письмо. Просто латинская фраза. Я так и не смог выяснить, откуда она. Похоже, перевод какого-то греческого текста. Ионийского или александрийского. Вот она. Utram bibis? Aquam an undam? Чем утоляешь жажду? Водой или волною?
– Он пил из волны?
– Все мы пьем из обоих источников. Но этот вопрос он считал вечно актуальным. Не в качестве правила. В качестве зеркала.
Я задумался: а я-то чем утоляю жажду?
– Что стало с поджигателем замка?
– Закон покарал его.
– И вы остались в Париже?
– Его городской дом теперь принадлежит мне. Музыкальные инструменты я перевез в собственную овернскую усадьбу.
– Вы узнали, откуда у него было столько денег?
– Он владел крупными поместьями в Бельгии. Вкладывал средства во французские и немецкие предприятия. Но львиная доля его состояния была вложена в конголезскую экономику. Живре-ле-Дюк, как и Парфенон, возводился под знаком черноты.
– Бурани – тоже?
– Если я отвечу «да», вы сразу откланяетесь?
– Нет.
– Тогда вы не имеете права задавать этот вопрос.
Улыбнулся, словно прося не принимать его слишком всерьез; поднялся, намекая, что беседа окончена.
– Конверт захватите.
Проводил меня в мою комнату, зажег лампу, пожелал спокойной ночи. Но в дверях собственной спальни обернулся и посмотрел на меня. Лицо его на миг омрачилось сомнением, взгляд снова стал недоверчив.
– Водой или волною?
И ушел.
30
Я ждал. Подошел к окну. Сел на кровать. Лег. Опять подошел к окну. Наконец взялся за брошюры. Обе на французском, первая раньше явно была сшита скрепками: на листах виднелись дырочки и пятна ржавчины.
ОБЩЕСТВО «РАЗУМНАЯ ИНИЦИАТИВА»
Мы, врачи и студенты медицинских факультетов университетов Франции, заявляем о своем убеждении в том, что:
1. Разум является единственным двигателем общественного прогресса.
2. Главная задача науки – искоренять неразумное, в какой бы форме оно ни выступало, во внутренней и международной политике.
3. Приверженность разуму выше приверженности нравственным принципам – семейным, сословным, государственным, национальным и религиозным.
4. Пределы разумного определены лишь человеческими возможностями; все остальные ограничения – проявления неразумного.
5. Цивилизация не может быть совершеннее, чем каждое из составляющих ее государств в отдельности; государство не может быть совершеннее, чем каждый его гражданин в отдельности.
6. Обязанность всех, кто согласен с этими положениями – вступить в общество «Разумная инициатива».
–
Членом общества считается всякий, кто подпишет нижеследующую присягу.
1. Обязуюсь жертвовать десятую часть годового дохода обществу «Разумная инициатива» для скорейшего достижения его целей.
2. Обязуюсь неукоснительно руководствоваться требованиями разума на протяжении всей моей жизни.
3. Я не подчинюсь неразумному ни при каких обстоятельствах; перед лицом его не буду нем и пассивен.
4. Я сознаю, что врачи – авангард человечества. Я не устану исследовать собственную физиологию и психологию и поступать в строгом соответствии с результатами этих исследований.
5. Торжественно клянусь чтить разум превыше всего.
–
Братья и сестры по уделу человеческому, призываем вас вместе с нами бороться с силами неразумного, развязавшими все кровопролития последних лет. Пусть наше Общество приобретает все большее влияние вопреки козням политиков и клерикалов. Наступит день, когда Общество займет ключевое место в истории человечества. Пока не поздно, вступайте в него. Будьте в первых рядах тех, кто распознал, кто сплотился, кто борется!
Поперек последнего абзаца выцветшими чернилами было нацарапано: Merde [63]63
Дерьмо (франц.).
[Закрыть]. И текст и комментарий с расстояния в тридцать лет казались сентиментальными, словно мальчишеская потасовка в преддверии ядерного взрыва. К середине века мы в равной мере устали от белой святости и черных богохульств, от высоких парений и вонючих испарений; спасение заключалось не в них. Слова утратили власть над добром и злом; подобно туману, они окутывали энергичную реальность, извращали, сбивали с пути, выхолащивали; однако после Гитлера и Хиросимы стало хотя бы очевидно, что это просто туман, шаткая надстройка.
Вслушавшись в тишину дома и ночи за окнами, я открыл вторую, переплетенную, брошюру. И опять пожелтевшая бумага, старомодный шрифт засвидетельствовали, что передо мною и вправду издание довоенных времен.
КАК ДОСТИЧЬ ИНЫХ МИРОВ
Чтобы добраться до звезд, даже ближайших, человеку требуется миллионы лет лететь со скоростью света. А если бы такое средство передвижения и существовало, никто не смог бы посетить обитаемые области вселенной и вернуться назад в пределах собственной жизни; бесполезны и другие технические новшества вроде огромного гелиографа или радиоволн. И потому представляется, что мы вечные пленники дня сегодняшнего.
Как смешны наши восторги по поводу аэропланов! Как глупа фантастика Верна и Уэллса, живописующая странные создания, что населяют другие планеты!
Но несомненно, в иных звездных системах есть миры, где жизнь повинуется всеобщим законам, и в космосе есть существа, прошедшие тот же эволюционный путь, обуреваемые теми же чаяниями, что и мы. Неужели контакт с ними невозможен?
Лишь один способ общения не зависим от времени. Многие отрицают его существование. Но известен ряд фактов (горячо подтвержденных уважаемыми и знающими свидетелями) передачи мыслей на расстояние в самый момент их зарождения в мозгу. У некоторых примитивных народов, например у лопарей, это столь частое и привычное явление, что его используют в качестве повседневного средства коммуникации, как во Франции – телеграф или телефон.
Не все навыки приобретаются заново; некоторые из них нужно восстанавливать.
Это единственный способ достичь иных планет с разумными обитателями. Sic itur ad astra [64]64
Вот она, дорога к звездам (лат.).
[Закрыть].Потенциальная одномоментность сознания разумных существ действует как пантограф. Не успели мы закончить рисунок, копия уже готова.
Автор этой брошюры не спирит и спиритизмом не интересуется. На протяжении нескольких лет он изучал телепатию и другие явления, лежащие на периферии традиционной медицины. Его интересы чисто научны. Он подчеркивает, что не верит в «сверхъестественное», в розенкрейцерство, герметизм и подобные лжеучения.
Он утверждает, что более развитые цивилизации уже сейчас пытаются с нами связаться; и что само понятие возвышенного и благотворного образа мыслей, проявляющееся в нашем обществе через здравый смысл, взаимовыручку, художественное вдохновение, научную одаренность, на деле есть следствие полуосознанных телепатических сообщений из иных миров. Он уверен, что античная легенда о музах – не поэтический вымысел, но интуитивное описание объективной реальности, которую нам, людям нового времени, предстоит исследовать.
Он ходатайствует о правительственном финансировании и содействии изысканиям в области телепатии и родственных ей явлений; кроме того, призывает коллег присоединиться к его опытам.
В скором времени он намерен предать огласке неопровержимые доказательства того, что общение между мирами возможно. Следите за парижской прессой.
Мне ни разу в жизни не приходилось заниматься телепатией, и вряд ли Кончису удастся заставить меня начать; а любезные джентльмены с других планет если и внушали мне благие намерения и художественное вдохновение, то спустя рукава – что относится не ко мне одному, но и к большинству моих современников. С другой стороны, я, кажется, понял, почему Кончис уверял, что у меня есть духовидческие способности. Элементарная профилактика, подготовка к очередной, еще более странной сцене спектакля, которая должна разыграться завтра вечером… к «эксперименту».
Спектакль, спектакль; он и захватывал и сердил, точно невнятные стихи, даже сильнее, ибо тут невнятен был не только текст, но и вдвойне – цели автора. Сегодня вечером я изобрел новую теорию: Кончис стремится воскресить свое утраченное прошлое, а я в силу каких-то причин подхожу на амплуа первого любовника, его молодого «я». Остро чувствовалось, что наши взаимоотношения (или моя роль в них) опять переменились; как ранее меня разжаловали из гостей в ученики, так сейчас силой запихивали в шутовской костюм. Он явно не желал, чтобы я догадался, каким образом в нем сочетаются столь противоречивые наклонности. Например, душевное страдание, с каким он играл Баха и какое тут и там просвечивало сквозь искусное рукоделие его рассказов о собственной жизни, отменялось, сводилось на нет его несомненными извращенностью и злонамеренностью. Он, должно быть, понимал это, а значит, специально сбивал меня с толку, именно сбивал: ведь подсовываемые им «загадочные» книги и предметы, включая Лилию, а теперь и мифологических персонажей ночного представления со всеми его вычурными двусмысленностями, должны были казаться плохо замаскированными ловушками, и я не мог сделать вид, будто не замечаю подвоха. Но чем больше я размышлял, тем меньше верил в этого бельгийского графа… по крайней мере, такого, каким он предстал в Кончисовых рассказах. Он был просто-напросто двойником самого Кончиса. В переносном смысле характер де Дюкана, возможно, и реалистичен; в буквальном же – в самой малой степени.
Тем временем сюжет спектакля буксовал. Царила полная тишина. Я посмотрел на циферблат. Почти полчаса прошло. Спать я не мог. Поколебавшись, спустился вниз и прошел через концертную под колоннаду. Углубился в лес в том направлении, куда скрылись «бог» и «богиня», затем свернул к морю. Волны мирно плескались о берег, с сухим шелестом перекатывая гальку, хотя не было ни ветерка, ни дуновения. Скалы, деревья, лодку заливал звездный свет, мириады закодированных инопланетных дум. Таинственное, мерцающее, южное море замерло в ожидании; живое, но необитаемое. Выкурив сигарету, я полез по склону туда, где высился незаколоченный дом, где осталась моя спальня.
31
Завтракал я снова в одиночестве. День выдался ветреный: на небе ни облачка, но с моря садит резкий бриз, взметая ветви пальм, стоящих по краям фасада, как часовые. А южнее мыса Матапан завывал мелтеми, крепкий сезонный ветер с Ионических островов.
Я спустился на пляж. Лодки у причала не было. Это подтверждало мою рабочую гипотезу о том, что «посетители» живут на яхте, которая прячется либо в одном из глухих заливчиков западного или южного побережья, либо среди пустынных островков милях в пяти к востоку. Я выплыл из бухты посмотреть, нет ли на террасе Кончиса. Ни души. Перевернулся на спину и завис в воде, мечтая о Лилии. Прохладная рябь лизала нагретую солнцем кожу.
И тут на пляже я увидел ее.
Искрящийся силуэт на фоне серой, в соляных разводах, гальки, охряного утеса и зеленой травы. Я изо всех сил погреб к берегу. Пройдя несколько шагов по камням, она остановилась и принялась наблюдать. Наконец, мокрый, запыхавшийся, я нащупал дно. Она стояла ярдах в десяти, в элегантном летнем платье времен первой мировой, в перламутрово-синюю, белую и розовую полоску. В руке зонтик из той же материи, с бахромой по краям. Морской ветер шел ей, как драгоценность. Играл подолом платья, обрисовывал очертания тела. То и дело пытался отобрать зонтик. Упорно трепал и путал длинные светлошелковые локоны, отбрасывал за плечи, прижимал к лицу.
Она шутливо надула губки, смеясь над собственной досадой и надо мною, стоящим по колено в воде. Почему тишина окутала нас, почему улыбка на несколько мгновений покинула наши лица? Возможно, я романтизирую. Ведь она была так юна, так вкрадчиво-капризна. Усмехнулась озорно и смущенно, точно ее появление нарушало некий этикет.
– Вам что, Нептун язык откусил?
– Вы сногсшибательны. Как ренуаровская дама. Отступила назад, крутанула зонтик. Я натянул пляжные тапочки и подошел к ней, вытирая спину полотенцем. Она улыбнулась с безобидной уклончивой иронией и уселась на плоский камень под сенью отдельно стоящей сосны у входа в лощину, круто взбегавшую по склону. Сложив зонт, указала им на другой камень, упавший с утеса: садитесь. Но там не было тени; я расстелил полотенце на склоне поближе к ней и сел, глядя на нее сверху вниз. Влажные губы, обнаженные предплечья, шрам на левом запястье, распущенные волосы: и куда только делась ее вчерашняя чопорность?
– В жизни не видел призрака симпатичнее.
– Да что вы!
Я говорил серьезно; и рассчитывал застать ее врасплох. Но она только шире улыбнулась.
– А остальные девушки, они кто такие?
– Остальные?
– Ладно вам. Я тоже люблю розыгрыши.
– Так чего ради портить игру?
– Значит, признаете, что это был розыгрыш?
– Ничего я не признаю.
Она кусала губы, избегая смотреть в мою сторону. Я глубоко вздохнул. Она явно готовилась к моему следующему выпаду. Перекатывала камешек носком туфли. Туфля была щегольская, из серой лайки, с пуговичками, натянутая на белый шелковый чулок с четырехдюймовыми, бегущими вверх по ноге боковыми разрезами; ниже подола сквозь них виднелись островки голой кожи. Она будто нарочно выставила ногу так, чтобы эта очаровательная подробность ее старомодного туалета от меня не ускользнула. Несколько прядей растрепались, заслонив лицо. Мне хотелось то ли отбросить их, то ли встряхнуть ее как следует. Наконец я отвел глаза к горизонту – так Одиссей прикручивал себя к мачте.
– Вы дали понять, что участвуете в этом маскараде, дабы ублажить старика. Если я должен вам помогать, растолкуйте, во имя чего. Как-то не верится, что он не догадывается об истинной подоплеке.
Она заколебалась, и я было решил, что убедил ее.
– Дайте руку. Я вам погадаю. Подвиньтесь поближе, только платье не замочите.
Еще раз вздохнув, я протянул ей ладонь. Или то был тайный знак согласия? Слабо сжав мое запястье, она принялась водить указательным пальцем по линиям руки. Я без труда заглянул в вырез платья; молочно-белое тело, нежные, соблазнительные припухлости грудей. Эти нехитрые заигрывания она проделывала с отчаянным видом кисейной барышни, сбежавшей из-под материнского присмотра. Палец невинно-многозначительно скользил по моей ладони.
– Вы проживете долго, – заговорила она. – У вас будет трое детей. В сорок лет едва не погибнете. Разум в вас пересиливает чувство. И обманывает его. Ваша жизнь… по-моему, состоит из сплошных измен. То самому себе. То – тем, кто вас любит.
– Уходите от ответа?
– Ладонь открывает нам следствия. А не причины.
– Дайте-ка теперь я вам погадаю.
– Еще не все. Вы никогда не разбогатеете. Остерегайтесь черных собак, обильной выпивки и старушек. У вас будет много женщин, но полюбите вы только одну – ту, на которой женитесь… и заживете с ней счастливо.
– Хоть в сорок лет едва не погибну?
– Возможно, как раз поэтому. Вот она, критическая точка. Линия любви после нее углубляется.
Выпустив мою руку, она чинно скрестила свои на коленях.
– Так дайте, теперь моя очередь.
– Не «дайте», а «разрешите».
Преподав мне урок хороших манер, она еще пожеманилась, но вдруг протянула руку. Я сделал вид, что гадаю, тоже водя пальцем по ладони; а потом попробовал понять значение линий с помощью дедуктивного метода Шерлока Холмса. Но тут спасовал бы даже этот великий мастер выведывать всю подноготную у кухонной прислуги ирландских кровей, страстный поборник гребли и увеличительных стекол. Как бы там ни было, ладони Лилии отличались мягкостью и белизной; она-то уж точно не служила при кухне.
– Что вы там копаетесь, мистер Эрфе?
– Николас.
– А вы зовите меня Лилией, Николас. Только не защекочите, пожалуйста.
– Я вижу только одно.
– Что именно?
– Что вы гораздо умнее, чем хотите казаться.
Отдернула руку, презрительно выпятила губу. Но долго сердиться она не умела. У щеки трепетал локон; ветер игриво, кокетливо перебирал складки платья, поддерживая иллюзию, что она моложе, чем есть на самом деле. Я припомнил, что именно Кончис говорил о настоящей Лилии. Девушка, сидевшая рядом со мной, изо всех сил старалась походить на прототип; или, наоборот, он рассказывал, исходя из ее данных. Но в некоторых ситуациях актерский талант не помогает. Она снова показала мне ладошку.
– А когда я умру?
– Вы вышли из роли. Вы ведь уже умерли.
Сложила руки, повернулась к морю.
– А вдруг у меня нет выбора?
Опять неожиданность. В ее голосе послышалась нотка сожаления об истинном, сегодняшнем «я»; глухая маска эдвардианской девушки на миг исчезла. Я внимательно посмотрел на нее.
– То есть?
– Все, что мы говорим, он слышит. Он знает.
– Вы должны все ему передавать? – недоверчиво спросил я. Она кивнула, и я понял, что маска никуда не исчезала. – Каким образом? Телепатически?
– Телепатически и… – Отвела глаза.
– И?
– Не могу сказать.
Взяла зонт, раскрыла, точно собиралась уходить. С кончиков спиц свисали черные кисточки.
– Вы его любовница? – Обожгла взглядом; мне показалось, что теперь-то я расстроил ее игру. – Не иначе, если вспомнить вчерашний стриптиз, – сказал я. И добавил: – Я просто хочу понять, что тут в действительности происходит.
Встала и быстро направилась через пляж к тропинке, ведущей на виллу. Я побежал следом, загородил ей дорогу.
Она остановилась, подняла взгляд, в котором ярко светились обида и укор. Страстно проговорила:
– Зачем вам понимать, что происходит в действительности? Вы когда-нибудь слыхали такое слово: воображение?
– Отличный ответ. Но меня он не убедил.
Сухо поглядев на мою ухмылку, она снова опустила голову.
– Теперь ясно, почему стихи у вас плохие.
Настал мой черед обижаться. В то, первое воскресенье я рассказывал Кончису о своих поэтических неудачах.
– Жаль, что я не однорукий. Вот был бы повод повеселиться!
Последовал взгляд, который, как мне показалось, выдал ее истинное «я»: быстрый, но твердый, а в какой-то миг даже… но она отвела лицо.
– Беру свои слова назад. Простите.
– Покорно благодарен.
– Я не любовница ему.
– И никому, надеюсь?
Повернулась ко мне спиной, в сторону моря.
– Весьма наглое замечание.
– Не наглее вашего требования принять на веру всю эту чепуху.
Зонтик скрывал ее лицо, и я вытянул шею; выражение его опять противоречило словам. Не гримаса негодования, а безуспешно сдерживаемое веселье. Встретившись со мной глазами, она кивнула в направлении причала.
– Сходим туда?
– Если так записано в сценарии, давайте.
Повернулась ко мне, угрожающе подняв палец:
– Но так как общего языка нам все равно не найти, прогуляемся молча.
Я улыбнулся, пожал плечами: перемирие так перемирие. На пристани ветер дул сильнее, и волосы доставили ей немало хлопот, очаровательных хлопот. Их кончики трепетали в лучах солнца, будто сияющие шелковые крыла. Наконец, сунув мне сложенный зонт, она попыталась расчесать спутанные пряди. Настроение ее в очередной раз переменилось. Она хохотала без передышки, поблескивая чудесными белыми зубами, подпрыгивая и отшатываясь, когда в край причала била волна и обдавала нас брызгами. Разочек сжала мою руку, но потому лишь, что игра с ветром и морем захватила ее целиком… Смазливая, норовистая школьница в пестром полосатом платье.
Я украдкой разглядывал зонтик. Он был как новенький. Видимо, привидение, явившееся из 1915 года, и должно принести с собой новый; но почему-то казалось, что убедительнее – ибо абсурднее – смотрелся бы старый, выцветший.
Тут на вилле зазвенел колокольчик. Та же мелодия, что неделю назад, имитирующая звук моего имени. Лилия выпрямилась, прислушалась. Снова звон, рассеиваемый ветром.
– Ни-ко-лас. – И с пафосом продекламировала: – К тебе он взывает.
Я повернулся к лесистому склону.
– Не пойму, зачем.
– Вам надо идти.
– А как же вы? – Покачала головой. – Почему?
– Потому что меня не звали.
– По-моему, мы должны закрепить наше примирение. Она стояла вплотную, отводя волосы от лица. Суровый взгляд.
– Мистер Эрфе! – Она произнесла это как вчера вечером, холодным, чеканным тоном. – Вы что, намерены подарить мне лобзание?
Прекрасный ход; капризница 1915 года с иронией выговаривает расхожую фразу викторианской эпохи; изящное двойное ретро; получилось диковато и мило. Зажмурилась, подставила щеку и отшатнулась, не успел я коснуться ее губами. Я остался стоять перед склоненным девичьим челом.
– Одна нога здесь, другая там, – пообещал я.
Отдал ей зонтик, сопроводив его взглядом, в который постарался вложить и неразделенную страсть, и призыв к откровенности, а затем устремился на виллу. То и дело оглядываясь, стал взбираться по тропинке. Она дважды помахала мне с причала. Я преодолел крутизну и по мелколесью зашагал к дому. У двери концертной, рядом с колокольчиком, стояла Мария. Но еще через два шага мир перевернулся. По крайней мере, так мне показалось.
На террасе, футах в пятидесяти, лицом ко мне, возникла чья-то фигура. Это была Лилия. Это не могла быть она, но это была она. Те же развеваемые ветром локоны; платье, зонт, осанка, черты лица – все было точно такое же. Она смотрела на море поверх моей головы, не обращая на меня ни малейшего внимания.
Я испытал страшное потрясение, потерял всякую ориентировку. Но моментально сообразил, что, хотя мне и пытаются внушить, что передо мной именно та девушка, которую я только что оставил на берегу, на деле это неправда. Столь разительное сходство могло объясняться только тем, что я вижу ее сестру-двойняшку. Оказывается, на этой лужайке сразу две Лилии. Опомниться я не успел. Рядом с Лилией на террасе появилась новая фигура.
Мужчина, заметно выше Кончиса. Впрочем, я лишь предполагал, что это мужчина («Аполлон», или «Роберт Фулкс», или даже «де Дюкан»), ибо он стоял против солнца, одетый в черное; на голове – самая жуткая маска, которую только можно вообразить: морда огромного черного шакала, длиннорылого, навострившего уши. Они стояли рядом, господин и рабыня, вздыбленная смерть и хрупкая дева. Оправившись от первого потрясения, я ощутил в этой сцене преувеличение, гротескный перебор в духе плохого комикса. Фигуры, несомненно, воплощали некий зловещий архетип, но ранили они не только подсознание, но и чувство меры.
Я и на сей раз не усмотрел в происходящем ничего сверхъестественного – лишь очередной гадкий театральный вывих, мрачную пародию на нашу пляжную прогулку. Это не значит, что я не испугался. Испугался, и еще как, ибо понимал: случиться может все что угодно. Спектакль этот не знает ограничений, не знает человеческих условностей и правил.
Я стоял как вкопанный секунд десять. Мария направлялась ко мне, а фигуры на террасе отступали, словно опасаясь попасться ей на глаза. Черная лапа повелительно тащила дублершу Лилии за плечи. Перед тем как скрыться, она взглянула на меня, но лицо ее осталось бесстрастным.
Остерегайтесь черных собак.
Я метнулся к тропинке. На бегу обернулся. Терраса была пуста. Достиг обрыва; отсюда открывалась панорама пляжа, отсюда – не прошло и полминуты – я в последний раз увидел, как машет с берега Лилия. На причале ни души, да и на той части пляжа, что просматривалась с этой точки. Пробежав дальше, до скамейки на уступчике, я оглядел остаток пляжа и вьющуюся по склону тропу. Высматривал пестрое платье – тщетно. Может, она прячется в яме с канистрами или среди скал? Но нельзя вести себя так, как они ожидают. Я повернул назад и направился к дому.
Мария все стояла на краю колоннады. Не одна, с каким-то мужчиной. Я узнал Гермеса, молчаливого погонщика осла. Он был того же роста, что человек в черном; но выглядел невинно, будто случайный прохожий. Бросив им «Мья стигми» («Минутку»), я вошел в дом. Мария протягивала мне конверт, но я отмахнулся. Взлетел по лестнице к комнате Кончиса. Постучал. Тишина. Еще постучал. Подергал ручку. Заперто.
Я спустился на первый этаж, замешкался в концертной, чтобы закурить и взять себя в руки.
– Где г-н Конхис?
– Ден ине меса. – Нет дома. Мария вновь протянула конверт, но я не обратил на него внимания.
– Где он?
– Эфиге ме ти варка. – Уплыл на лодке.
– Куда?
Она не знала. Я взял конверт. На нем значилось «Николасу». Два листка бумаги.
Первый – записка Кончиса.
Дорогой Николас, до вечера Вам придется развлекаться самому. Неотложные дела требуют моего присутствия в Нафплионе.
М.К.
Второй – радиограмма. На острове не было ни телефона, ни телеграфа, но в штабе морской охраны имелась небольшая радиостанция.
Послана из Афин вчера вечером. Я было решил, что в ней содержится объяснение отъезда Кончиса. И тут меня постигло третье за последние три минуты потрясение. Я увидел подпись. Радиограмма гласила:
ВЕРНУСЬ ПЯТНИЦУ ТЧК ОСТАНУСЬ ТРИ ДНЯ ТЧК ШЕСТЬ, ВЕЧЕРА АЭРОПОРТУ ТЧК
ПОЖАЛУЙСТА ВСТРЕЧАЙ АЛИСОН
На почте принята в субботу днем. Я взглянул на Марию и Гермеса. Тупые, спокойные лица.
– Когда ты ее принес?
– Прой прой, – ответил Гермес. Рано утром.
– Кто тебе ее передал?
Учитель. Вчера вечером, в таверне Сарантопулоса.
– Почему сразу мне не отдал?
Он пожал плечами, посмотрел на Марию; та тоже пожала плечами. Должно быть, они хотели сказать, что ее отдали Кончису. Так что это он виноват. Я перечитал текст.
Гермес спросил, ждать ли ответа; он возвращался в деревню. Нет, сказал я, ответа не будет.
Я задумчиво оглядел Гермеса. Его независимый вид не располагал к расспросам. Но я все же попытался:








