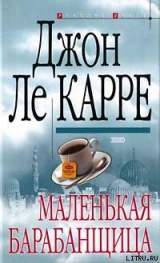
Текст книги "Маленькая барабанщица"
Автор книги: Джон Ле Карре
Жанр:
Шпионские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Осси, – сказала она, не поворачивая к нему головы.
– Да, Чарли?
Она не смотрела в его сторону и все же точно знала, что на своем тускло освещенном острове он ждет ее ответа с большим нетерпением, чем все они вместе взятые.
– Так это она и есть? Наша романтическая поездка но Греции? Дельфы и все эти вторые по красоте места?
– Нашей запланированной поездке на север ничто не помешает, – ответил Иосиф, повторив таким образом фразу Курца.
– И даже не отложит ее?
– Нет, она состоится очень скоро.
Нитка лопнула, и пуговица лежала теперь на ее ладони. Чарли кинула ее на стол и наблюдала, как та вертится, замедляя движение. «Орел или решка», – загадала она.
Пусть еще поволнуются. Вытянув губы. она выдохнула воздух, как бы сдувая со лба упавшую прядь.
– Ну, так я остаюсь для переговоров, ладно? – небрежно сказала она Курцу, не сводя глаз с пуговицы. – Ведь я же ничего не теряю.
И подумала: «Занавес, аплодисменты, вот, Иосиф, пожалуйста, и подождем завтрашних рецензий». Но ничего не произошло. Тогда, взяв опять ручку, она начертила еще один символ, на этот раз девушки, в то время как Курц, возможно совершенно машинально, опять передвинул свои часы на место более удобное.
Теперь с любезного согласия Чарли переговоры могли начаться всерьез.
Первые вопросы Курца были намеренно беспорядочны и как бы совершенно безобидны. «Словно в мозгу у него невидимый анкетный бланк, – подумала Чарли, – и она заполняет невидимые графы».
Полное имя матери, Чарли. Когда и где родился ваш отец, если это вам известно. Профессия дедушки, нет, Чарли, с отцовской стороны. А за этим, неизвестно по каким причинам, последовал адрес тетки с материнской стороны, а вслед за тем малоизвестные подробности образования, полученного ее отцом. Ни один из этих первых вопросов впрямую не касался Чарли, да это и не входило в планы Курца. Словно сама Чарли была запретной темой, которую он тщательно избегал. Подлинной целью этой канонады вопросов было вовсе не получение информации, а воспитание в ней эдакой школьной «да – нет – господин учитель» покорности, навыка, от которого зависело их будущее сотрудничество. И Чарли, чем дальше, тем больше чувствуя, как начинает пульсировать в ней актерская кровь, повиновалась и окликалась все чутче, все самозабвеннее. Разве не то же самое сотни раз проделывала она для режиссеров и постановщиков, поддерживая пустую беседу, единственным смыслом которой было продемонстрировать себя и свои возможности? Тем приятнее делать это сейчас под гипнотическим и одобрительным взглядом Курца.
– Хайди? – эхом откликнулся Курц. – Хайди?Чертовски странное имя для старшей сестры-англичанки, не так ли?
– Нет, для Хайдн вовсе не странное! – с живостью возразила Чарлн и тут же отметила послышавшиеся из темноты смешки охранников. – Ее назвали Хайди, потому что родители проводили свой медовый месяц в Швейцарии, – объяснила она, – и Хайди зачали именно там. Среди эдельвейсов, – со вздохом прибавила она, – и благочестивых молитв.
– Тогда откуда возникла Чармиан? – спросил Марти, когда веселье наконец затихло.
Голос Чарли стал тоньше, и она, копируя ледяную интонацию своей стервы-матери, объяснила:
– «Чармиан» выбрали, чтобы подлизаться к одной богатой дальней родственнице, носящей это имечко.
– Ну и как, помогло? – спросил Курц, одновременно наклоняя голову, чтобы лучше расслышать то, что говорил ему Литвак.
– Нет еще, – игриво ответила Чарли, все еще копируя манерную интонацию своей мамаши. – Папа, знаете ли, уже опочил, но кузине Чармиан это еще предстоит.
Так с помощью этих и подобных этим безобидных околичностей подошли они постепенно к самой Чарли.
– Весы, – с удовлетворением пробормотал Курц, записывая дату ее рождения. Тщательно, но быстро расспросил он ее о годах детства: адреса квартир, пансионы, имена друзей, клички домашних животных: Чарли отвечала соответственно – пространно, иногда шутливо, но с готовностью. Ее замечательная память, побуждаемая как вниманием Курца, так и все растущей потребностью самой Чарли в добрых отношениях с ним, и тут не подвела ее. От школы и детских впечатлений совершенно естественно было – хоть Курц и проделал это со всей деликатностью – перейти к горестной истории ее разорившегося папаши; Чарли поделилась и этой историей, рассказала спокойно, с трогательными деталями обо всем, начиная с первого известия о катастрофе и кончая тем, как пережила суд над отцом, приговор и заключение. Правда, изредка голос изменял ей, а взгляд сосредоточивался на руках, которые так красиво и выразительно жестикулировали, освещенные ярким светом лампы, но на ум приходила какая-нибудь лихая, полная самоиронии фраза, и настроение менялось.
– Все было бы в порядке, будь мы рабочей семьей, – сказала она между прочим, улыбнувшись мудро и горестно. – Вас увольняют, вы переходите на пособие, капиталистический мир ополчился на вас, такова жизнь, все верно и естественно. Но наша семья не имела отношения к рабочему классу. Мы – это были мы. Из числа победителей. И вдруг ни с того ни с сего мы пополнили собой ряды побежденных.
– Тяжело, – серьезно сказал Курц, покачав своей большой головой.
Вернувшись назад, он уточнил основные факты: когда и где состоялось судебное разбирательство, Чарли, и имена юристов, если вы их помните. Она не помнила, но все, что сохранилось в памяти, сообщила. Литвак усердно записывал ее ответы, предоставив Курцу полную возможность лишь внимательно и благожелательно слушать. Смех теперь совершенно прекратился. Словно вырубили фонограмму, оставив звучать только их двоих – ее и Марти. Ни единого скрипа, покашливания, шарканья ног. Никогда еще, по мнению Чарли, ей не попадался такой внимательный и благодарный зрительный зал. «Они понимают, – думала она. – Знают, что такое скитальческая жизнь, когда все зависит только от тебя, а судьба подбрасывает тебе плохие карты». В какую-то минуту Иосиф негромко приказал погасить свет, и они сидели в абсолютной темноте, как при воздушном налете. Вместе с остальными Чарли напряженно ждала отбоя. Действительно ли Иосиф что-то услышал или это просто способ показать ей, что теперь она заодно с ними? Как бы то ни было, но несколько мучительных мгновений она действительно чувствовала себя их сообщницей и о спасении не помышляла.
Несколько раз, оторвав взгляд от Курца, она различала фигуры других участников операции, дремавших на своих постах. Вот швед Рауль – голова с льняными волосами свесилась на грудь, толстая подошва упирается в стену. Южноафриканская Роза прислонилась к двойным дверям, вытянула перед собой стройные ноги бегуньи, а длинные руки скрестила на груди. Вот Рахиль – ее волосы цвета воронова крыла разметались, глаза полузакрыты, а на губах еще бродит мягкая задумчивая и чувственная улыбка. Но стоит раздаться постороннему шепоту, и сон их мигом прервется.
– Так как можно было бы озаглавить, – ласково осведомился Кури, – как определить ранний период вашей жизни, до того момента, который многие посчитали бы падением?
– Период невинности, Марти? – с готовностью подсказала Чарли.
– Совершенно точно. Опишите мне его вкратце
– Это был ад.
– Не хотите назвать причины?
– Жизнь в предместье. Этого достаточно?
– Нет.
– О Марти, вы такой... – Слабый голос. Тон доверчивый и безнадежный. Вялые движения рук. Разве сможет она объяснить? – Вы – совсем другое дело. Вы еврей. Как вы этого не понимаете? У вас есть эти удивительные традиции, уверенность. Даже когда вас преследуют, вы знаете, кто вы и почему вас преследуют.
Курц невесело подтвердил это.
– Но нам, богатым детям английских предместий, привилегированным детям, это недоступно. У нас нет традиций, нет веры, нет понимания себя, ничего нет.
– Но вы говорили, что ваша мать католичка?
– На Рождество и на Пасху! Чистейшей воды лицемерие! Мы принадлежим постхристианской эре, Марти. Вам никто этого не говорил? Вера, когда уходит, оставляет после себя вакуум. Мы находимся в вакууме.
– А вы не испытывали страха?
– Только стать такой, как мама!
– И так думаете вы все – дети древней страны, воспитанные в древних традициях?
– Бросьте, какие там традиции!
Курц улыбнулся и покачал своей головой мудреца, словно желая сказать, что учиться никогда не поздно.
– Значит, как только представилась возможность, вы оставили семью и нашли прибежище в театре и радикальной политике, – заключил он с довольным видом. – На сцене вы стали политической репатрианткой. Я где-то прочел это в одном из ваших интервью. Мне это понравилось Продолжайте с этого момента.
Она опять принялась чертить, и в блокноте появились новые символы внутренней жизни души.
– Были и другие способы вырваться, еще до этого, – сказала она.
– Например?
– Секс, знаете ли, – беззаботно призналась Чарли. – По-моему, мы даже не касались секса, а секс – это же основа бунтарства, правда? Так же как и наркотики.
– Бунтарства мы не касались, – сказал Курц.
– Ну так я расскажу про это, Марти.
Произошла странная вещь, доказывающая, возможно, то, каким неожиданным образом может влиять на исполнителя внимательная публика. Чарли уже совсем было собралась произнести свой хорошо обкатанный монолог, предназначенный рабам конформизма. О том, как необходимо будет, когда придет время исторических исследований о «новых левых», вскрыть подлинные истоки их философии, коренящиеся в угнетающей терпимости, которая царит в буржуазных гостиных. Но вместо этого, к своему удивлению, Чарли услышала, как перечисляет для Курца – а может быть. для Иосифа? – своих бесчисленных бывших любовников и все дурацкие оправдания, придуманные ею, чтобы спать с ними.
– Это как-то помимо меня происходит, Марти, – сказала она, беспомощно разводя руками. Может быть, она злоупотребляла этим? Похоже, что да, и сажала их себе на шею. – И по сей день это так. Я ведь не хотелаих. Не любила.Я им просто позволялаэто.
Мужчины, которых она подбирала от скуки, все что угодно, лишь бы разогнать затхлую скуку Рикмансуэрта, Марти! Из любопытства. Мужчины как доказательство своей власти, мужчины как способ мести – чтобы отомстить за себя другим мужчинам, или другим женщинам, или своей сестре, или матери, будь она неладна! Мужчины из вежливости, Марти, или устав от их бесконечных домогательств. Мужчины на театральных банкетах, Марти, представляете? Мужчины, чтобы разрядиться и чтобы зарядиться. Мужчины для эрудиции – ее учителя в политике, их предназначением было рассказывать ей в постели то, что ей было непонятно в книгах. Краткосрочные вожделения, рассыпавшиеся в прах под ее руками, как глиняные безделушки, и оставлявшие ее еще более одинокой, чем раньше. Недотепы, недотепы, ах, какие они недотепы, считай, все они, Марти. Но они дали мне свободу, понимаете? Я распоряжалась своим телом так, как этого хотелось мне! Пусть и не так, как надо! Режиссером была я!
В то время как Курц глубокомысленно слушал, Литвак строчил не переставая. А она думала об Иосифе, сидевшем так, что ей его не было видно, воображала, как он оторвется от своих бумаг и, слыша ее признания, предназначавшиеся лишь ему одному, взглянет на нее, подперев указательным пальцем свою гладкую щеку. «Подбери меня, – мысленно молила она его, – дай мне то, что другие так и не смогли дать!»
Когда она замолчала, последовавшая тишина заставила ее содрогнуться. Зачем она это сделала? В жизни своей не выступала в подобной роли, даже перед самой собой. Виновата, видно, бессонная ночь. Спать хочется. С нее довольно. Пускай дают ей эту роль или отсылают домой, или и то и другое вместе.
Но Курц не сделал ни того, ни другого. Пока не сделал. А всего лишь объявил короткий перерыв и, взяв со стола часы на солдатском ремешке, надел их на руку. И поспешил из комнаты, прихватив с собой Литвака. Она ждала, что позади раздадутся шаги уходящего Иосифа. Но все было тихо. Она хотела оглянуться и не посмела. Роза принесла ей стакан сладкого чая. Без молока. Рахиль подала какие-то глазированные штучки, похожие на английские коржики. Чарли взяла одну.
Отхлебывая чай, Чарли облокотилась на спинку стула, чтобы незаметно и естественно повернуть голову. Иосиф исчез, унеся с собой бумаги.
Комната, куда они отправились отдохнуть, была такая же большая и голая. В ней стояли две раскладушки и телетайп, двустворчатая дверь вела в ванную. Беккер и Литвак сидели друг против друга на раскладушках и изучали папки с бумагами; у телетайна дежурил стройный юноша по имени Давид. Время от времени аппарат со стоном вздрагивал и изрыгал еще один исписанный лист, который Давид подкладывал в сгонку уже собранных. Кроме звуков, издаваемых телетайпом, слышался только плеск воды из ванной, где мылся, повернувшись к ним спиной, голый до пояса, похожий на отдыхающего спортсмена Курц.
– Толковая барышня! – крикнул Курц, обращаясь к Литваку; тот в по время перевернул страницу и отчеркнул на нем что-то фломастером. – Полностью оправдывает наши надежды. С головой, воображением и неиспорченная!
– Врет, как сивый мерин, – сказал Литвак, не поднимая головы от бумаг. Поза его и нагловатый тон, каким это было сказано, ясно говорили о том, что реплика ушам Курца не предназначалась.
– Кто бы жаловался! – воскликнул Курц, бросая себе в лицо еще одну пригоршню воды. – Сегодня врет себе на пользу, завтра – нам на пользу. Так зачем нам ангел с крылышками?
Гудение телетайпа вдруг совершенно изменилось. Беккер и Литвак оба резко обернулись на этот звук, но Курц словно ничего не слышал. Возможно, ему в уши налилась вода.
– Для женщины ложь – это способ обороны. Они обороняют правду, как обороняют девственность. Женская ложь – свидетельство добропорядочности.
Сидевший возле аппарата Давид поднял руку, привлекая их внимание.
– Предназначено вам одному, – сказал Давид и встал, уступая место Курцу.
Телетайп затрясся. С полотенцем на шее Курц сел на стул Давида, вставил диск и стал ждать, когда сообщение будет расшифровано. Печатание прекратилось; Курц прочитал сообщение, оторвал его от ролика, прочитал снова. Затем раздраженно хмыкнул.
– Инструкция с самого верха, – с горечью объявил он. – Грач распорядился, чтобы мы выдали себя за американцев. Как вам это нравится? «Ни в коем случае не открывайте ей вашего подданства, кого представляете и на кого работаете». Прелесть, правда? Конструктивное и полезное распоряжение. Притом весьма своевременное. Миша Гаврон, как всегда, неподражаем. Другого такого надежного человека еще мир не видел. Отвечай: «Да, повторяю: нет», – бросил он удивленному юноше, вручая оторванный клочок с сообщением, и трое мужчин опять заняли свои места на сцене.
7
Для продолжения беседы с Чарли Курц выбрал интонацию благожелательной твердости, словно, прежде чем двигаться дальше, ему необходимо уточнить некоторые малозначительные детали.
– Итак, Чарли, возвращаясь к вашим родителям... – сказал он.
Литвак вытащил папку и держал ее так, чтобы Чарли не видела.
– Возвращаясь к родителям? – повторила она и храбро потянулась за сигаретой.
Курц помолчал, проглядывая какую-то бумагу из тех, что подал ему Литвак.
– Вспоминая последний период жизни вашего отца – разорение, неплатежеспособность и в конце концов смерть, – не могли бы вы еще раз восстановить точную последовательность событий? Вы находились в пансионе. Пришло ужасное известие. С этого места, пожалуйста.
Ока не сразу поняла.
– С какого места?
– Пришло известие. Начинайте отсюда.
Она пожала плечами.
– Меня вышвырнули из школы, я отправилась домой; по дому, точно крысы, рыскали судебные исполнители. Я уже рассказывала это, Марти. Чего ж еще?
– Вы говорили, что директриса вызвала вас, – помолчав, напомнил ей Курц. – Прекрасно. И что она вам сказала? Если можно, поточнее.
– «Простите, но я велела служанке уложить ваши вещи. До свидания и счастливого пути». Насколько я помню. это все.
– О, такоене забывается! – сказал Курц с мягкой иронией. Наклонившись через стол. он снова заглянул в записи Литвака. – И никакого напутственного слова девочке, отравляющейся на все четыре стороны во враждебный жестокий мир? Не говорила «будьте стойкой», или что-нибудь в этом роде? Нет? Не объяснила, почему вам следует оставить ее заведение?
– Мы задолжали к тому времени уже за два семестра, неужели это повод недостаточный? Они – деловые люди, Марти. Счет в банке – это их первейшая забота. Не забудьте. школа-то частная! – Она демонстративно зевнула. – Вам не кажется, что пора закругляться? Не знаю почему, но я не держусь на ногах.
– Не думаю, что все так трагично. Вы отдохнули и еще можете поработать. Итак, вы вернулись домой. Поездом?
– Исключительно поездом! Одна. С маленьким чемоданчиком. Домой, в родные пенаты.
Она потянулась и с улыбкой оглядела комнату, но Иосиф смотрел в другую сторону. Он словно слушал далекую музыку.
– И что именновы застали дома?
– Хаос, разумеется. Как я уже и говорила.
– Расскажите поподробнее об этом хаосе. Хороню?
– Возле дома стоял мебельный фургон. Какие-то мужчины в фартуках. Мать плакала. Половину моей комнаты уже освободили.
– Где была Хайди?
– Хайди не было. Отсутствовала. Не входила в число тех, кто там был.
– Никто не позвал ее? Вашу старшую сестру, любимицу отца? Которая жила всего в десяти милях оттуда? Счастливую и благополучную в своем семейном гнездышке? Почему же Хайди не появилась, не помогла?
– Наверное, беременна была, – небрежно сказала Чарли, разглядывая свои руки. – Она всегда беременна.
Но Курц лишь смотрел на нее долгим взглядом и ничего не говорил.
– Кто, вы сказали, была беременна? – спросил он, словно не расслышал.
– Хайди.
– Чарли, Хайди не была беременна. Первый раз она забеременела на следующий год.
– Хорошо, не была так не была.
– Почему же она не приехала, не оказала помощь своим родным?
– Может быть, она знать ничего об этом не желала, не имела к этому отношения. Вот все. что я помню, Марти, хоть убейте. Прошло ведь десять лет. Я была тогда ребенком, совсем другим человеком.
– Значит, это из-за позора. Хайди не могла примириться с позором. Я имею в виду банкротство вашего отца.
– Ну а какой же еще позор можно иметь в виду? – бросила она.
Курц счел ее вопрос риторическим. Он опять погрузился в бумаги, читая то, на что указывал ему Литвак своим длинным пальцем.
– Так или иначе, Хайди к этому не имела отношения. и весь груз ответственности в этот тяжелый для семьи период приняли на свои хрупкие плечи вы, не правда ли? Шестнадцатилетняя Чарли поспешила на помощь, чтобы «продолжить опасный путь среди обломков капиталистического благополучия», если использовать ваше недавнее изящное высказывание. «Это был незабываемый наглядный урок». Все утехи потребительской системы – красивая мебель, красивые платья. – все эти признаки буржуазной респектабельности. все на ваших глазах исчезло, было отнято у вас. Вы остались одна. Управлятьи распоряжаться. На непререкаемой высоте но отношению к своим несчастным буржуазным родителям, которые должны были бы родиться рабочими, но, но досадному упущению, не родились ими. Вы утешали их. Помогали им сносить их позор. Чуть ли не отпускали им. как я думаю, их грехи. Трудная задача, -печально добавил он, – очень трудная.
И он замолчал, ожидая, что скажет она. Но и она молчала.
Курц заговорил первым:
– Чарли, мы понимаем, что это весьма болезненно для вас, и все же мы просим вас продолжать. Вы остановились на мебельном фургоне, описали, как увозили пожитки. Что еще вы нам расскажете?
– Про пони.
– Они забрали и пони?
– Я уже говорила это.
– Вместе с мебелью? В том же фургоне?
– Нет. В другом. Что за чушь!
– Значит, фургонов было два. И оба пришли одновременно. Или сначала один, потом другой?
– Не помню.
– Где находился ваш отец все это время? Может быть. в кабинете? Смотрел в окно, наблюдая за происходящим? Как ведет себя человек в его положении, как переносит свой позор?
– Он был в саду.
– И что делал?
– Смотрел на розы. Любовался ими. И все твердил, что розы он не отдаст. Что бы ни случилось. Все повторял и повторял одно и то же: «Если они заберут мои розы. я себя убью».
– А мама?
– Мама была на кухне. Готовила. Единственное, на чем она могла сосредоточиться.
– Готовила на газовой плите или на электрической?
– На электрической.
– Если я не ослышался, вы сказали, что компания отключила электричество?
– Потом включила опять.
– А плиту они не забрали?
– По закону они оставляют плиту... Плиту, стол и по одному стулу на каждого.
– А ножи и вилки?
– По одному прибору на каждого.
– Почему они не опечатали дом? Не вышвырнули вас на улицу?
– Он был на имя матери. Еще гораздо раньше она настояла на этом.
– Мудрая женщина. Однако дом был записан на имя вашего отца. Откуда, вы сказали, директриса узнала о его банкротстве?
Чарли чуть было не потеряла нить. На секунду образы, теснившиеся в голове, стали расплываться, но затем они обрели четкие очертания и вновь начали подсказывать ей необходимые слова; мать в лиловой косынке склонилась над плитой, она исступленно готовит хлебный пудинг – любимое блюдо их семьи. Отец с землисто-серым лицом, в синем двубортном пиджаке любуется розами. Директриса, заложив руки за спину, греет свою твидовую задницу возле незажженного камина в своей элегантной гостиной.
– Из «Лондон газетт», – безразлично отвечала она. – Там сообщается обо всех банкротствах.
– Она была подписчицей этого издания?
– Вероятно.
Курц кивнул, неспешно, задумчиво, потом взял карандаш и в лежавшем перед ним блокноте написал на листке слово «вероятно», написал так, чтобы она могла это прочесть.
– Так, а после банкротства пошли фальшивые чеки и распоряжения о выплате. Верно? Поговорим, если можно, о процессе.
– Я уже рассказывала. Папа не разрешил нам на нем присутствовать. Сначала он собирался защищаться, защищаться как лев. Мы должны были сидеть в первом ряду, чтобы вдохновлять его. Но после того, как ему предъявили улики, он передумал.
– В чем его обвиняли?
– В присвоении денег клиентов.
– Какой срок дали?
– Восемнадцать месяцев минус тот срок, что он уже отсидел. Я рассказывала, Марти. Все это я уже вам говорила. Так зачем вам еще?
– Вы посещали его в тюрьме?
– Он не хотел. Стыдился.
– Стыдился, – задумчиво повторил Курц. – Такой стыд. Позор. Падение. Вы и сами так думали, верно?
– А вы бы предпочли, чтобы не думала?
– Нет, Чарли, конечно, нет.
Он опять сделал маленькую паузу.
– Так, продолжаем. Вы остались дома. В школу не вернулись, несмотря на блестящие способности, с образованием было покончено – вы ухаживали за матерью, ждали из тюрьмы отца. Так?
– Так.
– Тюрьму обходили стороной?
– Господи, – горько пробормотала она, – зачем еще и рану бередить!
– Даже и взглянуть в ту сторону боялись?
– Да!
Она не плакала, сдерживала слезы с мужеством, которое должно были вызывать у них восхищение. Наверное, думают: «Как вытерпела они такое – тогда и теперь?»
– Что-нибудь из этого тебе пригодится, Майк? – спросил Курц у Литвака, не спуская глаз с Чарли.
– Грандиозно, – выдохнул Литвак, в то время как перо его продолжало свой бег по бумаге. – Чрезвычайно ценная информация, мы сможем ее использовать. Только вот интересно, не запомнился ли ей какой-нибудь яркий случай из того периода или, может быть, даже лучше когда отец вышел из тюрьмы, в последние месяцы его жизни?
– Чарли? – кратко осведомился Курц, переадресовывая ей вопрос Литвака.
Чарли изображала глубокое раздумье, пока ее не осенило вдохновение.
– Ну, вот есть, например, история с дверями.
– С дверями? – переспросил Литвак. – С какими дверями?
– Расскажите нам, – предложил Курц.
Большим и указательным пальцами Чарли тихонько пощипывала переносицу, что должно было обозначать печаль и легкую мигрень. Много раз рассказывала она эту историю, но никогда еще рассказ се не был столь красочен.
– Мы считали, что он пробудет в тюрьме еще около месяца, он не звонил – как бы он мог звонить? В доме все было разворочено. Мы жили на вспомоществование. И вдруг он появляется. Похудевший, помолодевший. Стриженный. «Привет, Чэс, меня выпустили». Обнимает меня. Плачет. А мама сидит наверху и боится спуститься вниз. Он совершенно не изменился. Единственное – это двери. Он не мог открыть дверь, подходил к двери и замирал. Стоит по стойке «смирно», голову свесит и ждет, когда тюремщик подойдет и отомкнет замок.
– А тюремщик – это она, – тихо подал голос сидевший рядышком Литвак. – Его родная дочь. Вот это да!
– В первый раз я сама не поверила. Не поверила собственным глазам. Кричу: «Да открой же ты эту проклятую дверь!», а у него руки не слушаются!
Литвак строчил как одержимый, но Курц бы настроен менее восторженно. Он опять погрузился в бумаги, и лицо его выражало серьезные сомнения.
Чарли не выдержала. Резко повернувшись на стуле, она обратилась к Иосифу, в словах ее была скрытая мольба о пощаде, просьба отпустить ее, снять с крючка.
– Ну, как допрос, все в порядке?
– По-моему, допрос очень успешный, – ответил он.
– Успешнее даже, чем представление «Святой Иоанны»?
– Твои реплики гораздо остроумнее, чем текст Шоу, Чарли, милая.
«Это не похвала, он всего лишь утешает меня», – невесело подумала она. Но почему он с ней так суров? Так резок? Так сдержан, с тех пор как привез ее сюда.
Южноафриканская Роза внесла поднос с сандвичами. За ней шла Рахиль с печеньем и сладким кофе в термосе.
– Здесь что, никогда не спят? – жалобно протянула Чарли, принимаясь за еду. Но никто ее вопроса не расслышал. Вернее, так как все его, конечно, слышали, он просто остался без ответа.
Безобидная игра в вопросы-ответы кончилась. Перед рассветом, когда голова у Чарли была совершенно ясной, а возмущение достигло предела, наступил важный момент: тлеющий огонь ее политических убеждений, которые, по словам Курца, они так уважали, предстояло раздуть в пламя – яркое и открытое. В умелых руках Курца все обрело свою хронологию, причины, следствия. Люди, оказавшие на вас первоначальное влияние, – попрошу перечислить. Время, место, имя. Назовите нам, пожалуйста, пять ваших основополагающих принципов, десять первых встреч с активистами-неформалами. Но Чарли была уже не в том состоянии, чтобы спокойно рассказывать и перечислять. Сонное оцепенение прошло, в душе зашевелились беспокойство и протест, о чем говорили и суховатая решительность ее тона, и быстрые подозрительные взгляды, которые она то и дело бросала на них. Они ей надоели. Надоело чувствовать себя завербованной. Служа верой и правдой этому союзу, основанному на силе оружия, надоело ходить из комнаты в комнату с завязанными глазами и не понимать, что делают с твоими руками ловкие руки и что шепчут тебе в ухо хитрые голоса. Жертва готовилась к бою.
– Чарли, дорогая, все эти строгости для протокола, – уверял ее Курц. – Когда все будет зафиксировано, мы, так и быть, разрешим вам опустить кое над чем завесу молчания.
Но пока что он настоял на утомительной процедуре перечисления тьмы-тьмущей всевозможного народа, каких-то сидячих и лежачих забастовок, маршей протеста и революционных субботних манифестаций, причем всякий раз он просил ее рассказать и о том, что ее побудило участвовать в той или иной акции.
– Ради бога, не пытайтесь вы оценивать нас! – наконец не выдержала она. – Поступки наши нелогичны, мы необученны и неорганизованны.
– Кто это «мы», милочка?
– И никакие мы не милочки!Просто люди. Взрослые люди, ясно? И хватит надо мной издеваться!
– Чарли, ну разве мы издеваемся? О чем вы говорите!
– К чертям собачьим!
Ох, как же она ненавидела себя в подобном состоянии! Ненавидела свою грубость – грубость от безысходности. Словно бьешься в запертую дверь, бессмысленно барабанишь слабыми девчоночьими кулачками, оголтело выкрикивая срывающимся голосом рискованные слова. И в то же время ей нравилась свежесть красок, которыми такая ярость вдруг зажигала мир, чувство раскованности, осколки стекла вокруг.
– Зачем отвергающим вера?– воскликнула она, вспомнив хлесткий и до смерти надоевший афоризм Ала. – Вам не приходило в голову, что отвергать – это уже само по себе акт веры? Наша борьба, Марти, борьба совсем особая и единственно справедливая. Не сила против силы, не война Запада против Востока. Голодные ополчились против всяческих свиней. Рабы против угнетателей. Вы считаете себя свободными, так? Это лишь потому, что в цепях не вы, а другие! Вы жрете, а рядом голодают! Вы мчитесь во весь опор, а кто-то должен стоять по стойке «смирно»! Все это надо поломать!
Когда-то она верила в это, верила истово. Может быть, и сейчас еще верит. Раз уверовав, ясно различала перед собою цель. Она стучалась в чужие двери со своей проповедью и замечала, когда ее охватывало вдохновение, как с лиц спадает маска враждебности. Искренняя вера толкала ее на борьбу – за право людей на инакомыслие, за то, чтобы помочь друг другу выбраться из трясины буржуазности, освободиться от капиталистического и расового гнета, за естественное и вольное содружество и братство людей.
– Видите ли, Марти, разница между вашим и моим поколением в том, что нам почему-то не безразлично, на кого или на что тратить жизнь! Нам почему-то вовсе не улыбается перспектива отдавать жизнь ради транснациональной корпорации, которая расположена в Лихтенштейне, а филиалы – на Антильских островах! – Все это она заимствовала у Ала. Она даже сопроводила фразу, совсем как он, характерным звуком, выражающим сарказм и отчасти напоминающим отрыжку. – Мы не считаем разумным, когда люди, которых мы в жизни не видели и не слышали, которых никак не уполномочивали действовать от нашего имени, занимаются тем, что ведут мир к гибели. Нам не нравятся, как это ни странно, диктатуры -все равно одиночек ли это или группы лиц, учреждения иди даже страны, – и мы не в восторге от гонки вооружений, опасности химической войны и тому подобных составных частей смертоносной игры. Мы против того, чтобы Израильское государство было ударным батальоном империалистической Америки, и не согласны раз и навсегда объявить арабов либо паршивыми дикарями, либо развратными нефтяными магнатами. Мы отвергаем все это. Предпочитаем отринуть некоторые догмы, некоторые предрассудки и установления. Отринуть что-то – это уже позиция, уже факт позитивный. Отсутствие предрассудков – разве это не позитивно, а?
– Каким же образом, по-вашему, они ведут мир к гибели, Чарли? – спросил Кури. и Литвак аккуратно записал вопрос.
– Травят землю. Жгут. Засоряют мир всякой чушью – колониализмом, целенаправленным рассчитанным совращением рабочих и... («Что там следующее? Без паники. сейчас вспомню текст», – промелькнуло в голове.) ...и незачем выспрашивать у меня имена, адреса и кто были пять моих духовных вождей, как вы это делали, да, Марти? Вожди мои здесь, – она стукнула себя в грудь, – и нечего ухмыляться, если я не в состоянии цитировав вам на память Че Гевару всю эту ночь, пропади она пропадом, достаточно поинтересоваться, хочу ли я, чтобы мир выжил. а мои дети...








