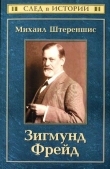Текст книги "Отель «Нью-Гэмпшир»"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Не смотри на меня так, – сказал мне Фрэнк. – Грустец все еще в лаборатории. Он еще не закончен.
И мы все пошли наверх, чтобы посмотреть, что случилось с Айовой Бобом.
Он «видел» Грустеца, сказал он. Тренер Боб уловил запах старого пса во сне, и когда он проснулся, ему показалось, что Грустец стоит на старом восточном ковре, своем любимом, в комнате Боба.
– Но он смотрел на меня с такой угрозой, – сказал старый Боб. – Он смотрел так, как будто хотел напасть на меня!
Я снова уставился на Фрэнка, но тот пожал плечами. Отец закатил глаза.
– У тебя просто был ночной кошмар, – сказал он своему старому отцу.
– Грустец стоял в этой комнате! – сказал тренер Боб. – Но он выглядел совсем не как Грустец. Он выглядел так, словно хотел убить меня.
– Ну, ну, – сказала мать.
И отец взмахом руки велел нам уйти из комнаты. Я слышал, как он начал говорить с Айовой Бобом таким же тоном, каким он говорил с Лилли или Эггом или с любым из нас, когда мы были младше, и я понял, что отец часто разговаривает так с Бобом, как будто считает его ребенком.
– Это все этот старый ковер, – прошептала мать нам, ребятам, – на нем собралось столько собачьей шерсти, что дедушка во сне все еще чувствует его запах.
У Лилли был испуганный вид, но она часто выглядит испуганной. Эгг принялся бродить вокруг с таким видом, как будто спал на ходу.
– Грустец ведь умер, правда? – спросил Эгг.
– Да, да, – сказала Фрэнни.
– Что? – переспросил Эгг так громко, что Лилли подскочила.
– Ладно, Фрэнк, – прошептал я, когда мы с ним были на лестнице. – В какую позу ты поставил Грустеца?
– В «атакующую», – сказал Фрэнк, и я вздрогнул.
Я подумал, что старый пес, возмущенный, что его поставили в эту ужасную позу, вернулся в отель «Нью-Гэмпшир» привидением. Он пошел к Айове Бобу, потому что у того был его ковер.
– Давайте положим старый ковер Грустеца в комнату Фрэнка, – предложил я за завтраком.
– Мне не нужен этот старый ковер, – возмутился Фрэнк.
– Мне нужен этот старый ковер, – сказал тренер Боб. – Он очень подходит для моих упражнений.
– Это из-за того сна, который ты видел прошлой ночью, – отважилась сказать Фрэнни.
– Это был не сон, Фрэнни, – мрачно сказал Боб. – Это был Грустец во плоти, – сказал старый тренер, и от слова «во плоти» Лилли вздрогнула так сильно, что со звоном уронила ложку с кашей.
– Что такое «во плоти»? – спросил Эгг.
– Слушай, Фрэнк, – сказал я ему в замерзшем Элиот-парке накануне Рождества. – Думаю, тебе лучше оставить Грустеца в лаборатории.
Фрэнк с негодованием ощерился и словно бы принял «атакующую» позу.
– Он полностью готов, – сказал Фрэнк, – и сегодня вечером будет уже дома.
– Сделай мне одолжение, только не надо подарочной упаковки, ладно? – попросил я.
– Подарочной упаковки? – сказал Фрэнк с не более чем легким налетом отвращения. – Ты что думаешь, я чокнутый?
Я ничего не ответил, и он сказал:
– Смотри, ты что, не понимаешь, что происходит? Я сделал такую отличную работу с Грустецом, что у деда появилось предчувствие, что Грустец вернется домой, – сказал Фрэнк.
Меня всегда поражало, как логично могла звучать в устах Фрэнка самая идиотская мысль.
Вот так мы подошли к ночи перед Рождеством. Как говорится, тихо было – ни одна тварь не копошилась. Разве что булькали одна-две кастрюли. Трещала непрерывная буря радиопомех у Макса Урика. Ронда Рей была в своей комнате. В номере «2В» жил турок, турецкий дипломат, навещавший своего сына в школе Дейри; это был единственный ученик, который не уехал домой (или к кому-то домой) на Рождество. Все подарки были тщательно спрятаны. В нашей семье была традиция прятать все подарки и выкладывать их под елку в рождественское утро.
Мы знали, что мать и отец спрятали все наши подарки в номере «ЗЕ», который они счастливо и часто посещали. Айова Боб спрятал свои подарки на четвертом этаже в одной из крошечных ванных комнат, которые теперь, после сомнительного диагноза возможной болезни Лилли, никто не называл «карликовыми». Фрэнни показала мне все подарки, которые она заготовила, в том числе продемонстрировала на себе сексуальное платье, купленное для матери. Это вынудило меня показать ей ночную рубашку, которую я купил для Ронды Рей, и Фрэнни пришлось продемонстрировать ее мне. Когда я увидел ее на ней, я понял, что должен был купить ее для Фрэнни. Она была белоснежно-белой, цвет, который еще не присутствовал в коллекции Ронды.
– Ты должен был купить ее для меня! – сказала Фрэнни. – Мне она нравится!
Но я никогда не мог вовремя уловить, что мне надо сделать для Фрэнни; как говорит Фрэнни: «Я всегда была на год впереди тебя, мальчик».
Лилли спрятала свои подарки в небольшой коробке, все ее подарки были маленькими. Эгг ни для кого не готовил подарков, он бесконечно обыскивал отель «Нью-Гэмпшир» в поисках подарков, которые приготовили для него другие. А Фрэнк запихал Грустеца в чулан тренера Боба.
– Зачем? – спрашивал и спрашивал я его позже.
– Ну, это же только на одну ночь, – оправдывался Фрэнк. – И я знал, что Фрэнни никогда туда не заглянет.
Накануне Рождества 1956 года все пошли спать довольно рано, и никто не спал – еще одна семейная традиция. Мы слышали, как в Элиот-парке под снегом нарастал лед. Временами Элиот-парк потрескивал, как только что опущенный в землю гроб, от смены температуры. Почему канун Рождества 1956 года казался немного похожим на Хэллоуин?
Даже поздно ночью лаяла собака, и хотя собака не могла быть Грустецом, все мы, кто не спал, подумали о сне Айовы Боба, или о его «предчувствии», как назвал это Фрэнк.
А потом было рождественское утро, ясное, ветреное и морозное, и я пробежал свои сорок или пятьдесят кругов по Элиот-парку. Голый, я больше не выглядел таким «пухлым», как в своем костюме для пробежек, о чем всегда говорила мне Ронда Рей. Часть бананов затвердела. И рождественское утро или не рождественское, но порядок есть порядок: я присоединился к тренеру Бобу, делавшему свои упражнения перед тем, как семья соберется за рождественским завтраком.
– Покачай пресс, пока я стою на мостике, – сказал мне Айова Боб.
– Хорошо, дедушка, – ответил я и начал делать то, что мне сказали.
Пятки к пяткам, мы покачали пресс на старом ковре Грустеца, голова к голове поотжимались. У нас была на двоих только одна большая штанга и пара гантелей; мы качали железо – это было для нас что-то вроде утренней молитвы.
– Твои плечи, грудь, шея уже вполне в форме, – сказал мне дед Боб, – но с руками надо еще поработать. И положи на грудь двадцатифунтовый блин, когда качаешь пресс, без отягощения проку уже мало. И сгибай колени.
– Угу, – сказал я, задыхаясь, как после Ронды Рей.
Боб взял большую штангу; выжал ее раз десять, потом надел еще несколько стандартных блинов – мне показалось, что на ней было фунтов сто шестьдесят или сто восемьдесят 1414
72, 5-81, 5 кг.
[Закрыть]. Когда блины соскользнули с одной стороны, я еле увернулся от них, затем фунтов пятьдесят или семьдесят пять соскользнуло с другой стороны, и старый Айова Боб воскликнул:
– Мать твою! Проклятая штука!
Блины раскатились по всей комнате. Отец был внизу.
– Господи Иисусе! Чокнутые тяжелоатлеты, – завопил он. – Неужели так трудно закрепить штангу.
Один из блинов стукнулся о дверь чулана – и дверь, конечно, открылась. Оттуда вывалились теннисная ракетка, сумка для белья, шланг от пылесоса и Грустец – в виде чучела.
Я попытался что-то сказать, хотя собака напугала меня не меньше, чем Айову Боба. Но я, по крайней мере, знал, что это такое. Это был Грустец в выбранной Фрэнком «атакующей» позе. Согласен, поза была очень убедительная, и черный Лабрадор получился лучше, чем я ожидал от Фрэнка. Грустец был привинчен к сосновой доске; говорил же тренер Боб: «Все в отеле „Нью-Гэмпшир“ привинчено; мы привинчены здесь на всю жизнь!» Злобный пес довольно грациозно выскользнул из дверей чулана, твердо приземлился на все четыре лапы и, казалось, был готов к прыжку. Его черный мех блестел, будто недавно смазанный маслом. Его желтые глаза поймали луч утреннего света, а другой луч сверкнул на его старых желтых зубах, которые Фрэнк при случае вычистил добела. Загривок у пса был вздыблен с такой силой, как я никогда не замечал у живого Грустеца, и что-то вроде сверкающей слюны, какой-то очень подходящий материал, казалось, придал яркость собачьим деснам. Его черный нос выглядел блестящим и здоровым, и я, кажется, почувствовал, как собачья вонь подступает к нам с Айовой Бобом. Но у Грустеца был слишком серьезный вид, чтобы портить воздух.
Грустец выглядел очень по-деловому, и прежде чем я перевел дыхание и объяснил дедушке, что это рождественский подарок для Фрэнни, что это всего лишь один из ужасных проектов, которыми занимается Фрэнк в биолаборатории, старый тренер швырнул штангой в бешеного зверя и развернул свое отлично тренированное тело в мою сторону (несомненно, для того, чтобы защитить меня; должно быть, именно это он и делал).
– Японский бог… – сказал Айова Боб странно слабым голосом.
Оскалившийся пес был спокоен; он застыл, готовый к убийству.
И Айова Боб, прошедший свой последний сезон, упал мертвым ко мне на руки.
– Господи Иисусе, вы что, нарочно бросаетесь там этими штуками? – кричал снизу нам отец. – Сделайте себе выходной, пожалуйста, а? Сегодня же Рождество! С Рождеством! С веселым Рождеством!
– С веселым Рождеством, черт подери! – крикнула снизу Фрэнни. И я услышал, как:
– С веселым Рождеством! – отозвались Эгг и Лилли и даже Фрэнк.
– С веселым Рождеством! – тихо сказала мать. И уж не Ронда ли Рей подхватила снизу этот клич? А Урики – они уже накрывали в отеле «Нью-Гэмпшир» рождественский завтрак? И я слышал что-то непроизносимое, вероятно, это был турок из номера «2В».
На руках, которые, как я понял, стали очень сильными, я держал бывшую звезду Большой Десятки – человека, который был так же тяжел и значим для меня, как медведь для нашей семьи. И я поразился тому, как близко подступил Грустец.
ГЛАВА 6. Отец получает весточку от Фрейда
Рождественский подарок для тренера Боба – увеличенная и вставленная в рамку фотография Младшего Джонса, забивающего единственный гол в игре против Эксетера, был отдан Фрэнни, которая унаследовала номер «3F», старую комнату Айовы Боба. Фрэнни не хотела иметь ничего общего с Фрэнковой версией Грустеца, которую Эгг утащил в свою комнату; он запихал чучело себе под кровать, где мать ее с визгом и обнаружила через несколько дней после Рождества. Я знал, что Фрэнк был бы не прочь снова заполучить Грустеца в свои руки – ему хотелось еще поработать над выражением морды и позой, но сейчас он не выходил из своей комнаты – так напугала его смерть деда.
На момент смерти Айове Бобу было шестьдесят восемь, но старый линейный игрок был в первоклассной форме; не испугайся он так Грустеца, мог бы прожить еще десяток лет. Наша семья постаралась сделать все, чтобы не возложить весь груз вины за этот несчастный случай на Фрэнка. «Для Фрэнка никакой груз не будет слишком тяжелым», – сказала Фрэнни, но даже она старалась его подбодрить.
– Сделать из Грустеца чучело – это была очень милая идея, Фрэнк, – говорила ему Фрэнни, – но ты должен был понимать, что не все разделяют твой вкус.
Что бы она могла ему сказать, так это то, что таксидермия, как и секс, – дело сугубо личное; и преподносить это другим следует по меньшей мере тактично.
Раскаянье Фрэнка, если то, что он чувствовал, можно назвать раскаяньем, выражалось в его усилившейся замкнутости; Фрэнк всегда был более замкнутым, чем кто-либо из нас, но сейчас он был угрюмее, чем всегда. И все равно – мы с Фрэнни чувствовали, что, не будь Фрэнк в таком мрачном расположении духа, он непременно попросил бы вернуть ему Грустеца.
Мать, несмотря на протесты Эгга, велела Максу избавиться от Грустеца, что тот и исполнил, попросту затолкав парализованную тварь в один из мусорных баков у черного хода. И вот в одно дождливое утро, стоя у окна комнаты Ронды Рей, я с изумлением увидел мокрые хвост и заднюю лапу, торчащие из мусорного бака; я отчетливо мог представить, как мусорщик, выйдя из своего грузовика, будет удивлен не меньше моего и, наверно, подумает про себя: «Господи, вот как они в отеле „Нью-Гэмпшир“ избавляются от домашних животных – просто выбрасывают их в мусорный бак!»
– Иди обратно в кровать, Джоник, – сказала Ронда.
Но я просто уставился – сквозь дождь, который превращался в снег, падая на ряд бачков, набитых рождественскими обертками, лентами и блестками, бутылками, коробками и банками из ресторана, яркими и тусклыми остатками пищи, интересующими белок и собак, – на мертвую собаку, не интересующую никого. Ну, почти никого. У Фрэнка разорвалось бы сердце, увидь он, какой унизительный конец постиг Грустеца. Я взглянул, как снег покрывает Элиот-парк, и увидел еще одного члена нашей семьи, которого тоже жгуче интересовал Грустец. Я увидел Эгга в его лыжной парке и лыжной шапке, который волочил санки к черному ходу. Он быстро продвигался по сверкающему снежному покрову, его санки скрипели по гравиевой дорожке, которую еще не засыпало снегом. Эгг знал, куда он идет; быстрый взгляд в сторону подвального окна – и он безопасно миновал бдительную миссис Урик; взгляд в сторону четвертого этажа – но Макс мусорные бачки не охранял. Окна комнат нашей семьи на черный ход не выходили, и Эгг знал, что одна лишь Ронда Рей могла бы его увидеть. Но она была в постели, а когда Эгг метнул взгляд на ее окна, я спрятался за портьеру.
– Если ты предпочитаешь побегать, Джоник, – вздохнула Ронда, – то беги.
А когда я снова выглянул в окно, Эгг уже исчез; Грустец исчез вместе с ним. Я чувствовал, что усилия по возвращению Грустеца из могилы еще не закончились, и я мог только догадываться, где этот зверь объявится снова.
Когда Фрэнни переехала в комнату Айовы Боба, мать переселила и всех нас. Она поселила меня вместе с Эггом туда, где прежде жили Лилли и Фрэнни, а Лилли она отдала мою комнату и примыкающую к ней комнату Эгга, как будто, явно вопреки логике, ее ненормально малый рост требовал не только уединения, но и большего пространства. Я попробовал жаловаться, но отец сказал, что я буду оказывать «взрослеющее» влияние на Эгга. Уединенные апартаменты Фрэнка не поменялись, а штанга и гантели так и остались в комнате Айовы Боба, что дало мне лишние причины навещать Фрэнни, которая любила смотреть, как я занимаюсь. Так что, когда я теперь занимался атлетикой, я думал не только о Фрэнни – моей единственной зрительнице! – но и, приложив толику усилий, мог воскресить образ Айовы Боба. Я качал железо для них обоих.
Думаю, что, спасая Грустеца от неизбежного путешествия на свалку, Эгг, должно быть, воскрешал Айову Боба единственным возможным для себя путем. Какое «взрослеющее» влияние я должен был оказывать на Эгга, оставалось для меня загадкой, хотя разделять с ним комнату было пыткой. Больше всего мне досаждала его одежда, и даже не сама одежда, а его манера обращаться с ней; Эгг не просто одевался, он наряжался. Он менял костюмы несколько раз в день, а сброшенные копились посреди комнаты до тех пор, пока мать не врывалась к нам и не спрашивала меня, не могу ли, мол, я заставить Эгга быть немного поаккуратней. Возможно, отец имел в виду «аккуратность», когда говорил про «взрослость».
Первую неделю моего совместного проживания в одной комнате с Эггом я не столько пенял ему на его неаккуратность, сколько пытался выяснить, куда он спрятал Грустеца. Я не хотел, чтобы этот призрак снова меня напугал; думаю, правда, что тени мертвых страшны для нас всегда – они по сути своей пугающие, и никакая предварительная подготовка не поможет. По крайней мере, это верно для Эгга и Грустеца.
В ночь накануне Нового года, неполную неделю спустя после смерти Айовы Боба и менее двух дней после того, как Грустец пропал из мусорного бачка, я шепотом обратился в темноте нашей комнаты к Эггу, который, я знал, еще не спит.
– Хорошо, Эгг, – прошептал я. – Где он?
Но говорить с Эггом шепотом всегда было ошибкой.
– Что? – спросил Эгг.
Мать и доктор Блейз утверждали, что слух у Эгга улучшается, хотя отец говорил о «глухоте» Эгга, а не о его «слухе», и пришел к заключению, что доктор Блейз, должно быть, сам оглох, раз говорит об «улучшении» состояния Эгга. Это сродни мнению доктора Блейза о карликовой болезни Лилли: та, мол, тоже пошла на поправку, потому что выросла (немного). Но все остальные выросли намного больше, и потому всем казалось, что Лилли, напротив, стала еще меньше.
– Эгг, – сказал я громче, – где Грустец?
– Грустец умер, – сказал Эгг.
– Я знаю, что он умер, черт подери, – ответил я, – но где он, Эгг? Где Грустец?
– Грустец с дедом Бобом, – сказал Эгг.
В этом отношении он был, конечно, прав, и я знал, что выудить у него местопребывание набитого ужаса мне не удастся.
– Завтра Новый год, – сказал я.
– Кто? – спросил Эгг.
– Новый год, – сказал я. – Будем праздновать.
– Где? – спросил он.
– Здесь, – сказал я, – в отеле «Нью-Гэмпшир».
– В какой комнате? – поинтересовался он.
– В главной, – сказал я. – В большой комнате. В ресторане, дурень.
– Мы не будем праздновать в нашей комнате, – заключил Эгг.
Трудно было бы найти место для празднования в этой комнате, где повсюду была разбросана одежда Эгга, но я не стал заострять внимания на этом наблюдении. Я уже почти уснул, когда Эгг снова спросил:
– А как сушат что-нибудь мокрое?
И я тут же про себя подумал о вероятном состоянии Грустеца, после того как он провел бог знает сколько часов в открытом мусорном бачке под дождем и снегом.
– А что тебе надо высушить, Эгг? – спросил я.
– Волосы, – сказал он. – Как сушат волосы?
– Твои, что ли, волосы, Эгг?
– Чьи-нибудь волосы, – ответил Эгг. – Много волос. Больше, чем у меня.
– Ну, полагаю, феном, – ответил я.
– Таким, как у Фрэнни? – спросил Эгг.
– У мамы тоже есть, – сказал я.
– Ага, – согласился он, – но у Фрэнни больше. Наверно, он и горячее тоже.
– Много волос надо высушить, а? – спросил я.
– Что? – спросил Эгг.
Но повторять вопрос было бессмысленно: глухота Эгга была в высшей степени избирательной.
Утром я наблюдал, как он стащил свою пижаму, под которой была его обычная одежда, – он так в ней и спал.
– Хорошо всегда быть готовым, да, Эгг? – спросил я.
– Готовым к чему? – спросил он. – Сегодня в школу не надо, еще каникулы.
– Тогда зачем тебе потребовалось спать одетым? – спросил я его, но он пропустил это мимо ушей, роясь в куче всевозможных одежд.
– Что ты ищешь? – спросил я.
Но как только Эгг замечал, что я говорю насмешливым тоном, он начинал меня игнорировать.
– Увидимся на праздновании, – сказал он. Эгг любил отель «Нью-Гэмпшир», любил, возможно, даже больше, чем отец, потому что отец любил в первую очередь саму идею; на самом деле отец, похоже, с каждым днем все больше и больше начинал сомневаться в успехе своего предприятия. Эгг любил все комнаты, лестницы и огромное незанятое пространство бывшей женской школы. Отец знал, что дом слишком часто пустует, но Эгга это вполне устраивало.
Время от времени постояльцы приносили к завтраку странные вещи, которые они находили у себя в номерах.
– Комната была очень чистой, – начинали обычно они, – но кто-то, должно быть, оставил эту… эту штуку.
Правая рука резинового ковбоя, сморщенная перепончатая лапа высушенной жабы. Игральная карта – валет бубен с пририсованной бородой, пятерка треф с размашисто накорябанным поперек словом «Фи». Маленький носок, а внутри – шесть стеклянных шариков. Сменный костюм (футбольная форма Эгга с пришпиленной полицейской эмблемой) висел в чулане номера «4G».
В новогодний день была оттепель, по Элиот-парку расплылся туман, вчерашний снег растаял, и открылся серый снег недельной давности.
– Где ты был сегодня утром, Джоник? – спросила меня Ронда, когда мы возились в ресторане с приготовлениями к празднику.
– Так ведь дождя не было, – заметил я.
Это была слабая отговорка, я это знал, и она это знала. Нельзя было сказать, что я ей изменял, изменять ей мне было просто не с кем, но я все время мечтал о ком-то воображаемом, примерно возраста Фрэнни, с кем бы я мог ей изменить. Я даже попросил Фрэнни устроить мне свидание с какой-нибудь из ее подруг, с кем-нибудь, кого бы она мне порекомендовала, хотя у Фрэнни вошло в привычку говорить, что ее подруги слишком стары для меня, намекая тем самым, что им уже шестнадцать.
– Никаких упражнений сегодня? – спросила меня Фрэнни. – Ты не боишься, что потеряешь форму?
– Я тренируюсь к празднику, – ответил я.
На празднование мы ожидали трех или четырех учащихся школы Дейри (тех, кто сократил свои рождественские каникулы), они должны были провести ночь в отеле, среди них были Младший Джонс, который встречался с Фрэнни, и сестра Младшего Джонса, которая не была ученицей школы Дейри. Младший брал ее с собой для меня, и я был в ужасе, ожидая, что сестра Младшего Джонса, должно быть, такая же огромная, как и он, и мне не терпелось узнать, та ли это сестра, которую изнасиловали, как рассказывал Гарольд Своллоу; сам не понимаю, почему мне так важно было это знать. Будет ли это большая изнасилованная девушка, с которой меня собираются познакомить, или большая не изнасилованная девушка – в любом случае я был уверен, что она очень большая.
– Не нервничай, – сказала мне Фрэнни.
Мы разобрали рождественскую елку, и у отца при этом навернулись на глаза слезы, потому что это была елка Айовы Боба; мать вышла из комнаты. Похороны для нас, детей, оказались очень внезапными; это были первые похороны, которые мы когда-либо видели, потому что были слишком маленькими, чтобы помнить о Латине Эмеритусе и о матери моей матери; медведю по имени Штат Мэн похорон не устраивали. Я думал, что, учитывая, каким грохотом сопровождалась его смерть, похороны Айовы Боба будут громче, «по крайней мере, звука падающих блинов» – как я сказал Фрэнни.
– Будь посерьезней, – ответила она. Похоже, она считала себя намного старше меня, и боюсь, она была права.
– Это та самая сестра, которую изнасиловали? – внезапно спросил я Фрэнни. – Я имею в виду ту, что придет с Младшим Джонсом.
По тому, как Фрэнни на меня посмотрела, я понял, что этот вопрос тоже проложил между нами годы.
– У него только одна сестра, – ответила Фрэнни, глядя прямо на меня. – Тебе важно, насиловали ее или нет?
Конечно, я не знал, как ответить; а следовало сказать: «Да, важно». Я не знал, следует или не следует обсуждать изнасилование с кем-то, кто был изнасилован, равно как и без повода поднимать этот вопрос с кем-нибудь, кто изнасилован не был. Стоит ли разглядывать шрамы, оставленные на душе, или же не стоит? Может быть, следует предполагать, что шрамы остались, и разговаривать с этим человеком как с инвалидом? (А как разговаривают с инвалидом?) Или притвориться, что это не имеет значения? Но – имеет. Я тоже знаю почему. Мне было четырнадцать. В мои неопытные годы (а я всегда останусь неопытным в вопросе изнасилования) я воображал, что притрагиваться к человеку, который был изнасилован, нужно несколько по-иному, или несколько меньше, или к нему вообще не стоит притрагиваться. Все это, в конце концов, я сказал Фрэнни, и она уставилась на меня.
– Ты не прав, – сказала она мне, но это было сказано так, как она обычно говорит Фрэнку: «Жопа ты».
В этот момент я почувствовал, что мне, возможно, всю жизнь будет четырнадцать.
– Где Эгг? – взревел отец. – Эгг!
– Эгг вечно отлынивает, – пожаловался Фрэнк, беспомощно разметая елочные иголки по всему ресторану.
– Эгг еще совсем маленький, Фрэнк, – сказала Фрэнни.
– Эггу пора уже немножко повзрослеть, – возразил отец.
А я (который призван был оказать на него положительное влияние)… я очень хорошо знал, почему Эгг находится вне пределов звуковой досягаемости. Он сидел в одном из пустых номеров отеля «Нью-Гэмпшир» и рассматривал необъятную черную массу мокрого лабрадорьего меха – бывшего Грустеца.
Когда остатки Рождества были выметены и выволочены из отеля «Нью-Гэмпшир», мы стали раздумывать, как поинтересней украсить зал для встречи Нового года.
– У всех у нас не слишком подходящее настроение для Нового года, – сказала Фрэнни, – давайте вообще не будем украшать зал.
– Праздник есть праздник, – игриво сказал отец, хотя мы подозревали, что ему-то меньше всех нас хотелось устраивать торжество. Все знали, чья идея была устроить встречу Нового года: Айовы Боба.
– Во всяком случае, не надо никого приглашать, – сказал Фрэнк.
– Говори за себя, Фрэнк, – возразила Фрэнни. – Ко мне придут друзья.
– Здесь может собраться сотня людей, а ты, Фрэнк, так и будешь торчать в своей комнате, – заметил я.
– Иди съешь еще один банан, – сказал он. – Иди пробегись, до Луны.
– А мне нравится, когда гости, – сказала Лилли, и все посмотрели на нее, потому что, пока она не заговорит, ее, конечно, никто не замечал, такой маленькой она стала.
Лилли было почти одиннадцать, но теперь она выглядела значительно меньше Эгга; она едва доходила мне до пояса и весила меньше сорока фунтов.
Так что мы быстро ухватились за эту возможность: раз Лилли хочет праздника, мы постараемся поддержать настроение.
– Так как же нам украсить ресторан, Лилли? – спросил ее Фрэнк; говоря с Лилли, он складывался пополам, как будто обращался к ребенку в коляске, и то, что он говорил, было полной белибердой.
– Давайте не будем вообще ничего украшать, – предложила Лилли. – Давайте просто хорошо проведем время.
Мы все застыли на месте, обдумывая этот проект, как обдумывают смертельный приговор, но мать сказала:
– Великолепная идея! Я собираюсь позвать Метсонов!
– Метсонов? – переспросил отец.
– И Фоксов, и, может быть, Гальдеров, – сказала мать.
– Только не Метсонов! – сказал отец. – А Гальдеры уже приглашали нас к себе. Они сами каждый Новый год зовут гостей.
– Ну хорошо, – сказала мать, – мы просто пригласим нескольких друзей.
– Хорошо, но будут и постоянные посетители, – заметил отец, но, судя по его виду, он в этом был не очень уверен, и мы отвели глаза в сторону.
«Постоянные» посетители – это была небольшая компания забулдыг, в большинстве своем – собутыльники тренера Боба. Мы гадали, появятся ли они теперь вообще, а уж тем более – встречать Новый год.
Миссис Урик не знала, сколько готовить еды; Макс раздумывал, очищать ли ему от снега всю автомобильную стоянку или, как обычно, только несколько мест. Ронда Рей, похоже, была настроена встретить Новый год по-своему; у нее было платье, которое ей хотелось надеть, она мне об этом рассказала. Я уже знал это платье: это было то сексуальное платье, которое Фрэнни подарила матери на Рождество; мать отдала его Ронде. Помня, как его демонстрировала Фрэнни, я беспокоился о том, сможет ли Ронда вообще в него влезть.
А для музыкального сопровождения мама пригласила настоящую группу, играть «живьем».
– Почти живьем, – сказала Фрэнни, которая слышала их раньше.
Летом они выступали в Хэмптон-бич, но в течение года большинство из них еще учились. На электрогитаре играл Слизи Уэльс, гопник с набриолиненным чубом; его мать пела и подыгрывала на акустической гитаре – крепкая громогласная женщина по имени Дорис, которую Ронда Рей ревниво обозвала сукой. Группа звалась то ли в честь самой Дорис, то ли в честь средней силы одноименного урагана, пронесшегося несколько лет назад. Называлась группа, естественно, «Ураган Дорис» и состояла из Слизи Уэльса, его матери и двух его школьных приятелей – на контрабасе и барабанах. Думаю, что ребята после школы работали в одном и том же гараже, поскольку на сцене одевались в комбинезоны гаражных механиков: у каждого на груди была табличка с именем – соответственно «Денни», «Джейк» и «Слизи» – и огромная эмблема «GULF». Дорис надевала, что ей вздумается – платья, которые даже Ронда Рей считала нескромными. Фрэнк, конечно, назвал «Ураган Дорис» «омерзительным».
Группа играла в основном вещи из репертуара Элвиса Пресли – «с кучей медляков, если народ собрался взрослый, – как сказала Дорис по телефону моей матери, – и быструю фигню, если больше молодежи».
– Ну-ну, – сказала Фрэнни. – Мне просто не терпится услышать, что скажет Младший об «Урагане Дорис».
А я уронил несколько стеклянных пепельниц, которые должен был расставить по столам; мне не терпелось услышать, что скажет сестра Младшего Джонса обо мне.
– Сколько ей лет? – спросил я Фрэнни.
– Если тебе повезет, мальчик, – дразнила меня Фрэнни, – то ей будет около двенадцати.
Фрэнк пошел ставить швабру и щетку в хозяйственный чулан на первом этаже и там обнаружил следы присутствия Грустеца. Это была деревянная доска, на которой прежде стоял Грустец в своей «атакующей» позе. В доске были четыре ряда аккуратных дырочек и вдавленные контуры собачьих лап; за лапы чучело и привинчивалось к доске.
– Эгг! – закричал Фрэнк. – Ах ты, маленький воришка! Эгг!
Эгг, выходит, снял Грустеца с его подставки и, может быть, как раз сейчас пытался изменить ему позу на другую – более соответствующую его представлениям о нашем старом псе.
– Хорошо, что у Эгга не дошли руки до Штата Мэн, – сказала Лилли.
– Хорошо, что у Фрэнка не дошли руки до Штата Мэн, – поправила ее Фрэнни.
– Для танцев остается слишком мало места, – грустно сказала Ронда Рей. – Мы не можем сдвинуть к стенке стулья.
– А мы будем танцевать среди стульев! – оптимистично воскликнул отец.
– Привинчены на всю жизнь, – пробормотала Фрэнни.
Но отец ее услышал; он не был готов к тому, что ему ответят одной из фразочек Айовы Боба. Судя по его виду, его это очень задело, и он отвел глаза. Я помню встречу Нового 1956 года как время, когда все постоянно отводили глаза.
– Черт! – прошептала мне Фрэнни, и, судя по ее виду, ей было действительно стыдно.
Ронда Рей быстренько обняла Фрэнни.
– Тебе надо немного повзрослеть, милочка, – сказала она. – Ты должна понять, что у взрослых все проходит гораздо болезненней, чем у детей.
С лестницы доносились вопли Фрэнка: «Эгг! Эгг!» У Фрэнка тоже «все проходит» не так хорошо, подумал я. Но в каком-то смысле Фрэнк никогда и не был ребенком.
– Прекрати этот шум, – закричал Макс с четвертого этажа.
– Идите и помогите нам готовиться к встрече, оба! – крикнул им отец.
– Дети! – взвыл Макс.
– Что он знает о детях? – проворчала миссис Урик.
Из Детройта позвонил Гарольд Своллоу: он все-таки не вернется в Дейри пораньше и не приедет к нам на праздник. Он только что вспомнил, сказал он, что Новый год всегда приводит его в уныние и в итоге он весь вечер смотрит телевизор.
– Я вполне смогу сделать это и в Детройте, – сказал он. – Нет смысла лететь на самолете до Бостона, а потом ехать на машине вместе с Младшим Джонсом и остальной толпой в сумасшедший отель, чтобы всю новогоднюю ночь смотреть телевизор.