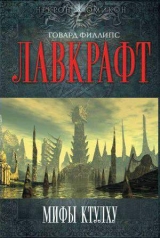
Текст книги "«Моя ладья»"
Автор книги: Джоанна Расс
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Джоанна Расс
«Моя ладья»[1]1
Рассказ впервые опубликован в журнале «Фэнтези и научная фантастика» («Fantasy and Science Fiction») в 1976 г.
[Закрыть]
Милти, а какой у меня для тебя сюжетец есть!
Нет-нет, ты садись. Угощайся: вот сливочный сыр, вот бублик. Я тебе ручаюсь: из этой истории первоклассный фильмец выйдет, я уж и за сценарий засел. Малозатратный, ролей – раз-два и обчелся; как раз то, что нужно! Смотри сюда: в общем, все начинается с полоумной девицы, лет семнадцати, типа, такая побродяжка, вся не от мира сего, сечешь? Типа, пережила какой-то страшный шок. Живет в обшарпанной меблирашке в трущобах, сама странноватая такая, вроде как в фэнтези, – длинные светлые волосы, и, например, босиком ходит, в крашенных вручную платьях из старых простыней, и вот один такой бухгалтер случайно столкнулся с ней в Центральном парке и втюрился по уши – она ему кажется не то дриадой, не то духом каким.
Ну ладно, ладно. Дешевка, согласен. За ланч я заплачу. Сделаем вид, что ты никакой не мой агент, о’кей? И не говори мне, что это уже пройденный этап, я знаю, что пройденный; дело в том, что…
Милти, мне позарез нужно выговориться. Да я и сам вижу, что идея неважнецкая, знаю, и вовсе я ни над каким сценарием не работаю, но что прикажете делать в выходные накануне Дня поминовения,[2]2
День поминовения погибших в войнах – официальный выходной день в США; отмечается в четвертый понедельник мая.
[Закрыть] ежели все тебя бросили и усвистели за город?
Мне позарез нужно выговориться.
Ладно, извини, больше не буду. Да не выделываюсь я! Черт, я ж не нарочно повторяюсь, просто я впадаю в такой тон, когда нервы ни к черту; сам знаешь, как оно бывает. Да ты и сам такой. Хочу вот рассказать тебе одну историю – и не для сценария. Это на самом деле случилось со мной в старших классах школы в 1952 году – и я непременно должен поделиться хоть с кем-нибудь. И плевать я хотел, если ни один телеканал отсюда и до Индонезии не сможет этот сюжет использовать; просто скажи мне, псих я или нет, – вот и все.
О’кей.
Значит, на дворе 1952 год стоял. Я как раз в старшем классе учился, в школе на Острове – школа была государственная, но вся из себя пижонская, развесистый театрально-постановочный проект, то-се. Расовая интеграция тогда только начиналась, ну знаешь, начало пятидесятых, сплошной либерализм, куда ни плюнь; все похлопывают друг друга по плечу, потому что в нашу школу пятерых чернокожих ребятишек приняли. Целых пятерых, прикинь, из восьмисот! И ждут, что Боженька того и гляди лично явится из Флэтбуша[3]3
Флэтбуш – община в составе Бруклина, одного из районов Нью-Йорка.
[Закрыть] и всем раздаст по здоровенному золотому нимбу.
Как бы то ни было, наш драмкружок интеграция тоже настигла – в лице маленькой пятнадцатилетней негритяночки именем Сисси Джексон, молодого дарования, типа. Из того первого дня весеннего семестра запомнилось мне только одно – я впервые в жизни увидел негритянку с прической «афро», только мы тогда не знали, что это вообще такое: смотрелось, надо сказать, чудно́, точно она только-только из больницы выписалась или вроде того.
К слову сказать, так оно и было. А ты знаешь, что Малькольм Икс[4]4
Малькольм Икс (1925–1965; настоящая фамилия – Литтл) – негритянский лидер, борец за права темнокожих; принял мусульманство, выступал за «черный сепаратизм».
[Закрыть] еще четырехлетним ребенком своими глазами видел, как белые убили его отца, – и это сделало из него борца не на жизнь, а на смерть? Так вот, отца Сисси застрелили на ее глазах, когда она была совсем маленькой – об этом мы позже узнали, – вот только борца из нее не получилось. Она лишь стала бояться всего на свете – замыкалась в себе и неделями ни с кем не разговаривала. Иногда настолько выпадала из действительности, что ее в психушку увозили; и, уж разумеется, не прошло и двух дней, как вся школа только об этом и судачила. Да по ней и так все было видно: в школьном театре – а, Милти, у средних школ на Острове деньги водились в большом количестве, тут уж ты мне поверь! – она все, бывало, норовила спрятаться на последнем ряду, ни дать ни взять испуганный крольчонок. Росту в ней было – четыре фута одиннадцать дюймов, а весу – от силы восемьдесят пять фунтов,[5]5
Примерно полтора метра и сорок килограммов. – Примеч. перев.
[Закрыть] и то если в воду обмакнуть. Может, поэтому борца из нее и не вышло. Черт, да не в росте дело! Она всех боялась до дрожи. И проблема черных и белых тут вообще ни при чем: я как-то раз приметил ее в уголке с одним из чернокожих учеников: весь из себя положительный такой мальчик, воспитанный, в костюмчике, в белой рубашке, при галстуке, с новехоньким портфелем, все как полагается, – и увещевал ее так, как будто речь шла о жизни и смерти. Да что там – умолял, даже плакал. А она только вжималась в угол, точно надеялась вообще исчезнуть, да головой мотала: нет, нет, нет! Говорила она не иначе как шепотом – кроме как на сцене, а иногда даже и там. В течение первой недели она четырежды забывала свои реплики – просто стояла на месте с остекленевшим взглядом, готовая провалиться сквозь землю, – а пару раз просто выходила из мизансцены, как будто пьеса уже закончилась, – прямо посреди репетиции.
И вот мы с Алом Копполино ничего лучше не придумали, как пойти к директору. Я всегда думал, что у Алана у самого не все дома, – не забывай, Милти, это 1952 год! – потому что он запоем читал всякую бредятину – «Культ Ктулху», «Зов Дагона», «Жуткое племя Ленга» – да-да, помню я эту киношку по Г. Ф. Лавкрафту, за которую ты слупил десять процентов и в Голливуде, и на телевидении, и за повторные показы, – но много ли мы тогда понимали? В те времена на вечеринках мы распалялись, всего-то-навсего потанцевав щека к щеке; девочки носили носочки и нижние юбочки, чтобы верхняя юбка пышнее лежала; а если ты приходил в школу в безрукавке, ну что ж, о’кей – в Центральной процветало свободомыслие, – но только, пожалуйста, чтобы гладкая, без рисунка. Однако ж я знал, что мозгов Алу не занимать, так что предоставил говорить ему, а сам только кивал при каждом удобном случае. В ту пору я был ноль без палочки.
– Сэр, мы с Джимом обеими руками за интеграцию, и мы оба считаем, либерализм – это просто здорово, но… хм… – начал было Ал.
Директор смерил нас этаким характерным взглядом. Ой-ёй…
– Но? – осведомился он холодным как лед голосом.
– Видите ли, сэр, – продолжал Ал, – мы насчет Сисси Джексон. Мы считаем, она… хм… больна. Ну, то есть не лучше ли будет, если… ну, то есть все говорят, что она только что из больницы, и нам всем это тяжело, а уж ей-то, надо думать, еще тяжелее приходится, и не рановато ли ей…
– Сэр, – промолвил я. – Копполино хочет сказать, мы ни разу не против интеграции белых и негров, но это – никакая не расовая интеграция, сэр, это интеграция в среду нормальных людей чокнутой психопатки. Ну, то есть…
– Джентльмены, возможно, вам небезынтересно будет узнать, что в IQ-тестах мисс Сесилия Джексон набрала больше баллов, нежели вы оба. А руководители театральной секции сообщают, что таланта в ней больше, чем в вас обоих, вместе взятых. А учитывая ваши оценки за осенний семестр, я ничуть не удивлен…
– Ага, конечно, – и в пятьдесят раз больше проблем, – сквозь зубы процедил Ал.
А директор между тем соловьем разливался: сказал нам, что мы должны немерено радоваться редкой возможности с нею работать, потому что она такая вся из себя умная, ну прям гений, и что чем скорее мы прекратим распространять идиотские слухи, тем больше шансов будет у мисс Джексон привыкнуть к Центральной, а если он только краем уха услышит, что мы опять ей докучаем или сплетничаем на ее счет, то нам придется ох несладко, чего доброго, вообще из школы вылетим.
А затем лед в его голосе растаял, и он рассказал нам, как какой-то белый коп пристрелил ее папу – просто так, без всякого повода, прямо на ее глазах, а ей тогда пять лет было, и умер ее папа на коленях у маленькой Сисси, истекая кровью в сточную канаву. И еще – какая бедная у нее мама, и еще разные ужасные вещи из ее биографии, и уж если этого недостаточно, чтобы свести беднягу с ума – «вызвать проблемы», как деликатно выразился директор… ну, словом, к тому времени, как он закончил, я чувствовал себя распоследним гадом, а Копполино вышел из кабинета директора, прижался лбом к плитке – у нас стены всегда облицовывались плиткой по всей площади досягаемости, чтобы проще было граффити смывать, хотя мы в те времена и слова-то «граффити» не знали, – и разревелся как младенец.
Так что мы организовали кампанию «Помоги Сесилии Джексон».
И господи, Милти, как эта девчонка играла! На нее никогда нельзя было положиться, вот в чем беда; на этой неделе она вся вкладывалась в работу, вкалывала не покладая рук – голосовые упражнения, гимнастика, фехтование, в кафетерии Станиславского читала, спектакли шли «на ура»; на следующей неделе – вообще ничего. Нет, на сцене она вполне себе присутствовала, всеми своими восьмьюдесятью пятью фунтами, но просто механически проговаривала роль, как если бы мысли ее были далеко: техника – безупречная, эмоции – на нуле. Позже я слыхал, что в такие периоды она отказывалась отвечать на вопросы на уроках истории или географии, просто тушевалась и молчала, как в рот воды набрала. Но стоило ей сосредоточиться – и она выходила на сцену и подчиняла ее себе как полновластная хозяйка. В жизни не видывал подобного таланта. В пятнадцать-то лет! И – малявка малявкой. Ну, то есть – голос оставляет желать (хотя, наверное, с возрастом эта проблема исчезла бы), фигура – честное слово, Милт, помнишь старую шутку У. К. Филдза[6]6
У. К. Филдз (настоящее имя – Уильям Клод Дьюкенфилд, 1880–1946) – американский комедийный актер и писатель.
[Закрыть] про две аспиринки на гладильной доске? И – мелкая совсем, ни кожи, ни рожи, как говорится, но, господи, кому и знать, как не тебе и мне, что это все неважно, если умеешь себя подать. А эта – умела. Однажды она сыграла царицу Савскую в одноактной постановке перед живой аудиторией – ну, перед родителями и другими детишками, понятное дело, а перед кем бы еще? – и великолепно сыграла! Потом я ее еще в шекспировских пьесах видел. А однажды – подумать только! – она изображала львицу на уроке пантомимы. У нее было все, что нужно. Подлинная, абсолютная, чистая погруженность. А в придачу – умница каких мало; к тому времени они с Алом задружились – не разлей вода. Я как-то раз слышал, она ему объясняла (дело было в зеленой комнате, днем после постановки про царицу Савскую – она как раз грим снимала кольдкремом), как просчитывала в характере персонажа каждую черточку. А потом протянула ко мне руку, вроде как прицелилась, точно из пулемета, и объявила:
– А для вас, позвольте заметить, мистер Джим, главное – это верить!
Вот ведь забавная штука, Милт: она все ближе и ближе сходилась с Алом, а когда они и мне позволяли упасть им на хвост, я чувствовал себя польщенным. Ал ссужал ей эти свои бредовые книженции, и я краем уха то и дело слышал всякое-разное о ее жизни. У девочки была мать, такая вся из себя строгая, чопорная да набожная, прямо воплощенная респектабельность, – поневоле удивишься, что Сисси дышать смела, не спросившись разрешения. Ее мать даже волосы ей распрямить не позволяла – причем, заметь, пока еще не из идеологических соображений, а – нет, ты оцени! – потому что Сисси еще слишком мала! Думаю, мамаша ее была на порядок безумнее дочки. Ну да, я был мальчонкой несмышленым (а кто не был?) и всерьез думал, что негры – все без исключения – беспутный народ, расхаживают повсюду, щелкая пальцами, да на люстрах качаются, ну, знаешь, такого рода чушь – поют да пляшут. Но вот вам, пожалуйста: девочка-вундеркинд из семьи самых строгих правил: по вечерам из дома – ни ногой, никаких вечеринок и танцулек; карты – под запретом, косметика – тоже; она даже украшений и то не носила. Честное слово, думается, если она и спятила, так только оттого, что ее слишком часто Библией по голове били. Сдается мне, ее воображение должно было рано или поздно отыскать выход. Мать, кстати, за волосы бы ее из Центральной выволокла, если бы прознала про драмкружок; мы все дали слово держать язык за зубами. Театр, сами понимаете, это ж гнездо греха и порока, куда там танцам!
Знаешь, наверное, меня это шокировало. До глубины души. Ал происходил из семьи вроде как католической, а я – из вроде как еврейской. Но второй такой мамаши я в жизни не встречал. Ну, то есть она бы отлупила Сисси так, что мало не покажется, приди та однажды домой с золоченой брошкой на этой своей вечной белой блузке – помнишь, такую все девчонки носили. И уж разумеется, для мисс Джексон – никаких нижних юбочек из конского волоса! Мисс Джексон носила плиссированные юбки, коротковатые даже для нее, и прямые юбки, полинялые и словно бы скомканные. Поначалу я вроде как думал про себя: короткие юбки – это так дерзко, ну, типа, сексапильно; ага, как же – они ей просто-напросто по наследству достались, от сильно младшей двоюродной сестренки.
Она просто-напросто не могла себе позволить покупать новую одежду. Наверное, это из-за мамаши и этой истории с Библией я наконец-то перестал видеть в Сисси Призовую Идиотку Интеграции, которую нужно обхаживать, потому что директор так велел, а также и испуганного крольчонка, при том что она до сих пор, к слову сказать, разговаривала не иначе как шепотом – везде, кроме как в драмкружке. Думается, я вдруг увидел Сесилию Джексон такой, какая она есть; длилось это лишь несколько минут, не более, но я понял: она – совсем особенная. Так что однажды, повстречав их с Алом в коридоре по пути с одного урока на другой, я возьми да и скажи:
– Сисси, в один прекрасный день твое имя по всей стране прогремит. Я так лучшей актрисы в жизни не встречал и хочу сказать тебе: быть с тобой знакомым – великая честь.
И отвесил ей старомодный поклон, в лучших традициях Эррола Флинна.[7]7
Эррол Флинн (1909–1959) – знаменитый голливудский актер, секс-символ первой половины XX века; прославился в амплуа отважных героев и благородных разбойников – в частности, блистал в роли Робин Гуда и капитана Блада.
[Закрыть]
Сисси и Ал переглянулись – этак заговорщицки. Она склонила голову над книгами и хихикнула. Такая была миниатюрная – поневоле задумаешься, как она только таскает весь день напролет все эти учебники, ведь прямо-таки сгибается под их тяжестью!
– Да ладно, давай ему скажем, – молвил Ал.
Тут-то они и поделились со мной своим Большим Секретом. У Сисси была кузина именем Глориэтта, и Сисси с Глориэттой на пару владели самым настоящим судном – оно стояло в эллинге на сильверхэмптонской пристани. Платили за эллинг пополам – тогда, Милт, это было что-то около двух баксов в месяц; не забывай, что в те времена пристанью называлась всего-то навсего длинная деревянная платформа, к которой можно шлюпку пришвартовать.
– Глориэтта в отъезде, – сообщила Сисси, как всегда, шепотом. – Отправилась тетушку навестить, в Каролину. А мама тоже к ним поедет – на следующей неделе, в воскресенье.
– Так что мы собираемся по морю поплавать, – докончил за нее Ал. – Хочешь с нами?
– В воскресенье, говорите?
– Ага, мама пойдет на автобус сразу после церкви, – объяснила Сисси. – То есть где-то в час дня. Тетя Эвелин приедет за мной приглядеть в девять. Так что в нашем распоряжении – восемь часов.
– Но туда два часа добираться, – подхватил Ал. – Сперва на метро, потом на автобусе…
– Разве что ты нас на машине подбросишь, Джим! – предположила Сисси. И расхохоталась так, что аж книги выронила.
– Ну, спасибочки! – фыркнул я.
Сисси подобрала книги и улыбнулась мне.
– Да нет, Джим, мы в любом случае будем тебе рады. Ал этого корабля вообще еще не видел. Мы с Глориэттой промеж себя называем его «Моя ладья».
Пятнадцать лет – и уже умела улыбаться так, что аж сердце в крендель закручивалось. А может, я просто подумал: ух ты, какой классный секрет! Небось страшный грех – для ее семейки-то!
– Да конечно я вас отвезу, без проблем, – заверил я. – А могу ли я полюбопытствовать, что это за судно, мисс Джексон?
– Не будь дураком, – дерзко оборвала она. – Меня зовут Сисси – либо Сесилия. Глупенький Джим. А что до «Моей ладьи», – добавила она, – это большая яхта. Громадная!
Я едва не рассмеялся – и тут понял, что она это всерьез. Или нет, просто дразнится? А она снова улыбнулась мне – этак лукаво. И сказала, пусть мы у автобусной остановки встретимся, рядом с ее домом, и пошла себе прочь по облицованному плиткой коридору бок о бок с тощим малышом Алом Копполино, в своей старой мешковатой зеленой юбке и вечной белой блузке. Красивые, длинные, этак небрежно подтянутые белые гольфы – это не для мисс Джексон; носила она кожаные, расползающиеся по швам туфли типа мокасин на босу ногу. Однако сегодня она словно преобразилась: голова гордо поднята, походка – пружинистая, и говорит в полный голос, не шепотом!
И тут мне вдруг пришло в голову: а ведь я впервые вижу, чтобы она улыбалась или смеялась – не на сцене. Кстати, вот плакала она по малейшему поводу – помню, однажды на уроке она вдруг поняла по какому-то косвенному замечанию учителя, что Антон Чехов – ну, знаешь, великий русский драматург – умер. Я своими ушами слышал, как она потом говорила Алану, дескать, она в это не верит. И таких мелких странностей за ней водилось видимо-невидимо.
Ну что ж, заехал я за ней в воскресенье на машине, древнее которой в целом мире бы не нашлось, даже тогда – и при этом ни разу не музейный экспонат, Милти; развалюха та еще – по правде говоря, и завелась-то она лишь по счастливой случайности. И вот, подкатываю к автобусной остановке у Сиссиного дома в Бруклине – там она и стоит в этой своей вылинявшей, поношенной гофрированной юбке и вечной блузке. Держу пари, каждую ночь из ниоткуда появлялись маленькие эльфы по имени Сесилия Джексон – и все это стирали-гладили. Забавно, как они с Алом оказались два сапога пара; сам Ал был этаким местным Вуди Алленом.[8]8
Вуди Аллен (настоящее имя – Аллен Стюарт Кёнигсберг, р. 1935 г.) – известный американский кинорежиссер и комический актер, создатель жанра «интеллектуальной комедии», а также автор многих рассказов и пьес.
[Закрыть] Думается, потому он и зачитывался своими бредовыми книжонками – да, Милт, в 1952-м они считались сущим бредом, а что еще прикажете делать сопляку итальяшке пяти футов трех дюймов ростом, и при этом такому умнице, что другие дети не понимали и половины из того, что он говорит? Сам не знаю, зачем я с ним дружил; наверное, мне просто приятно было почувствовать себя большим и сильным, ну знаешь, благородным героем – то же самое, что за Сисси заступаться. Они ждали на автобусной остановке – даже ростом вышли под стать друг другу, и, похоже, головы у них были тоже устроены одинаково. Сдается мне, Ал на пару десятков лет опередил свое время, равно как и его любимые книги. И может, если бы движение за гражданские права началось на пару лет раньше…
Как бы то ни было, поехали мы в Сильверхэмптон: отлично прокатились, по большей части по сельской местности, ровной, как стол, – в те времена на Острове еще были овощеводческие фермы, – и отыскали пристань. Ну, пристань – это громко сказано: здоровенный такой причал, старый, но еще вполне крепкий. Я припарковался, Ал забрал у Сисси хозяйственную сумку.
– Ланч, – пояснил он.
Там-то «Моя ладья» и стояла, ближе к середине причала. А я-то, грешным делом, и не верил, что она вообще существует. Старая, рассохшаяся деревянная гребная лодка с одним веслом, на дне – воды на три дюйма. На носу чья-то рука коряво вывела оранжевой краской: «Моя ладья». Суденышко было зачалено веревкой не крепче шнурка. И однако ж не создавалось впечатления, что лодка тут же и затонет; в конце концов, она там пробыла не один месяц, под дождем, а может, и снегом, и все еще держалась на плаву. Так что я шагнул через борт, уже жалея, что ботинки не догадался снять, и принялся вычерпывать воду жестянкой, которую загодя захватил из машины. Алан и Сисси, устроившись в середине лодки, разбирали сумку. Наверное, ланч накрывали. Ни Алан, ни Сисси отсутствия второго весла не заметили: было понятно, что «Моя ладья» от причала почитай и не отходила. Небось Сисси с Глориэттой просто перекусывали на борту да воображали себя пассажирками «Куин Мэри».[9]9
«Куин Мэри» («Queen Магу») – роскошный трансатлантический лайнер; был спущен со стапелей верфи Джона Брауна в 1934 году.
[Закрыть] День выдался славный, но ни туда ни сюда; ну знаешь, как оно бывает – то облачка набегут, то солнышко проглянет, но облака – мелкие, пушистые, дождя ничего не предвещало. Я вычерпал со дна грязную жижу, а потом перебрался на нос. Тут как раз солнце вышло – и я заметил, что насчет оранжевой краски ошибся. Краска была желтой.
Я пригляделся внимательнее: нет, это вообще не краска; это что-то вделано в борт «Моей ладьи», вроде как фамилии владельцев – в двери офисов. Наверное, в первый раз я просто не присмотрелся толком. Такая вся из себя изящная, цветистая надпись – очень профессионально сделано. Медная небось. И не табличка, Милт, нет, – как же такие штуки называются? Инкрустация? Инталия? Когда каждая буква выполняется по отдельности. Небось Алан постарался: у него к такого рода вещам настоящий талант был, он все, бывало, для своих бредовых книжек крышесносные иллюстрации рисовал. Я обернулся: Ал и Сисси достали из сумки здоровенный отрез марли и теперь драпировали ею высокие шесты, встроенные в борта лодки: что-то вроде тента сооружали.
– Хэй, ты небось эту тряпку из театральной мастерской позаимствовала? – спросил я.
Сисси улыбнулась – и промолчала.
– Слушай, Джим, ты водички не принесешь? – попросил Ал.
– Без проблем, – откликнулся я. – Это на пристань надо сходить?
– Нет, в ведре набери. Ведро – на корме. Сисси говорит, на нем написано.
О, конечно, подумал я, разумеется. Затерянные в Тихом океане, мы выставляем ведро и молимся о дожде. Ведро и впрямь обнаружилось там, где сказано; чья-то рука аккуратно вывела на нем по трафарету зеленой краской: «Пресная вода». Краска слегка расплылась, но этим ведром никто и никогда уже не воспользовался бы по назначению. Абсолютно пустое и сухое, оно настолько проржавело, что, если поднять его к свету, в нескольких местах дно просматривалось насквозь.
– Сисси, оно ж пустое, – крикнул я.
– Джим, посмотри еще раз, – велела она.
– Но, Сисси, послушай… – запротестовал было я и перевернул ведро.
Холодная вода окатила меня от колен до подошв ботинок.
– Видишь? – отозвалась Сисси. – Пустым оно никогда не бывает.
Черт, подумал я, я просто не посмотрел толком, вот и все. Может, вчера дождь прошел. Но ведь полное ведро воды – тяжесть немалая, а я его подцепил одним пальцем. Я поставил ведро – если в нем вода и оставалась, то теперь оно явно опустело, – и посмотрел снова.
Ведро было полным – полным до краев. Я погрузил в него руку, зачерпнул, отпил: холодная, кристально прозрачная родниковая вода, и пахла она – не знаю, как сказать, – прогретыми солнцем папоротниками, малиной, травой и полевыми цветами. Я подумал: бог ты мой, вот и я, похоже, рехнулся! Оборачиваюсь – а Сисси с Аланом заменили марлю на полосатый сине-белый навес, ну вроде как в фильмах про Клеопатру. Такая штуковина на царицыной ладье для защиты от солнца. А еще Сисси достала из хозяйственной сумки что-то эдакое с оранжево-зелено-синим узором и набросила поверх одежды. А еще на ней были золоченые сережки – здоровенные такие обручи, – и еще черный тюрбан поверх экзотической прически. А еще она, верно, туфли где-то сбросила – стояла она босой. А еще я заметил, что одно плечо у нее обнажено; и я присел на мраморную скамью под навесом, потому что у меня, наверное, галлюцинации начались. Ну, то есть времени-то у нее на все это не было – и где, спрашивается, ее прежняя одежда? Похоже, они целый мешок реквизита из мастерской уволокли: вот взять хоть здоровенный и древний, зловещего вида кинжал, торчащий из-за кожаного, инкрустированного янтарем пояса: рукоять его была вся отделана золотом и самоцветами – алыми, зелеными и синими, в которых мерцали перекрещенные лучи света, неуловимые для взгляда. В ту пору я понятия не имел, что это за синие камни, но теперь – знаю. Звездчатых сапфиров в театральной мастерской не делают. Равно как и десятидюймовых серповидных клинков – таких острых, что солнечные лучи, соскальзывая с лезвия, слепят глаза.
– Сисси, да ты – вылитая царица Савская! – охнул я.
Она заулыбалась.
– Джим, она не Саффская, как написано во Библии, она – Саба. Са-ба. И не вздумай позабыть о том, когда мы с нею повстречаемся.
Ага, вот, значит, где эта наша малютка-вундеркинд Сисси Джексон дурью мается каждое воскресенье. Выходные – коту под хвост. Я прикинул, что сейчас – самое время слинять, ну, типа, отговорку какую-нибудь придумать и позвонить ее мамаше, или тетке, или, может, просто в ближайший госпиталь. Ну, то есть ради ее же блага, сама-то Сисси и мухи не обидела бы – подлости в ней не было ни на йоту. И в любом случае, ну кому способна причинить вред такая малявка? Я поднялся на ноги.
Ее глаза были вровень с моими. А стояла она – ниже.
– Джим, будь внимателен. Посмотри еще раз. Всегда знай: нужно посмотреть еще раз, – напомнил Ал.
Я вернулся на корму – туда, где стояло ведро с надписью «Пресная вода». А пока я смотрел, вышло солнце – и я увидел, что ошибался: никакое это не старое, проржавевшее, оцинкованное железо с намалеванными на нем зелеными буквами.
Не железо, а – серебро, чистое серебро. Ведерко стояло в мраморном бассейне, как бы встроенном в корму; по нему вилась надпись – жадеитовая инкрустация. Оно было по-прежнему полно. Оно всегда пребудет полным. Я оглянулся на Сисси под сине-белым полосатым пологом: рукоять кинжала искрилась звездчатыми сапфирами, изумрудами и рубинами, и этот ее нездешний акцент… теперь я его знаю, Мильт, это вест-индский выговор, но тогда я не знал. И я ни минуты не сомневался – как если бы своими глазами видел: если я посмотрю на надпись «Моя ладья» в солнечном свете, медь окажется чистым золотом. А обшивка – черным деревом. Я даже и не удивлялся ничему. Понимаешь, хотя все изменилось, я не видел, как оно менялось: не то я в первый раз посмотрел невнимательно, не то ошибся, не то чего-то не заметил, не то просто забыл. Так, старый деревянный ящик посередине «Моей ладьи» на самом деле оказался крышей каюты с маленькими иллюминаторами; заглянув внутрь, я обнаружил внизу три койки, стенной шкаф и симпатичный маленький камбуз с холодильником и плитой, а сбоку от раковины, где ее и разглядеть не удавалось толком, из ведерка с дробленым льдом торчала бутылка с салфеткой вокруг горлышка – точь-в-точь как в добром старом фильме с Фредом Астером и Джинджер Роджерс.[10]10
Фред Астер (1899–1987) – американский актер театра и кино, звезда Голливуда; вместе с американской актрисой и танцовщицей Джинджер Роджерс (1911–1995) снялся в десяти блистательных музыкальных комедиях.
[Закрыть] Изнутри каюта вся была обшита тиковым деревом.
– Нет, Джим, то не тик, – объяснила Сисси. – То ливанский кедр. Понимаешь теперь, почему я не могу воспринимать всерьез всю эту школьную чушь насчет разных мест, и где они находятся, и что в них происходит. Сырая нефть в Ливане, скажут тоже! Кедром, вот чем Ливан богат. И слоновой костью. Я там много, много раз бывала. С мудрым Соломоном беседовала. Меня принимали при дворе царицы Сабы, я заключила нерушимый договор с кносскими женщинами, народом двулезвийного топора, в коем воплощена луна убывающая и луна растущая. Я навещала Эхнатона и Нофретари, лицезрела великих королей Бенина[11]11
Бенин – государство в Западной Африке; до 1975 г. Бенин был известен как Дагомея.
[Закрыть] и Дара. Я даже в Атлантиде бываю, где Венценосная Чета наставляет меня тому и этому. Жрец и жрица, они учат меня, как заставить «Мою ладью» плыть, куда мне угодно, даже под водой. О, сколько поучительных бесед мы вели под сводом Пахласса в сумерках!
Это все происходило на самом деле. На самом деле, говорю! А ведь ей, Милт, еще пятнадцати не было! Она сидела на носу «Моей ладьи» перед пультом управления, на котором шкал, переключателей, кнопок, стрелок и датчиков было не меньше, чем на бомбардировщике В-57. И выглядела по меньшей мере на десять лет старше. Да и Ал Копполино тоже преобразился: теперь он смахивал на портрет Фрэнсиса Дрейка (я такой в книжке по истории видел) – с длинными локонами и остренькой бородкой. И одет он был под стать Дрейку, вот разве что без брыжей, в ушах – рубины, пальцы унизаны кольцами; и ему тоже было уже не семнадцать. Тонкий шрам пролегал от левого виска вниз мимо глаза и до скулы. А еще я видел, что под тюрбаном волосы Сисси были заплетены в сложную, прихотливую прическу. С тех пор я ее не раз видел. О, задолго до того, как в моду вошли «французские косички». Я ее видел в музее «Метрополитен», на серебряных скульптурных масках из африканского города Бенин. Они ужас до чего древние, Милт, им много веков.
– Я знаю немало других мест, принцесса, – молвил Ал. – Я покажу их вам. О, поедем в Ут-Наргай, и в дивный Селефаис, и в Кадат в Холодной пустыне – это страшное место, Джим, но уж нам-то бояться нечего; а потом мы отправимся в город Ултар, где принят благой и прекрасный закон: ни мужчине, ни женщине не дозволено ни убивать, ни обижать кошек.
– Атланты, они обещали в следующий раз научить меня не только под водой путешествовать, – произнесла Сисси глубоким, нежным голосом. – Они говорят, усилием мысли, и воли, и веры можно заставить «Мою ладью» вознестись ввысь, в небеса. К звездам, Джим!
Ал Копполино нараспев повторял названия: Катурия, Сонна-Нил, Таларион, Зар, Бахарна, Нир, Ориаб. Все до одного – со страниц его обожаемых книг.
– Но прежде чем ты отправишься с нами, ты должен выполнить одно последнее условие, Джим, – промолвила Сисси. – Отвяжи веревку.
Так что я сошел с трапа «Моей ладьи» на причал и отвязал витое золотое вервие. В нем переплелись воедино золотые и серебряные нити, Милт; оно струилась сквозь пальцы, как живое; знаю я, каков шелк на ощупь – крепкий и скользкий. Я думал об Атлантиде и Селефаисе и о путешествии к звездам, и все это смешалось в моей голове с выпускным вечером и с колледжем, потому что мне повезло поступить в Колледж Своей Мечты – и о, что за будущее меня ждало как юриста – корпоративного юриста! – после того, разумеется, как я прославлюсь на футбольном поле. Вот какие планы строил я в те стародавние времена. И в каждом из них был стопроцентно уверен, так? В противовес тридцатипятифутовой яхте, при одном только виде которой Джон Д. Рокфеллер позеленел бы от зависти, и сторонам света, где никто никогда не бывал – и никогда уже не будет. Сисси и Ал стояли на палубе надо мною, оба как будто вышли из фильма – прекрасные, грозные, чуждые, – и внезапно я понял: я с ними не хочу. Отчасти из-за несокрушимой уверенности: если я когда-либо хоть чем-то обидел Сисси – и я имею в виду не пустячную ссору или разногласие, из-за которых люди друг на друга дуются, но настоящую, кровную обиду, – то я, чего доброго, окажусь в протекающей лодке с одним веслом посреди Тихого океана. Либо просто-напросто застряну на пристани в Сильверхэмптоне. Подлости в Сисси не было ни на йоту; по крайней мере, я на это надеялся. Я… Наверное, я не считал себя достойным поехать с ними. А еще – было что-то в их чертах, и у того и у другого, но особенно у Сисси, – словно облака, словно туманы, из ниоткуда наплывали другие лица, другая мимика, другие души, другое прошлое и будущее, другие виды знания, и все они подрагивали, изменялись, точно текучий мираж над асфальтом в жаркий день.
Милт, я не хотел этого знания. Не хотел заходить так далеко. Такие вещи семнадцатилетки постигают не раньше, чем через много лет. Красота. Отчаяние. Смертность. Сострадание. Боль.
Так я стоял и смотрел на них снизу вверх, наблюдая, как морской бриз раздувает темно-фиолетовый бархатный плащ Ала Копполино и мерцает на серебряно-черном камзоле. И тут на плечо мне с размаху опустилась здоровенная, тяжелая, крепкая и жирная рука, и громкий, густой, пренеприятный голос с тягучим южным акцентом рявкнул:




