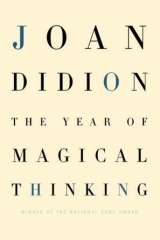
Текст книги "Год магического мышления"
Автор книги: Джоан Дидион
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Джоан Дидион
Год магического мышления
(сценический монолог) перевод Василия Арканова
I
Это случилось 30 декабря 2003 года. Вам, наверное, кажется, что давно. Но если бы это с вами случилось, вам бы так не казалось.
А с вами это случится. Может, как-то иначе – но случится. Я вам это предсказываю.
Мы пришли домой. «Домой» – значит в нашу квартиру в Верхнем Истсайде на Манхэттене.
Было еще не поздно, часов около восьми. Встал вопрос, ужинать дома или в ресторане. Я предложила дома, сказала, что затоплю камин. Это решило дело.
В Калифорнии у нас часто горел камин. В Мали-бу даже летом – там вечерами всегда туман. Огонь означал, что мы дома, отгораживал от дневных забот, сулил безмятежную ночь.
Я затопила камин. Отгородилась от забот.
Не помню, что собиралась приготовить на ужин.
Память останавливается. Как заевшая кинопленка. Вы с этим столкнетесь.
Я вас предупреждала. Все это вещи, о которых следует знать.
Вы смотрите на меня на сцене, сидите рядом со мной в самолете, сталкиваетесь в ресторане. Вам даже подумать страшно, через что я прошла.
Но ведь и вы от того же не застрахованы.
Поэтому слушайте.
Джон был у себя в кабинете. Я принесла ему виски. Он сел у камина с книгой. «Последнее лето Европы: кто развязал великую войну в 1914-м?» Дэвида Фромкина. Я накрыла в гостиной, чтобы смотреть на огонь.
Видимо, я это позже заметила. Название книги. Потом прочитала ее от корки до корки, но никаких предвестий не нашла.
Постойте. Я говорила о другом. Как все случилось.
Он попросил еще виски. Я принесла. Он спросил: купажированный или односолодовый? Я сказала, что налила из той же бутылки. «Хорошо, – сказал он. – Говорят, их лучше не смешивать».
Я стояла у стола, резала салат. Он сидел напротив, говорил. То ли про Первую мировую, то ли про виски. Не помню.
Вдруг перестал говорить. Смолк.
Я оторвалась от салата. Сказала: «Прекрати». Думала, дурачится.
Сползая со стула. Тараща глаза. Желая отвлечь и себя, и меня от тягостных мыслей.
Вслух мы этого не произнесли, но у нас были для них основания.
В следующий миг поняла: это не шутка. Видимо, он действительно поперхнулся. Подбежала, попробовала приподнять, надавила на диафрагму.
Он упал на стол, потом на пол. Из-под лица стало вытекать что-то темное.
Две «скорые» были у дома ровно через пять минут. Это я теперь знаю. Врачи суетились вокруг него на полу гостиной ровно сорок пять минут. Это я теперь знаю.
А знаю, потому что обзавелась документами. Регистрационным листом медсестер реанимационного отделения. Графиком поступлений в больницу. Историей болезни. Журналом наших консьержей. В нем черным по белому: «21.20. „Скорая“ по вызову м-ра Данна». И дальше: «2105. М-ра Данна забрали в больницу».
От нас до реанимационного отделения ближайшей больницы всего шесть кварталов. Я не помню светофоров. Не помню сирен. Когда выходила из «скорой», носилки уже куда-то вталкивали. Вокруг одни санитары. И еще какой-то человек. Он спросил у водителя, кивнув на меня: «Жена?» Потом объявил: «Я ваш социальный работник».
Тогда-то я все и поняла. Социальный работник – это всегда не к добру.
Как все быстро меняется.
В мгновение ока.
Села ужинать с ним, а закончила одна. Вопрос: как избавиться от жалости к себе? Вот первое, что я написала после того, как это случилось. А потом… Я писательница.
Но потом долго ничего не писала.
В последующие недели я по-разному пробовала удержать себя в колее. Одно время твердила, как заклинание, заключительные строфы из «Роз Эль-мер» – элегии Уолтера Сэвиджа Лэндора, написанной в 1806 году в память о дочери лорда Эльмера, умершей в возрасте двадцати лет в Калькутте. Я эту «Роз Эльмер» напрочь забыла еще в университете, а теперь вдруг вспомнила не только сами стихи, но даже их разбор на каком-то семинаре. Начинается так: «О, воплощенье красоты! На всей земле – одна! Божественным сияньем ты была наделена!» Как сказал тогда преподаватель, своим успехом «Роз Эльмер» обязана тому, что напыщенные и потому пустые восхваления первых строф сменяются внезапным, почти шокирующим откровением, по его выражению, «горькой, но отрадной мудрости» последних, из которых следует, что у всякого горя есть предел: «Ночь вздохов, горести и грез / Я посвяшу тебе».
«Ночь вздохов, горести и грез, – повторил он. – Ночь. Только ночь. Даже если всю целиком (хотя поэт не говорит „всю ночь“, он говорит „ночь“), речь все равно идет о нескольких часах, а не обо всей жизни».
Горькая отрадная мудрость. Я подумала: зачем бы «Роз Эльмер» так впечаталась в мою память, если не для того, чтобы помочь выжить.
II
Я сказала вам, что все поняла, как только увидела социального работника. Понять-то поняла, но не до конца.
Точнее… «Точнее» – это важно… Я поняла, но отказывалась понять.
Есть такая порода людей – я из их числа, может, и вы тоже… Им обязательно нужно все воспринимать адекватно. Иные из нас на этом буквально зациклены.
Попав в приемный покой, вам будет казаться, что вы все воспринимаете адекватно. Но это иллюзия.
Вы будете стоять у входа в реанимацию и на каком-то уровне даже отдавать себе полный отчет в том, что произошло, и все равно смотреть на это как на черновик, в который еще можно вносить поправки.
Прошу обратить внимание на расплывчатость формулировок. «На каком-то уровне», «отдавать себе отчет»… Точные слова вдруг исчезнут из вашего лексикона. Останутся одни приблизительные. Из черновика. Слова, которые еще можно исправить.
Обратимая ошибка.
Думаете, если я не юрист, то не знаю такого понятия? Заблуждение.
Суд вынес решение. Найдите в нем ошибку, и решение суда потеряет силу.
Искать ошибки легко.
Мне уж во всяком случае.
Вот первая: это неправильная больница.
То есть сама по себе больница отличная, но не «наша». «Наша» – в другой части города. И вот я говорю себе: как только состояние стабилизируется, его надо перевести.
Ему нужна постель с телеметрическими приборами. При переводе я должна за этим проследить.
Прошу заметить: только я могу за этим проследить. Не потому, что не доверяю больничному персоналу. Мне важно все контролировать.
Идем дальше. Разрабатываем план. Вслед за Джоном в «нашу» больницу можно будет перевести и Кинтану. Вместе они быстрее поправятся.
Я, кажется, не сказала.
Сегодня мы с Джоном уже были в больнице. Правда, в другой. У нашей дочери, которая вот уже пятый день лежит в реанимации в состоянии искусственно индуцированной комы.
Еще одна неправильная больница.
Если меня спросить.
Но попробуйте убедить взрослую дочь, что отделение неотложной помощи, в котором нет очереди, не обязательно самое лучшее.
Попробуйте с ней поспорить после того, как ее накачают обезболивающими и введут эндотрахеальную трубку.
«Почему все всегда должно быть по-твоему? – говорил Джон, когда мы ругались. А ругались мы часто. – Тоже мне истина в последней инстанции! Уступи хоть раз в жизни».
Сегодня вечером, когда мы вошли в палату, волосы у нее были влажные, слежавшиеся. Никто к ним больше недели не прикасался. Я попробовала в первый день, но так и не смогла расчесать. Раньше всегда расчесывала. Даже в Малибу, когда волосы были длинные, выгоревшие на солнце, позеленевшие от хлорки бассейна, из которого она не вылезала по целым дням. Она приходила с пляжа, и Джон укутывал ее в полотенце на открытой веранде у входа в свой кабинет, а я расчесывала ей волосы.
«Ты мне дороже собственного завтра», – сказал он ей перед уходом, склонившись над постелью.
Он говорил это каждый раз. Все пять дней.
Вдруг услышит.
Сегодня тоже. А потом мы вернулись домой, обсудили, где ужинать, и я разожгла камин…
Вновь возникает социальный работник. Провожает в пустую комнату рядом с приемным покоем. Просит подождать.
Возвращается в сопровождении какого-то подростка в белом халате. Представляет: «Лечащий врач вашего мужа».
Повисает молчание.
Я слышу собственный голос. Слышу, как говорю. – «Он умер, да?»
Врач смотрит на социального работника. «Ничего, – говорит социальный работник. – Она справится».
Они ведут меня к телу. Спрашивают, нужен ли священник. Говорю: нужен. Приходит священник.
Произносит слова. Я благодарю. Мне отдают серебряный зажим, в котором Джон держал водительские права и кредитные карточки. Отдают деньги из его карманов. Отдают часы. Отдают мобильный телефон. Отдают пластиковый мешок с его одеждой. Я благодарю. Социальный работник спрашивает, чем еще он может помочь. Прошу поймать мне такси. Он ловит. Я благодарю. Он спрашивает, есть ли у меня с собой деньги. Отвечаю, что есть. «Она справится».
Первое, что вижу, войдя в квартиру, – куртка Джона. Снял и бросил на стул. Подбираю.
Темная жидкость по-прежнему на полу гостиной. Теперь вижу, что это кровь.
Электроды от ЭКГ по-прежнему на полу.
Пустые шприцы на полу.
Есть несколько человек, которым необходимо сообщить. Кинтане. Но это невозможно. Кинтана в реанимации, без сознания, с капельницей, по которой бегут лекарства. Это о них мне сказали: «Она получает все необходимое».
«Все необходимое» меня не устраивает. Слишком приблизительно.
Мне дают названия. Я записываю. Нахожу в справочниках. Антибиотики. «Ванкомицин». Для краткости – «Банк». Теперь я его тоже так называю. «Азитромицин». «Гентамицин». «Клиндамицин».
И еще «Зигрис».
«Двадцать тысяч стоит», – сказала сегодня сестра, менявшая капельницу.
Вам хочется знать, как это получилось.
Джону тоже хотелось.
Ведь абсолютно здоровая женщина.
Только замуж успели выдать.
Незадолго до Рождества позвонила, что нездоровится. Врач сказал – грипп. Постель, больше жидкости. Снимок делать не стали. Через три дня резкое ухудшение. Пульс больше 150, лейкоциты почти на нуле. Отвезли на «скорой» в реанимацию с подозрением на атипичную пневмонию. К утру уже оба легких поражены, требуется интубация, падает давление, септический шок…
Звонит телефон. Линн Несбит. Непонятно откуда, но она уже знает и выехала.
Все происходит слишком быстро.
Надо посоветоваться с Джоном. Я ничего не делаю, не посоветовавшись с Джоном. Не потому, что считаю его умнее. Он тоже не считает меня умнее. Просто мы друг друту полностью доверяем. Он блюдет мои интересы, я – его. В любой ситуации. Многие убеждены, что мы с ним соперничаем, поскольку оба писатели. Никогда не понимала этой логики. Видимо, у большинства людей превратное представление о браке.
Когда приезжает Линн, мы не сидим в той части гостиной, где на полу по-прежнему кровь, и шприцы, и электроды от ЭКГ.
У нее в руках телефон. Я догадываюсь, что она говорит с Кристофером Лиманом-Оптом.
Кристофер Лиман-Опт пишет некрологи в The New York Times.
Раз некролог – значит, он по-настоящему умер.
Нельзя допустить, чтобы в Los Angeles Times узнали об этом из The New York Times. Я звоню знакомому в Los Angeles Times. Слушая длинные гудки, понимаю, что поторопилась. В Лос-Анджелесе на три часа меньше. Может, там Джон еще не успел умереть? В котором часу констатировали смерть? В Лос-Анджелесе уже наступило столько? И если нет, может, по тому времени смерть еще удастся предотвратить…
Линн предлагает остаться у меня ночевать.
Я отказываюсь, говорю, что нет необходимости.
Я в порядке.
До утра. Когда просыпаюсь, его по-прежнему нет.
Хочу пояснить. Конечно, я понимала, что он умер. Сама же и сообщила об этом в The New York Times и Los Angeles Tunes. Но все равно до конца не верила в необратимость случившегося. Не могла отделаться от ощущения, что все еще можно исправить.
Для того и хотела остаться одна.
Я хотела остаться одна, чтобы он поскорее вернулся.
Так начался мой год магического мышления. Когда я просыпаюсь, а его по-прежнему нет, двигаться не хочется. Лежу неподвижно. Анализирую ситуацию. Может, люди возвращаются не сразу. Может, надо подождать.
Может, надо подыгрывать, заниматься тем, что принято называть «приготовлениями». Тони, племянник Джона, приезжает из Коннектикута. Раньше он заведовал строительством декораций на съемках в Нью-Йорке и умеет договариваться с ма
...
конец ознакомительного фрагмента








