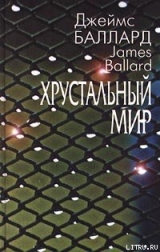
Текст книги "Время переходов"
Автор книги: Джеймс Грэм Баллард
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Джеймс Грэм Боллард
Время переходов
***
Утопавшее в цветах кладбище отнюдь не производило гнетущего впечатления; залитые ярким солнцем памятники казались экспонатами какой-то необычной, с преобладанием мраморных ангелочков, скульптурной выставки. Похожие на двух сухопарых ворон могильщики отдыхали, опершись на заступы; их черные тени наискось рассекали безукоризненную белизну одного из недавних надгробий.
Буквы на камне сверкали свежим, совсем не поблекшим золотом:
ДЖЕЙМС ФОЛКМАН
1963—1901
«Конец – это лишь начало»
Неспешно взрезав упругий дерн, могильщики сняли надгробную плиту, обернули ее холстиной и отнесли в ближний проход между могилами. Биддл-старший, костлявый человек в черной жилетке, указал на группу траурно одетых людей, приближавшуюся со стороны ворот:
– Давай-ка поднажмем. Они уже здесь.
Биддл-младший, его сын, взглянул на немноголюдную процессию, пробиравшуюся по извилистым кладбищенским дорожкам. В воздухе висел сладковатый запах взрыхленной земли.
– И всегда-то они рано, – задумчиво пробормотал он.– Странно даже, ну хоть бы раз пришли вовремя.
Укрытая кипарисами часовня огласила кладбище мерным, печальным звоном колокола. Проворно орудуя заступами, могильщики выбрали из могилы мягкую, почти не слежавшуюся землю и сложили ее аккуратно конусом в головах. Через несколько минут, когда подошли дьячок и ближайшие родственники покойного, полированный тик гроба уже полностью обнажился, спрыгнувший в яму Биддл споро соскребал с латунной обивки последние комочки влажной земли.
После непродолжительной церемонии два десятка скорбящих во главе с сестрой Фолкмана, высокой седовласой дамой с узким, властным лицом, тяжело опиравшейся на руку своего супруга, вернулись в часовню. Биддл взмахнул рукой, подзывая сына. Они вытащили гроб из могилы, взгромоздили его на тележку и затянули ремнями. Теперь оставалось только закидать яму и аккуратно уложить на место квадратики дерна.
Отряхнув землю с рук, они покатили тележку к часовне. На поредевших могилах дрожали кружевные тени деревьев.
Сорок восемь часов спустя гроб доставили во внушительных размеров каменный особняк Джеймса Фолкмана, располагавшийся в дальнем конце Мортмер-Парка. На обнесенной высокими, глухими оградами улице не было ни машин, ни прохожих, так что мало кто стал свидетелем того, как катафалк свернул в тенистый проезд и остановился у дома. Гроб внесли в зал с наглухо зашторенными окнами, установили на массивном, красного дерева столе и открыли. Фолкман лежал без движения в окружении множества огромных венков. В мягком, приглушенном свете его резко очерченное, с массивным подбородком лицо выглядело спокойным и собранным, не выказывало ни малейших признаков смерти. Короткая прядь волос на лбу заметно смягчала внешность Джеймса Фолкмана в сравнении с суровым обликом его сестры.
По мере того как солнце поднималось по небосводу, одинокий луч света, чудом пробившийся сквозь густые кроны окружавших дом платанов, медленно перемещался по залу. Приблизившись к виску Фолкмана, яркое пятнышко скользнуло по открытым, немигающим глазам и поползло дальше. Но даже и потом, когда свет ушел, казалось, что в глубине зрачков сохранился слабый его отблеск, подобный отражению звезды в темной воде колодца.
С раннего утра до вечера сестра Фолкмана спокойно, без неподобающей суеты перемещалась по дому. Ее быстрые, ловкие руки вытряхивали пыль из бархатных портьер на дверях библиотеки, заводили миниатюрные, в стиле Людовика XV, настольные часы в кабинете, переставляли стрелку висевшего на лестнице барометра. Ей активно помогали две остролицые, столь же умелые подруги. Прошло несколько часов, и слаженные усилия одетых в черное женщин (за все время работы они не обменялись ни словом) преобразили дом; посетители, желавшие отдать Джеймсу Фолкману дань уважения, попадали в зал, сверкавший темным деревом стен и паркета.
– Мистер и миссис Монтефьоре…
– Мистер и миссис Колдуэлл…
– Мисс Эвелин Джермин и мисс Элизабет…
– Мистер Сэмюэл Бэнбери…
Ритуально кивая, когда объявлялись их имена, посетители проходили в зал, задерживались у гроба, со сдержанным интересом изучали лицо Фолкмана, а затем следовали в столовую, где им предлагались портвейн и цукаты. По большей части это были немолодые, не по погоде тепло одетые люди; двоим-троим было явно не по себе в обшитых темным дубом стенах огромного особняка, и в каждом из них угадывался один и тот же дух нетерпеливого, пусть и сдержанного ожидания.
На следующее утро Фолкмана извлекли из гроба и отнесли наверх, в спальню с окнами на проезд. Саван размотали, обнаружив иссохшее, хрупкое тело, одетое в теплую шерстяную пижаму. Безжизненно серое, с широко открытыми, невидящими глазами, лицо Фолкмана казалось спокойным и умиротворенным, он лежал в холодной как лед постели, бесконечно далекий от своей сестры, расположившейся здесь же рядом на стуле с высокой спинкой. Бетти – так ее звали – тряслась от беззвучных рыданий, давая выход переполнявшим ее чувствам, и только когда зашедший в комнату доктор Маркем положил руку ей на плечо, она сумела немного собраться.
И тут же, словно по сигналу, глаза Фолкмана вздрогнули. Некоторое время они неуверенно блуждали по потолку, мутные зрачки силились и не могли сфокусироваться, но затем Фолкман вполне определенно взглянул на заплаканное лицо сестры. Когда она и доктор Маркем склонились над все еще недвижным телом, бескровные губы чуть раздвинулись в мимолетной, полной бесконечного терпения и понимания улыбке. Мгновение спустя изнуренный непомерными усилиями Фолкман провалился в забытье.
Его сестра и доктор зашторили окна и на цыпочках вышли. Наружная дверь бесшумно открылась и закрылась, дом замер в ожидании. С каждой минутой грудь Фолкмана вздымалась все выше и ровнее, звуки его дыхания наполняли спальню, мешаясь с неумолчным шорохом платанов под окном.
Первую неделю Фолкман не вставал с кровати, однако сил у него быстро прибавлялось, вскоре он мог уже самостоятельно есть приготовленную сестрой пищу. Бетти сменила траур на серое шерстяное платье. Сейчас она сидела в старинном, черного дерева кресле и критически взирала на брата.
– Джеймс, мне не нравится твой аппетит, нужно побольше есть. Ты же у нас вконец исхудал.
Фолкман отодвинул поднос, уронил узкие, изящные руки на грудь и улыбнулся:
– Тебе, сестричка, только дай волю, так ты быстренько превратишь меня в молочный пудинг.
Чуть более резким, чем надо, движением Бетти поправила пуховое одеяло.
– Если тебе не нравится, как я готовлю, можешь заботиться о своем хлебе насущном самостоятельно.
Фолкман негромко рассмеялся:
– Спасибо за предложение, Бетти, я обдумаю его в самое ближайшее время и самым серьезным образом.
Устало улыбаясь, он проводил глазами сестру, выскочившую из комнаты с подносом. Возможность поддразнивать Бетти приносила пользу едва ли меньшую, чем обеды, ею приготовленные. Вот и сейчас он ощутил струение крови в холодных, занемевших ногах. Лицо Фолкмана все еще оставалось бескровным и вялым; сознавая свою слабость, он избегал лишних движений и следил за прилетающими на подоконник воронами одними глазами, не поворачивая головы.
Мало-помалу Фолкман настолько окреп, что начал садиться, его беседы с сестрой стали чаще и продолжительнее. Он выказывал все больший интерес к окружающему миру, наблюдал сквозь окно за прохожими на улице, слушал, что говорит об этих людях сестра, а иногда и оспаривал ее суждения.
– А вот и Сэм Бэнбери, собственной своей персоной, – раздраженно заметила она, когда мимо проковылял сморщенный, похожий на гнома старик.– Опять наладился в «Лебедь», поискал бы лучше себе работу.
– Помилосердствуй, Бетти. Сэм очень разумный парень. Вот я, я бы тоже куда охотнее пошел бы в пивную, чем на работу.
Бетти скептически фыркнула – эта легкомысленная шуточка никак не соответствовала ее представлению о характере брата.
– Ты хозяин одного из лучших домов во всем Мортмер-Парке, – наставительно сказала она.– Думаю, тебе не стоит особенно якшаться с людьми вроде Сэма Бэнбери. Он не твоего класса.
– Да какой там класс, – улыбнулся Фолкман.– Все мы одного и того же класса, или ты, Бетти, прожила здесь так долго, что уже призабыла?
– Каждый из нас забывает, – пожала плечами Бетти.– И ты, Джеймс, тоже никуда не денешься. Грустно, конечно, но раз уж мы попали в этот мир, нужно жить по его законам. Если церковь может поддерживать в нас память – прекрасно, пусть поддерживает. Но ты и сам скоро увидишь, что в большинстве своем люди ровно ничего не помнят. Возможно, так оно и лучше.
Первых гостей она встречала с почти нескрываемым раздражением, по десять раз напоминая, что Фолкман совсем еще слаб и почти не может разговаривать. Впрочем, эти визиты и вправду быстро утомляли Фолкмана и сводились в конечном итоге к краткому обмену ничего не значащими любезностями. Даже когда Сэм Бэнбери принес трубку и кисет с табаком, всех его сил достало только на то, чтобы поблагодарить Сэма за подарки, после чего Бетти утащила их, не встретив никакого сопротивления.
И только когда пришел преподобный Мэтьюз, Фолкман внутренне собрался и проговорил, почти не останавливаясь, с полчаса, а то и дольше. Священник слушал с живейшим вниманием, вставляя время от времени вопросы. Беседа явно прибавила Мэтьюзу бодрости и уверенности; спускаясь по лестнице, он одарил сестру Фолкмана лучезарнейшей из улыбок.
Через три недели Фолкман начал вставать и даже кое-как спустился вниз, чтобы осмотреть дом. Бетти протестовала, сопровождая каждый неуверенный, с трудом дающийся шаг брата напоминаниями о его слабости, однако Фолкман ничего не желал слушать. Еле переставляя ноги, он дошел до зимнего сада и обессиленно прислонился к одной из декоративных колонн, его нервные пальцы гладили листья миниатюрных деревьев, ноздри жадно втягивали аромат цветов, лицо раскраснелось. Выйдя из дома, он осмотрел деревья, росшие снаружи, словно сравнивая все это с представлением о рае, пребывавшим в его памяти.
Возвращаясь в дом, Фолкман подвернул на неровном плитняке двора ногу и с размаха упал на камни.
– Ты будешь когда-нибудь слушать, что тебе говорят? – кипятилась Бетти, помогая ему преодолеть террасу.– Ведь сказано было, чтобы лежал в постели.
Добравшись до своей комнаты, Фолкман облегченно плюхнулся в кресло и начал ощупывать ушибленные ноги.
– Слушай, Бетти, ты не могла бы немного помолчать? – взмолился он, когда боль отошла и вернулось дыхание.– Я никуда не делся и отлично себя чувствую.
Что вполне соответствовало истине. С этого момента Фолкман резко пошел на поправку, несчастный случай словно стряхнул с него беспомощную усталость и дискомфорт последних недель. Его походка стала легкой и свободной, мертвенный цвет лица сменился здоровым румянцем, он облазил все уголки обширного особняка.
Месяц спустя Бетти признала, что теперь Фолкман вполне способен вести самостоятельную жизнь, и вернулась к мужу, а ее место заняла экономка. Освоившись со своим домом, Фолкман начал проявлять все больший интерес к окружающему миру. Он нанял комфортабельный автомобиль с шофером и взял за обычай ежевечерне посещать свой клуб; вскоре вокруг него собрался обширный круг друзей и знакомых. Он возглавил несколько благотворительных комитетов и много трудился на этом поприще; терпимость и благожелательность в сочетании с острой деловой хваткой снискали ему всеобщее уважение. Теперь он блистал безукоризненной осанкой и роскошной гривой седых, чуть тронутых чернотой волос, его резко очерченное, с твердым, энергичным подбородком лицо покрылось ровным загаром.
По воскресеньям Фолкман непременно посещал утреннюю и вечернюю службы в своей церкви, где у него было постоянное место, и глубоко печалился, что среди прихожан почти нет молодежи. Однако он и сам все чаще находил, что изображаемые литургией картины плохо соотносятся с его собственными, быстро блекнувшими воспоминаниями; прошло немного времени, и они окончательно превратились в нечто непостижимое, подвластное не разуму, но лишь вере.
Через несколько лет, когда Фолкман начал испытывать растущее беспокойство, он принял предложение одной из ведущих брокерских фирм и стал ее совладельцем.
Многие его знакомые по клубу также находили себе работу, принося ей в жертву мирное спокойствие курительной комнаты и зимнего сада. Гарольд Колдуэлл, один из ближайших друзей Фолкмана, получил в университете кафедру истории, а Сэм Бэнбери стал управляющим гостиницей «Лебедь».
Первый день Фолкмана на бирже был отмечен торжественной и весьма впечатляющей церемонией. Сперва мистер Монтефьоре, старший совладелец фирмы, представил персоналу троих новых сотрудников более низкого ранга, каждому из которых вручили золотые часы в знак признательности за долгие годы будущей работы. Будущая работа Фолкмана была отмечена чеканным серебряным портсигаром и громкими аплодисментами всех собравшихся.
На пять следующих лет Фолкман с головой окунулся в работу; с течением времени неуклонно возраставший интерес к материальным благам и жизненным радостям делал его все более активным и агрессивным. Он с увлечением играл в гольф, день ото дня прибавляя в силе и ловкости, а затем перешел на теннис. Влиятельный представитель делового мира, Фолкман проводил свои дни в бесконечной череде конференций и званых обедов. Он забыл дорогу в церковь, предпочитая выезжать по воскресеньям на скачки и регаты в обществе той или иной из своих многочисленных знакомых очаровательного пола.
Но затем, к вящему удивлению Фолкмана, им стала овладевать черная тоска; совершенно беспричинная, она преследовала его неотвязно, день ото дня сгущаясь. После работы Фолкман ехал прямо домой и сидел там безвылазно, он вышел изо всех своих комитетов и не появлялся больше в клубе. На бирже он проявлял непонятную рассеянность, мог часами стоять у окна, глядя невидящими глазами на снующие мимо машины.
Когда его дела пошли совсем из рук вон плохо, мистер Монтефьоре завел разговор об отпуске на неопределенный срок.
Неделю кряду Фолкман тупо слонялся по огромному, пустому особняку. Сэм Бэнбери чуть не выворачивался наизнанку, пытаясь растормошить друга, однако Фолкман был безутешен. Он зашторил окна, сменил обычную свою одежду на черный костюм с таким же галстуком и часами безутешно сидел в полутемной библиотеке.
Когда депрессия Фолкмана достигла крайней точки, он поехал на кладбище за своей женой.
Когда часовня стала пустеть, Фолкман задержался у дверей ризницы, чтобы дать чаевые могильщику Биддлу и вежливо повосхищаться его сыном, трехлетним ангелочком, который увлеченно играл среди надгробий. Затем он вернулся в Мортмер-Парк; его машина следовала прямо за катафалком, остальные – чуть следом.
– Великолепный кортеж, – одобрительно заметила Бетти.– Двадцать наемных машин, да еще сколько личных.
– Спасибо за участие, – пробормотал Фолкман, глядя на сестру с критической отчужденностью. За пятнадцать лет Бетти заметно изменилась, и не в лучшую сторону. Чего стоит один этот грубый, хриплый голос, не говоря уж о вульгарной жестикуляции. То, что они с сестрой принадлежат к различным социальным слоям, ощущалось всегда, но если прежде Фолкман милосердно закрывал на это различие глаза, теперь оно грозило превратиться в пропасть. Последнее время все помыслы Бетти крутились исключительно вокруг денег и престижа – не потому ли, к слову сказать, что дела ее супруга заметно расстроились?
Фолкман втайне порадовался своим профессиональным навыкам и удачливости, однако тут же в его мозгу шевельнулось тревожное предчувствие.
Гроб установили в том же самом зале, на том же самом столе, где пятнадцать лет назад стоял гроб самого Фолкмана. Изобилие темно-оливковой зелени огромных венков, полумрак и стоялый воздух превращали зал в подобие таинственного леса, посреди которого уснула волшебным сном пламенно-рыжая, полногубая и широкоскулая чародейка. Фолкман судорожно вцепился в серебряный поручень гроба и без отрыва смотрел на жену, почти не сознавая присутствия посетителей и Бетти, препровождавшей их одного за другим в соседнюю комнату к портвейну и виски. Его глаза медленно скользили по прелестным ямкам и впадинам ее подбородка и шеи, по светлой, безукоризненно гладкой коже, уходящей от хрупких ключиц к сильным, угадывающимся под саваном плечам. На следующий день, когда жену перенесли наверх, ее присутствие буквально заполнило спальню. Фолкман безотлучно сидел у гроба, терпеливо ожидая пробуждения.
В начале шестого часа дня, когда до заката оставались считанные минуты и воздух в саду устало замер, недвижное лицо озарилось первым проблеском жизни. Остекленевшие глаза прояснились и сфокусировались на безликой плоскости потолка.
У Фолкмана перехватило дыхание; он подался вперед и осторожно потрогал холодную как лед руку. Под тонкой кожей запястья угадывалось слабое биение.
– Марион, – нерешительно прошептал он.
Марион чуть повернула голову, по бескровным губам скользнула тень улыбки. Затем ее взгляд нашел мужа.
– Привет, Джейми.
Приход жены вывел Фолкмана из долгого оцепенения, влил в него новую энергию. Преданный и любящий супруг, он полностью ушел в построение семейной жизни. Следя за постепенным выздоровлением Марион, он и сам претерпел разительные перемены. Из его черных волос окончательно исчезла седина, подбородок стал еще тверже; пожилой, пусть и хорошо сохранившийся человек превратился в мужчину во цвете лет. Фолкман вернулся на биржу и с удвоенным энтузиазмом взялся за дела.
По всеобщему убеждению, из них с Марион получилась красивая пара. Время от времени они выезжали на кладбище, чтобы отметить появление на свет кого-либо из своих старых друзей, однако такое случалось все реже и реже. Приветственные церемонии происходили регулярно, но теперь из земли извлекали малознакомых, а чаще – и вовсе незнакомых им людей. Могилы стремительно редели, освободившиеся от надгробий участки превращались в лужайки для отдыха. Похоронное бюро, взявшее на себя обязанность следить за кладбищем и своевременно извещать скорбящих родственников о скором приходе долгожданных усопших, закрылось, его помещение было продано какой-то фирме. В конце концов могильщик Биддл извлек из последней могилы свою собственную жену, чем существование кладбища и завершилось, на его месте разбили детскую игровую площадку.
Годы семейной жизни были для Фолкмана длящимся апогеем счастья. С каждой весной Марион становилась все стройнее, прекраснее и моложе, при встречах на улице пламенеющий костер ярко-рыжих волос позволял Фолкману заметить ее на фоне толпы за добрую сотню ярдов. Они возвращались домой держась за руки, а летними вечерами целовались в прибрежных ивах, как юные влюбленные.
Счастье Джеймса и Марион стало притчей во языцех в кругу друзей, а потому не приходится удивляться, что на церковную церемонию, отмечавшую долгие годы их совместной жизни, собралось две с лишним сотни гостей. Преклоняя колени перед аналоем, Марион потупила глаза и густо покраснела, в этот момент она казалась Фолкману застенчивой розой. Это была их последняя ночь вместе. Год от года Фолкман все больше терял интерес к работе на бирже, а появление в фирме пожилых, более серьезных и солидных сотрудников знаменовало для него целую серию должностных понижений. Многие друзья Джеймса сталкивались с аналогичными проблемами. Гарольд Колдуэлл лишился профессорского звания и стал младшим преподавателем; чтобы подробно ознакомиться с огромным массивом работ, выполненных за последнюю четверть века, он пошел на аспирантские курсы. Сэм Бэнбери работал в «Лебеде» официантом.
Марион переехала к своим родителям; квартиру, куда переселились они с Джеймсом несколькими годами раньше, после продажи особняка, сдали новым жильцам. Фолкман, чьи вкусы становились с годами все проще и непритязательнее, снял комнату в молодежном общежитии, однако они с Марион продолжали встречаться каждый вечер. Он ощущал растущее беспокойство, смутно сознавая, что жизнь его движется к неизбежному перелому, и с трудом подавлял желание оставить место на бирже.
– Как же так, Джейми, – увещевала его Марион, – ведь ты потеряешь все, ради чего работал столько лет.
Они лежали в городском парке. Марион прибежала на свидание в обеденный перерыв, из универмага, где работала последнее время продавщицей. Фолкман перестал жевать травинку и неопределенно пожал плечами:
– Возможно, но только меня оскорбляют все эти понижения. А теперь и от Монтефьоре ничего не будет зависеть – на днях председателем совета стал его дедушка.– Он перекатился на спину и положил голову ей на колени.– Ты бы только знала, до чего там занудно, в этой затхлой атмосфере, среди этих престарелых фарисеев. Работа не доставляет мне больше никакого удовлетворения.
Марион ласково улыбнулась его наивности и юношескому энтузиазму. Никогда еще на ее памяти Фолкман не был таким, как сейчас, красивым, время сгладило с его загорелого лица все, даже самые крошечные морщинки.
– Как это было чудесно, – сказал он в канун тридцатилетней годовщины их совместной жизни.– И как хорошо, что мы не завели ребенка. У некоторых людей их бывает по три, даже по четыре, – ты можешь себе представить себе такую трагедию?
– И все равно, Джейми, это и нас не минует, – трезво заметила Марион.– К тому же некоторые говорят, что иметь ребенка – прекрасно и благородно.
Весь этот вечер они с Марион бродили по городу. Ее неприступность еще больше распаляла в Фолкмане желание. С той поры, как Марион переехала к родителям, она стала такой недотрогой, что даже стеснялась держаться за руки при людях.
Затем он ее потерял.
На городском рынке Марион встретила двух своих подружек, Элизабет и Эвелин Джермин, и познакомила их с Джеймсом.
– А вот и Сэм Бэнбери, – Эвелин указала на дальнюю сторону рынка, где только что громыхнула петарда.– Валяет дурака, как обычно.
Сестрички Джермин неодобрительно заквохтали. Тонкогубые и унылые, они были одеты в одинаковые, наглухо застегнутые костюмы из темной саржи.
Засмотревшись на Сэма, Фолкман отошел чуть в сторону, затем обернулся и не увидел девушек. Попытка найти их в толпе не увенчалась успехом, только в какой-то момент он вроде бы заметил вдали огненно-рыжую голову Марион.
Охваченный отчаянием, Фолкман протолкался среди лотков, чуть не перевернув по дороге тележку зеленщика, И крикнул Сэму Бэнбери:
– Сэм! Ты не видел здесь Марион?
Бэнбери рассовал неиспользованные петарды по карманам и активно включился в поиски. Битый час они с Джеймсом обшаривали все закоулки, после чего Сэм решил, что с него хватит, и пошел домой, оставив друга на базарной площади под тусклыми фонарями – к этому времени почти все ларьки и павильоны успели закрыться. Фолкман бродил по усеянной мусором булыжной мостовой, приставая с расспросами к последним, не успевшим еще собрать свое хозяйство торговцам:
– Извините, пожалуйста, вы не видели здесь девушку? Такую, с рыжими волосами.
– Пожалуйста, она ведь точно была здесь вечером.
– Ее…
– …зовут…
Фолкман потрясенно осознал, что не помнит имени.
Вскоре он оставил работу и переехал из общежития к родителям. Их маленький кирпичный домик располагался на другой стороне города; сквозь частокол дымовых труб Джеймс замечал иногда далекие склоны Мортмер-Парка. Теперь его жизнь вступила в менее беззаботную фазу, приходилось много помогать матери, да и присмотр за малолетней Бетти тоже отнимал уйму сил и времени. В сравнении с огромным особняком родительский дом казался убогим и неудобным, чуждым всему, к чему Фолкман привык. Люди добропорядочные и уважаемые, его родители так и не смогли продвинуться в жизни, им не хватило для этого образования – или удачи – или и того, и другого. Они были совершенно равнодушны к музыке и театру; Фолкман почти физически ощущал, как под влиянием обстановки тупеет и грубеет его собственный мозг.
Отец открыто осуждал его за скоропалительный уход с работы; эта враждебность постепенно сглаживалась, зато отец начал все больше и больше помыкать сыном, он ограничивал его свободу, выдавал все меньше карманных денег, даже запрещал играть с некоторыми из друзей. За все про все жизнь с родителями ввела Фолкмана в совершенно новый, незнакомый ему прежде мир.
К поступлению в школу Джеймс успел забыть свое прошлое, из его памяти начисто изгладились и Марион, и великолепный, с многочисленными слугами особняк, где они жили прежде.
В первый школьный год учителя относились к Джеймсу и его одноклассникам почти на равных, однако класс от класса равенство все больше сменялось жестким доминированием. Фолкман неоднократно бунтовал против стремления учителей подавить его индивидуальность, однако в конечном итоге они одержали полную победу, взяли под свой контроль все его поступки и принялись усиленно преобразовывать его речь и даже мысли. Как смутно догадывался Джеймс, процесс образования готовил его к переходу в странный, сумеречный мир раннего детства. Учителя последовательно и целеустремленно вытравливали из его мозга все сколько-нибудь сложное, разрушали бесконечными повторениями и головоломными упражнениями все его познания в языке и математике, заменяя их набором бессмысленных стихов и песенок, создавая таким образом искусственный мирок полной инфантильности.
В конце концов, когда процесс образования довел Джеймса чуть ли не до стадии бессловесного младенчества, родители забрали его из школы.
– Мама, а можно я буду спать с тобой?
Миссис Фолкман взглянула на маленького, очень серьезного мальчика, положившего голову ей на подушку, любовно ущипнула его за упрямый подбородок, а затем погладила шевельнувшегося во сне мужа по плечу. Несмотря на несопоставимую разницу в возрасте, их фигуры были почти одинаковы – и те же широкие плечи, та же крупная голова, те же густые, черные волосы.
– Нет, Джейми, не сегодня, а когда-нибудь потом. Скоро.
Джейми смотрел на мать широко раскрытыми глазами, силясь понять, почему она плачет, смутно подозревая, что он коснулся одной из этих запретных тем, бывших предметом возбужденного интереса всех мальчиков в школе, ненароком затронул тайну их конечного назначения – тайну, которую заботливо скрывают родители, а дети уже не в силах понять.
К этому времени он уже начал испытывать первые трудности с ходьбой и почти разучился пользоваться ложкой. Он неуклюже ковылял на подламывающихся ногах и пискляво бубнил нечто неразборчивое. Словарь Джеймса стремительно уменьшался, вскоре в нем осталось одно-единственное слово «мама». Когда он разучился стоять, мама стала носить его на руках и кормить с ложечки, как парализованного старика. Его сознание затуманилось, в нем остались лишь немногие главные вещи – такие, как тепло и холод, голод и сытость. И привязанность к матери, он цеплялся за нее всей силой крошечных розовых пальцев.
Вскоре после этого Фолкман и его мать легли на пару недель в больницу. По возвращении домой миссис Фолкман пролежала несколько дней в кровати, затем она начала вставать и ходить – день ото дня все больше, постепенно сбрасывая добавочный вес, набранный ею в больнице.
Через девять с небольшим месяцев после возвращения домой – все это время она и ее муж непрерывно думали о своем сыне, о его уходе из жизни, еще больше сблизившем их трагическим предвестием их скорого, неизбежного разрыва, – они уехали за город, чтобы провести там медовый месяц.








