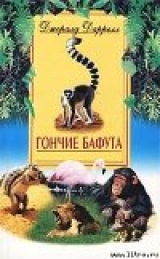
Текст книги "Гончие Бафута"
Автор книги: Джеральд Даррелл
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– А-а-а! – завопил он, прыжками поднимаясь к нам по склону. – Глупый человек, добыча сейчас убежать!
Он обхватил охотника руками, и оба упали навзничь прямо на ковер вьюнка. К этому времени остальные охотники уже посадили детенышей в мешки и могли теперь прийти на выручку товарищу; они оттащили Джейкоба и помогли охотнику снять с ноги мешок. По счастью, даман выпустил из зубов его ногу, когда попал в мешок, и, видимо, так перепугался, что уже не стал больше кусаться, но, конечно, бедняга охотник порядком намаялся.
Меня все еще душил смех, хотя я и старался изо всех сил скрыть это от окружающих; как мог, я успокоил раненого охотника, отчитал Джейкоба за его поведение и сказал ему, что из-за собственной глупости он получит только половину обещанной платы за поимку зверька, а вторая половина пойдет охотнику – ведь по милости Джейкоба он чуть не лишился ноги. Мое решение все, включая, как ни странно, самого Джейкоба, встретили одобрительными кивками и удовлетворенным хмыканьем. Я давно убедился, что у большинства африканцев в высшей степени развито чувство справедливости и они от души одобряют всякий справедливый приговор, даже если он вынесен против их самих.
Восстановив таким образом порядок и оказав первую помощь раненому, мы двинулись дальше по долине. Мы окурили еще несколько пещер и ям, но безуспешно и, наконец, без всякого кровопролития загнали и поймали большого самца дамана. Теперь у меня их было целых четыре штуки – мне выпала просто неслыханная удача! И я решил, что пора, пожалуй, возвращаться. Мы вышли из долины, обогнули горный отрог, спустились по отлогим склонам, поросшим золотистой, шелестевшей на ветру травой, и зашагали дальше. Дойдя до местности поровнее, мы остановились покурить и передохнуть; я присел на корточки в теплой траве и оглянулся на горы – оттуда донесся глухой раскат грома. Да, мы и не заметили, что по небу к нам подплыла тяжелая мрачная туча, похожая очертаниями на огромную персидскую кошку, и что она уже растянулась по гребням гор. Под ее тенью зелень и золото гор померкли, перешли в угрюмый темно-лиловый цвет, а долины чернели резкими косыми полосами. Туча двигалась, меняла очертания и то свивалась, то развивалась, словно месила и мяла горную гряду, как кошка мнет лапами гигантское кресло. Временами в этой громаде появлялся разрыв, и тут ее пронизывало острие солнечного луча; чистым золотом освещались горы под ним, трава на их сумрачно лиловых боках вспыхивала изжелта-зелеными пятнами. С поразительной быстротой туча становилась все темнее, мрачнее, словно бы разбухала, готовясь пролиться дождем. И вот уже там рушатся, падают молнии, будто колкие, зазубренные серебряные сосульки, и горы дрожат от раскатов грома.
– Маса, надо идти скоро-скоро, – сказал один из охотников. – Где-то этот гроза нас догонять.
Мы торопились, чуть не бежали, но все-таки не успели – туча пролилась над вершинами гор и, точно в замедленном прыжке, растянулась по небу позади нас. Поднялся порывистый, холодный ветер и сейчас же полил дождь, сплошная серебряная завеса; в первые же секунды мы промокли до нитки. Рыжая земля потемнела и стала скользкой, дождь свистел в траве так громко, что разговаривать было почти невозможно. Когда мы подошли к окраинам Бафута, зубы у нас стучали от холода, а насквозь промокшая одежда леденила тело при каждом шаге. Мы вышли уже на последний участок дороги, и тут дождь понемногу стал стихать, еще побрызгал легким душем, а потом и вовсе перестал; с промокшей земли поднялся белый туман и разбился о наши ноги, как огромная волна во время отлива.
Глава IV
Монарх и конга
Наконец настал великий день торжественной церемонии сбора травы. Я проснулся перед зарей, когда звезды только еще начали редеть и меркнуть, когда даже самые молодые и восторженные деревенские петушки еще не пробовали свой голос; меня разбудил рокот маленьких барабанчиков, смех, громкий говор и мягкое шарканье босых ног по пыльной дороге внизу, перед домом. Я лежал и прислушивался ко всем этим звукам до тех пор, пока пробуждающийся день не окрасил небо за окном в нежно-зеленоватый цвет; тут я встал и вышел на веранду посмотреть, что происходит.
В туманном утреннем свете сгрудившиеся вокруг Бафута горы светились розовато-лиловым и серым, там и сям их рассекали беспорядочным узором темные полосы долин; в их глубине еще таилась черная и темно-лиловая тьма. Небо было великолепное – черное на западе, где еще дрожали последние звезды, желтовато-зеленое у меня над головой, а у восточной кромки холмов оно переходило в нежнейшую голубизну, как перо зимородка. Я прислонился к той стене веранды, которую сплошь оплела огромной паутиной бугенвиллея, точно небрежно накинутый плащ из кирпично-красных цветов, и обвел взглядом лестницу из семидесяти пяти ступенек, дорогу вниз и за ней двор Фона. По дороге справа и слева надвигался плотный людской поток; люди смеялись, болтали и время от времени били в маленькие барабанчики. Каждый нес на плече длинный деревянный шест, а к шесту была привязана большая, конусом, связка сухой травы. Рядом бежали ребятишки, они тоже несли на тонких деревцах связки поменьше. Люди проходили мимо арки, ведущей во двор Фона, и сбрасывали свою ношу в кучу под деревьями у обочины дороги. Потом входили во двор под аркой и там останавливались группами, болтая и смеясь; порой флейта и барабан заводили какую-нибудь короткую мелодию, и тотчас из толпы выходили танцоры; они шаркали ногами по земле под рукоплескания и восторженные крики зрителей. Это было веселое, оживленное и добродушное сборище.
К тому времени, как я покончил с завтраком, кучи травы под деревьями у дороги вздымались чуть ли не до небес; когда на них падала новая связка, вся куча покачивалась – того и гляди рассыплется; двор был битком забит народом, людям уже не хватало места и многие остались под аркой и на дороге. В воздухе звенели голоса – те, кто пришел пораньше, здоровались с вновь пришедшими и корили их за леность. Дети с визгом и хохотом гонялись друг за другом, то ныряя в толпу, то выскакивая из нее, а за ними с восторженным тявканьем весело носились стаи тощих, ободранных собак. Я спустился по семидесяти пяти ступенькам на дорогу и присоединился к толпе: мне было очень приятно и лестно, что никто не возражал против моего присутствия, наоборот, многие дружелюбно мне улыбались, а когда я стал со всеми здороваться на привычном им ломаном английском, они заулыбались еще шире и приветливей. Потом я поудобней устроился у дороги, в тени огромного куста гибискуса – он весь был усыпан пунцовыми цветами и гудел роями всевозможной мошкары. Я сидел там, курил и глядел на плывущую мимо праздничную толпу: очень скоро вокруг меня собрались тесным кружком ребятишки и подростки и молча за мной наблюдали. Наконец меня отыскал запыхавшийся Бен; уже давно прошло время обеда, укоризненно сообщил он мне, и все вкусные вещи, что приготовил повар, теперь уже, конечно, никуда не годятся. Я неохотно покинул кружок моих поклонников – все они вежливо встали и пожали мне руку – и поплелся за все еще ворчавшим Беном обратно к дому.
После обеда я снова спустился на свой наблюдательный пункт под гибискусом и продолжал взглядом антрополога изучать обитателей Бафута, которые непрерывным потоком двигались мимо меня. Видимо, в утренние часы я наблюдал тут простой рабочий люд. Как правило, всю одежду простолюдина составлял цветастый саронг, плотно обернутый вокруг бедер; так же одеты и женщины, впрочем, иные – глубокие старухи – носили одну лишь набедренную повязку из полоски кожи. Я понял, что это и есть их исконное одеяние, а яркий саронг – дань современности, новомодная одежда. Почти у каждой пожилой женщины в зубах трубка, но не короткая, точно обрубок, какие в ходу у равнинных племен, а длинная, с изящным чубуком, напоминающая старинные глиняные трубки, и все эти трубки прокурены дочерна. Вот так выглядел рабочий люд Бафута. После обеда на дороге появились члены совета, мелкие князьки и иные важные и влиятельные лица, и уж этих-то никак нельзя было спутать с обыкновенными тружениками. Все они были разряжены в длинные, просторные одежды великолепных ярких цветов (одежды эти шелестели и сверкали на ходу), а на головах красовались маленькие, тесно облегавшие череп круглые шапочки, расшитые сложным ярким узором, какие я видел уже не раз. Некоторые несли в руках жезлы из какого-то темно-коричневого дерева, покрытые удивительно тонкой ажурной резьбой. Все они были уже пожилые или даже старые люди, явно очень гордились своим высоким положением в обществе и каждый здоровался со мной весьма торжественно, тряс мне руку и несколько раз выразительно повторял: "Приветствую". Таких аристократов было много, и они придавали всей церемонии удивительную окраску. В пять часов мне пора было возвращаться домой пить чай; по пути я остановился на верхней площадке лестницы и посмотрел вниз, на огромный двор: он был набит битком, так что даже земля лишь изредка мелькала рыжими пятнами там, где веселые танцоры в своих неиссякаемых коленцах отпрыгивали в сторону. В толпе яркими пятнами мелькали цветастые одежды старейшин – будто по клумбе чернозема разбросаны пестрые цветы. К вечеру я оказался уже в самой гуще толпы и старался сделать несколько снимков, пока еще не совсем СТЕмнело. И тут ко мне вдруг протиснулась живописная фигура. Это был гонец от Фона, его развевающиеся одежды переливались алым, золотым и зеленым, а в руке он сжимал длинный кожаный хлыст. Он сообщил мне. что его прислал Фон и, если я вполне готов, он проводит меня к своему монарху на праздник сбора сухой травы. Я поспешно засунул в фотоаппарат новую пленку и стал пробираться за ним в толпе, с восхищением глядя, как легко он прокладывает себе путь в сплошной человеческой толще. Посланник Фона провел меня по всему огромному двору, вывел через ворота под аркой, потом по узкому проходу мы дошли до других ворот под аркой и наконец очутились в лабиринте крохотных двориков и переходов. Разобраться в них было невозможно, но мой провожатый был тут как рыба в воде: он ловко нырял и скользил в нужные проходы, через дворики, вверх и вниз по маленьким лестничкам, и наконец мы прошли под осыпающейся кирпичной аркой в длинный двор размером с четверть акра, огороженный высокой стеной из красного кирпича. В конце этого двора росло высокое дерево манго, вокруг его гладкого ствола возведен был круглый помост; на помосте стояло большое, обильно украшенное резьбой кресло, а на кресле восседал Фон Бафута.
Наряд его был столь ошеломляюще великолепен, что в первую минуту я его даже не узнал: небесно-голубое, очень красивого оттенка одеяние было расшито удивительными красными, желтыми и белыми узорами. На голове красовалась остроконечная красная фетровая шапочка, на которую нашили множество волосков из слоновьего хвоста. Издали казалось, что на голове у него конусообразный стог сена. В одной руке он держал мухобойку, деревянную ручку ее украшала тончайшая резьба, а сама кисточка – густой шелковистый пучок волос – сделана из длинного черно-белого хвоста гверецы. Но эту весьма внушительную картину несколько портили ноги Фона, которые покоились на огромном, уже пожелтевшем и почерневшем от старости бивне слона: они обуты были в очень остроносые пестрые туфли, из которых выглядывали желто-зеленые носки.
Фон пожал мне руку, задушевно осведомился о моем здоровье. Мне принесли кресло, и я уселся подле него. По сторонам двора разместились всевозможные советники, князья и их полуголые жены; все они сидели на корточках вдоль кирпичной стены ограды и пили вино из каких-то особенных фляжек: в сущности это были покрытые резьбой коровьи рога. На фоне красной кирпичной стены разноцветные одежды мужчин казались необычайной красоты гобеленом. Слева от кресла Фона высилась груда черных калебасов, заткнутых пучками зеленых листьев: они были наполнены мимбо, или пальмовым вином – любимым напитком камерунцев. Одна из жен Фона принесла стакан и мне, потом подняла калебас, вынула затычку и плеснула немножко вина и протянутую ладонь Фона. Тот задумчиво подержал напиток во рту, потом выплюнул и покачал головой. Отведал содержимое еще одного калебаса – с тем же успехом, потом испробовал еще два. Наконец попался калебас, вино в котором Фон нашел достойным себя и меня, и его жена наполнила мой стакан. Мимбо по виду напоминает сильно разбавленное водой молоко, а вкус у него мягкий, чуть кисловатый, как у лимонада, но все это коварнейший обман. По-настоящему хорошее мимбо кажется на вкус таким безобидным, что вводит в соблазн – пьешь еще и еще и вдруг обнаруживаешь, что это вовсе не такой невинный напиток, как казалось. Я пригубил, причмокнул от удовольствия и поздравил Фона с отличным качеством вина. Я заметил, что все советники и князья пили из коровьих рогов, заменявших им бокалы, а Фон поглощал вино из рога буйвола, прекрасно отшлифованного и украшенного превосходной резьбой. Мы просидели там до тех пор, пока почти совсем не стемнело, не переставая болтать, а калебасы с мимбо понемногу пустели.
Наконец Фон решил, что настала великая минута – пора угостить всю массу людей, которые сошлись на его зов. Мы встали и пошли по двору между двойными рядами низко кланявшихся подданных Фона; мужчины при этом размеренно били в ладоши, а женщины прикрывали рот ладонями, похлопывали себя по губам и оглашали воздух криками, похожими на гудки сирен, – а я-то по своему невежеству до сих пор полагал, что такие вопли издают только краснокожие индейцы! Мы проходили через всевозможные двери, переходы и крохотные дворики, а вся свита следовала за нами, все так же хлопая в ладоши и гудя. Когда мы вышли из-под арки в главный двор, толпа дружно выразила свое одобрение оглушительным ревом, все стали хлопать в ладоши и бить в барабаны. Под звуки шумных приветствий мы с Фоном прошли вдоль стены к тому месту, куда уже принесли и водрузили на разостланной шкуре леопарда трон Фона. Мы уселись, фон махнул рукой, и начался пир на весь мир.
Из-под арки потекла нескончаемая процессия молодых людей, совсем обнаженных, если не считать маленькой набедренной повязки; на лоснящихся мускулистых плечах они несли всевозможные угощения для подданных Фона. Тут были калебасы с пальмовым вином и пивом, огромные связки красноватых и золотисто-желтых бананов, туши больших тростниковых крыс, мангуст, летучих мышей, антилоп и обезьян, громадные куски питона – все это основательно прокопченное и насаженное на бамбуковые шесты. Были также сушеная рыба, сушеные креветки и свежие крабы, красный и зеленый перец, плоды манго и папайи, апельсины, ананасы, кокосовые орехи, маниока и сладкий картофель. Пока раздавали всю эту невообразимую массу снеди, Фон приветствовал старейшин. советников и князьков. Каждый подходил к нему, низко склонялся в поклоне и трижды ударял в ладоши. Фон в ответ коротко, царственно кивал, и подошедший, пятясь, удалялся. Если кто-либо хотел обратиться к монарху, он должен был говорить через сложенные лодочкой руки.
К этому времени я поглотил уже изрядное количество мимбо и преисполнился необычайного благодушия: то же самое, видимо, произошло и с Фоном. Он вдруг буркнул какой-то приказ, и к моему ужасу рядом с нами появился столик с двумя стаканами и бутылкой джина какой-то французской марки, о которой я прежде не слыхивал и впредь не жажду возобновлять это знакомство. Фон налил в стакан дюйма три джина и подал мне: я улыбнулся и постарался сделать вил, будто изрядная порция неразбавленного джина – именно то, о чем я мечтал. Я осторожно понюхал стакан – пахнет керосином лучшего сорта. Нет, с таким количеством чистого джина мне просто не справиться, и я попросил принести воды. Фон опять что-то рявкнул, и тут же прибежала одна из его жен; в руке он сжимала бутылку горькой настойки.
– Горькая! – гордо объявил Фон и плеснул в мой стакан две чайные ложки. – Ты любишь джин с горькая настойка?
– Да, – сказал я и через силу улыбнулся. – Обожаю джин с горькой настойкой.
Первый же глоток этого пойла едва не прожег мне горло насквозь: в жизни я не пил чистого спирта да еще с таким отвратительным привкусом. Даже Фон, которому, казалось, все было нипочем, после первого глотка как-то странно заморгал. Потом отчаянно закашлялся и повернулся ко мне, утирая слезящиеся глаза. – Очень крепкое, – заметил он.
Когда принесли наконец всю еду и разложили огромными грудами прямо перед нами, Фон призвал всех к молчанию и произнес перед собравшимися обитателями Бафута краткую речь: он рассказал им, кто я такой, зачем сюда приехал и что мне надо. Пол конец он объяснил, что они должны изловить для меня побольше всяких животных. Толпа выслушала эту речь в глубоком молчании, а когда Фон кончил говорить. все захлопали в ладоши и громко закричали нечто вроде "А-а-а!". Фон с довольным видом уселся в свое кресло и в порыве восторга разом отхлебнул полстакана джина с горькой настойкой. За этим опрометчивым поступком последовали пять минут, мучительные не только для него, но и для всех нас: он кашлял и корчился на своем троне, по лицу его ручьями текли слезы. Наконец он немного отдышался и сидел молча, глядя покрасневшими злыми глазами на свой стакан с джином. Потом отпил чуть-чуть, в раздумье подержал напиток во рту и доверительно наклонился ко мне.
– Этот джин, оно сильно крепкий, – хрипло шепнул он. – Мы отдавать этот крепкий питье всем наш маленький-маленький люди, а потом уйти в мой дом и выпить, а?
Я охотно согласился, что отдать джин князькам и советникам – маленьким-маленьким людям, как их называл Фон, – превосходная мысль.
Фон осторожно огляделся – не подслушивает ли нас кто-нибудь, но вокруг толпились всего каких-нибудь пять тысяч человек, и он решил, что совершенно спокойно может открыть мне свой секрет. Поэтому он еще раз наклонился ко мне и снова зашептал:
– Скоро мы идти в мой дом, – в его тоне послышалось неподдельное ликование, – и мы пить виски "Белая лошадь".
Потом откинулся в кресле, чтобы взглянуть, какое впечатление произвели на меня эти слова. Я закатил глаза и изо всех сил постарался сделать вид, что очень счастлив от одной мысли о таком угощении, а сам в ужасе подумал: виски после мимбо и джина – да что же это будет?! А Фон, очень довольный, стал подзывать к себе по одному своих "маленьких-маленьких" людей и выливал остатки джина в их "бокалы" из коровьего рога, еще наполовину полные мимбо. В жизни я не расставался со спиртным так охотно и радостно. Какие же надо иметь луженые желудки, чтобы выдержать и даже смаковать коктейль, составленный из этакого джина с мимбо! При одной мысли о нем меня начинало тошнить.
Осчастливив этой сомнительной милостью своих подчиненных, Фон поднялся на ноги и под рукоплескания, бой барабанов и клики, подобные воинственному кличу краснокожих индейцев, повел меня через путаную сеть перехода и двориков к себе; его собственная вилла затерялась – почти не разглядеть – среди травяных хижин его многочисленных жен, точно спичечная коробка в пчельнике. Мы вошли внутрь и очутились в просторной комнате с низким потолком; тут стояли шезлонги и большой стол, деревянный пол устилали прекрасные леопардовые шкуры и очень яркие плетеные из травы циновки – изделие местных искусников. Полагая, что он уже исполнил свой долг перед подданными, Фон растянулся в шезлонге.
Принесли "Белую лошадь", мой хозяин с удовольствием почмокал губами, когда раскупорили непочатую бутылку, и дал мне понять, что теперь, после того как скучные государственные обязанности позади, можно начать пить в свое удовольствие. Далее мы добрых два часа непрерывно пили и длинно, во всех подробностях обсуждали, с каким ружьем лучше всего охотиться на слона, из чего делается виски "Белая лошадь", почему я не бываю на обедах в Букингемском дворце и прочие волнующие темы. После двух часов такого времяпрепровождения ни вопросы Фона, ни мои ответы уже не звучали столь изысканно и связно, как нам бы хотелось, поэтому Фон призвал свой оркестр: видно, он полагал, что сладостная музыка сможет рассеять пагубное действие крепких напитков, но, увы, он ошибся. Музыканты явились во двор и долго пели и плясали за окнами, а Фон тем временем потребовал еще бутылку "Белой лошади" – надо же было отметить прибытие оркестра! Потом музыканты стали полукругом, на середину вышла женщина и принялась танцевать: она раскачивалась, шаркала ногами по земле и при этом пела песню, которая звучала пронзительно и скорбно. Слов я не понимал, но песня была на редкость печальная, и мы с Фоном оба очень расчувствовались.
Под конец Фон утер слезы и резко объявил оркестру, что желает послушать что-нибудь другое. Музыканты долго совещались и наконец разразились какой-то мелодией, в самом подходящем ритме для танца "конга". Музыка была такая живая и веселая, что настроение наше мигом поднялось; очень скоро я уже отбивал такт ногой, а Фон дирижировал оркестром, причем в руке у него все еще был зажат стакан "Белой лошади". Гостеприимство Фона разгорячило меня, да и музыка раззадорила, и в голову мне пришла отличная мысль.
– На днях ты показывал мне ваш национальный танец, верно? – сказал я Фону.
– Да, верно, – подтвердил он, стараясь подавить икоту.
– Ну вот. А хочешь, сегодня я научу тебя танцевать европейский танец?
– Ах, мой друг! – Фон просиял и обнял меня. – Да, да, отлично, учи меня. Пойдем, мы сейчас идти в дом танцев.
Мы шатаясь поднялись на ноги и побрели в его "дансинг". Впрочем, когда мы туда добрались, я увидел, что это усилие – мы прошли с полсотни шагов, а то больше! – сильно утомило моего спутника: совсем задохнувшись, он сразу рухнул на свой богато разукрашенный трон.
– Иди, сначала научи все маленькие-маленькие люди, – сказал он и замахал руками на толпу князьков и советников. – После и я танцевать тоже.
Я обозрел смущенно переминающихся с ноги на ногу советников, которых мне предстояло учить, и решил, что самые сложные па конги им сейчас не по силам. По правде говоря, я начинал думать, что сейчас эти па, пожалуй, не по силам и мне самому. Поэтому я решил: лучше удовольствуюсь тем, что покажу им только последнюю, заключительную часть танца, ту, где все танцующие выстраиваются в цепочку один за другим и ходят вокруг зала змейкой, как поведет тот, кто оказался первым. Весь зал замер, когда я предложил двадцати двум советникам подойти ко мне на середину зала, и наступила такая тишина, что слышно было, как шелестят на ходу шелковые одежды государственных мужей. Я установил их всех за мной так, чтобы каждый держался за талию стоящего впереди; потом кивнул оркестру, музыканты с жаром заиграли мелодию в ритме конги – и мы пустились в пляс. Перед тем я очень старательно объяснил моим ученикам, что им надлежит повторять каждое мое движение, и они это неуклонно выполняли. Однако очень скоро я обнаружил, что в винном погребе Фона утонули все мои познания о конге; лишь одно очень прочно сохранилось в памяти – что в какую-то минуту надо взбрыкнуть ногой, выбросить ее в сторону. И мы пошли кружить по залу; оркестр наяривал вовсю, а мы выделывали свое: шаг, два, три – ногу вбок, шаг, два, три – вбок! Мои ученики без особого труда повторяли это нехитрое движение, и так мы торжественно кружили по залу, и все их пышные одежды шелестели в лад. Я отсчитывал такт и в нужную минуту выкрикивал "брык!", чтобы им легче было сообразить, когда надо дрыгнуть ногой, но они, видимо, восприняли мой крик как непременную часть танца, нечто вроде обрядового припева, и хором начали выкрикивать это "брык" вместе со мной. Поглядели бы вы, что творилось с нашими многочисленными зрителями! Они вопили от восторга, а всевозможные члены свиты Фона, добрых четыре десятка его жен и несколько отпрысков постарше кинулись к нам, чтобы тоже потанцевать вместе с государственными деятелями, – и каждый новый танцор становился в хвост нашей колонны и подхватывал припев вместе со всеми,
– Раз, два, три, брык! – вопили советники.
– Раз, два, три – йя-а-а! – визжали жены.
– Раз, два, три, и-и-и! – пищали дети.
Разумеется, Фон никак не мог остаться в стороне от такого веселья. Он с трудом сполз с трона и, опираясь на двух человек, подстроился к концу колонны; его движения не совпадали с дружными движениями остальных, но веселья это ему ничуть не убавляло. Я все водил и водил их вокруг зала, пока у меня не закружилась голова и мне стало казаться, что стены и потолок вздрагивают в такт прыжкам и крикам. Тут я почувствовал, что мне не худо бы глотнуть свежего воздуха, и вывел всех во двор. Так мы и шли, длиннющей качающейся цепочкой, вверх и вниз по ступенькам, во дворы и из дворов, мимо незнакомых хижин – словом, всюду, где только можно было пройти. Оркестр, войдя в раж, не отставал – мы танцевали, а музыканты бежали за нами, обливаясь потом, но ни разу не сбились с ритма и не сфальшивили. Наконец скорее волею случая, чем сознательно, я привел своих учеников обратно в "дом танцев", и тут мы все, задыхаясь и смеясь, кучей повалились на пол. Фон еще по пути падал раза три, а теперь его довели до трона и усадили; он сиял и с трудом переводил дух.
– Ах, отличный какой танец! – воскликнул он. – Отлично, отлично!
– Тебе нравится? – пыхтя, еле выговорил я.
– Очень много нравится, – решительно провозгласил Фон. – У тебя есть большой сила: я никогда не видеть такой европейский танец.
Я ничуть не удивился: вряд ли кто из европейцев в Западной Африке тратит свой досуг на то, чтобы обучить местных князьков и их приближенных конге. Уж конечно, если бы кто-нибудь из них увидел меня за этим занятием, мне заявили бы, что я за полчаса нанес престижу белого человека больший урон, чем кто-либо за всю историю Западной Африки. Зато моя конга, видно, сильно укрепила мой престиж в глазах Фона и его двора.
– Раз, два, три, брык! – мечтательно бормотал Фон. – Отличный песня.
– Да, это совсем особенная песня, – сказал я.
– Да, правда? – сказал Фон, кивая головой. – Да, отличный.
Он в задумчивости посидел еще немного на своем троне; к тому времени оркестр снова заиграл и на середину зала вышли танцоры. Я уже чуть-чуть отдышался и стал даже гордиться собой, как вдруг Фон оживился и отдал какой-то приказ. От толпы танцующих отделилась девочка лет пятнадцати и подошла к помосту, где мы сидели. На ней была только крошечная набедренная повязка, так что ее прелести не оставляли никаких сомнений, пухлое умащенное тело лоснилось. Она бочком придвинулась к нам и застенчиво улыбнулась; Фон наклонился и схватил ее за руку. Одним ловким рывком он усадил ее ко мне на колени, и тут она и осталась сидеть, вздрагивая от смеха.
– Это для тебя, этот женщина, – сказал Фон и величественно повел огромной рукой. – Он хороший. Это мой дочь. Давай женись на ней.
Сказать, что я был потрясен, значит ничего не сказать: я просто оцепенел от ужаса. Мой хозяин уже пришел в то блаженное состояние, за которым обычно наступает крайняя воинственность, и я понимал, что отказываться надо как можно осторожнее и тактичнее, иначе я испорчу все, чего достиг за этот вечер. Я беспомощно оглядел зал и впервые за все время заметил, что очень многие в толпе вооружены копьями. Оркестр уже перестал играть и все выжидательно смотрели на меня. Фон тоже уставился на меня осоловевшими глазами. Я понятия не имел, вправду ли он предлагает мне эту девицу в жены или для пристойности обозначает этим словом нечто совсем другое. Что бы там ни было, надо как-то отказаться; не говоря уже ни о чем другом, девица была отнюдь не в моем вкусе. Я облизнул губы, откашлялся и сделал все, что мог: прежде всего я поблагодарил Фона за то, что он так любезно предложил мне свою хорошо промасленную дочь (она была такая увесистая, что у меня уже ныли колени), однако же, как мне известно, он отлично осведомлен о дурацких обычаях моих соотечественников и, следовательно, понимает, что англичанин при всем желании не может завести себе более одной жены. При этом моем замечании Фон рассудительно закивал. Поэтому, продолжал я, мне поневоле придется отклонить его в высшей степени лестное предложение – ведь у меня уже есть жена в Лондоне и будет незаконно и далеко не безопасно привезти туда с собой вторую. Конечно, не будь я женат, торопливо продолжал я, для меня не было бы большего счастья, чем принять его подарок, жениться на этой девушке и осесть в Бафуте до конца моих дней.
С великим облегчением услышал я гром рукоплесканий, раздавшихся, едва я окончил свою речь; только Фон чуть всплакнул, когда понял, что его прекрасной мечте не суждено сбыться. Пока все кричали и хлопали, я спустил с колен мою толстушку, легонько подшлепнул ее, и она, все еще хихикая, отправилась в зал танцевать. Ну, на сегодняшний вечер с меня хватит дипломатических переговоров, решил я и предложил разойтись по домам. Фон и его свита проводили меня на большой двор, и здесь Фон решительно потребовал, чтобы я позволил ему обхватить меня за талию и еще раз сплясал с ним конгу Даррела. Толпа немедленно увязалась за нами, и мы протанцевали вокруг площади, брыкаясь и крича так, что перепугали всех крыланов – они вылетели из листвы деревьев манго, – и все собаки на несколько миль вокруг залились отчаянным лаем. У подножия лестницы мы с Фоном прочувствованно распростились, и я еще постоял и поглядел, как все они, пошатываясь, выплясывали конгу на обратном пути через двор. Потом я наконец взобрался на свои семьдесят пять ступенек, мечтая, что сейчас улягусь в постель. Наверху меня взором, полным укоризны, встретил Бен с фонариком.
– Сэр, тут охотники пришел, – сказал он.
– Как, в такое время?! – спросил я с изумлением: шел уже четвертый час ночи.
– Да, сэр. Сказать ему, чтоб ушли?
– Они принесли что-нибудь? – с надеждой спросил я, и перед моим мысленным взором возникли некие редкостные экземпляры.
– Нет, сэр. Они хотел поговорить с маса.
– Ну ладно. Пусть войдут, – сказал я, падая в кресло.
Через несколько минут Бен ввел в комнату пятерых очень молодых и очень смущенных охотников, все они сжимали в руках копья. Охотники поклонились и вежливо сказали: "Добрый вечер". Выяснилось, что они тоже присутствовали на сегодняшнем празднике и слыхали речь Фона; живут они в деревне довольно далеко от Бафута и потому решили повидать меня, прежде чем возвращаться домой, и узнать поточнее, какие именно животные мне нужны. Я похвалил их за усердие, роздал им сигареты и принес книги и фотографии. Мы долго их разглядывали, и я рассказал охотникам, какие животные мне особенно нужны и сколько я за них буду платить. Они совсем было уже собрались уходить, как вдруг один заметил лежавший у меня на кровати рисунок, который я им не показывал.








