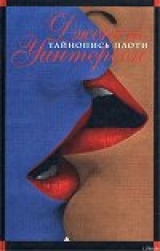
Текст книги "Тайнопись плоти"
Автор книги: Дженет Уинтерсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Уинтерсон Дженет
Тайнопись плоти
С любовью – Пегги Рейнольдс.
Благодарю за гостеприимство Дона и Руфь Ренделл, предоставивших мне место для работы, Филиппу Брюстер, так много сделавшую для выхода этой книги, и сотрудников издательства «Джонатан Кейп», усердно работавших над подготовкой издания.
Почему любовь должна измеряться утратой?
Дождя не было уже три месяца. Деревья исследуют недра, буравя сухой грунт остриями корней, чтобы найти и вскрыть хоть какую-нибудь водную артерию.
Виноградные грозди засохли прямо на лозах. То, что должно было быть полным и твердым, сопротивляться касанию, прежде чем отдаться губам, сморщилось и увяло. Раньше мне доставляло удовольствие перекатывать пальцами темно-синие виноградины, выдавливая себе на ладони пахнущую мускусом мякоть. Но в этом году коричневые шкурки не привлекают даже ос. Даже ос. Так было не всегда.
Мне вспоминается сентябрь: Голуби Алый Адмирал Желтый Колос Оранжевый Закат. Ты сказала: «Я тебя люблю». Интересно, почему самое банальное, что мы можем сказать друг другу, все равно очень хочется слышать? «Я тебя люблю» всегда цитата. Не ты первая сказала это, и не я, однако ты их произносишь, а я вслед за тобой, и мы говорим, как дикари, что выучили три эти слова и твердят их, словно молитву. Тогда они были молитвой и для меня, но сейчас больше нет никого на скале, вытесанной из моего тела.
Любовь требует выражения. Она не будет стоять тихо, ждать, не будет хорошо себя вести, не будет скромничать, мелькать поодаль, не шуметь, о нет. Она воздаст хвалы на языках, достигнет ноты столь высокой, что разобьет бокалы и расплещет то, что в них. Это вам не любовь к природе, это охота на крупную дичь. И дичь эта – вы сами. Будь она проклята, эта игра. И как можно выиграть, когда все меняется на ходу? Я назову себя Алисой, что играет в крокет, зажав под мышкой фламинго. В Стране чудес все хитрят, любовь – это и есть Страна чудес, не так ли? Любовью вращаются миры. Любовь слепа. Все, что вам нужно, это любовь. Однако никто не умирает от разбитого сердца. Ничего – переживешь. Все будет иначе, когда мы поженимся. Подумай о детях. Время лечит все. Ты до сих пор ждешь своего принца? Принцессу? Или может быть, целого выводка маленьких принцев и принцесс?
Все беды от клише. Точные чувства требуют точности выражения. А если я не испытываю ничего точного, любовь ли это вообще? Любовь вызывает такой страх, что хочется запихать ее в груду выброшенных на помойку розовых и пушистых игрушек, а себе послать стандартную открытку: «Поздравляем с помолвкой!» Нет, что это я, совсем ум за разум зашел, нет никакой помолвки. Я изо всех сил смотрю в другую сторону, чтобы любовь меня не заметила. Я соглашусь на плохой пересказ, на небрежный язык, на ненужные жесты. На просиженное кресло клише. Все правильно, миллионы задов сидели в нем до меня. Пружины разболтаны, ткань вонюча и привычна. Чего мне бояться? И мои дед с бабкой так делали: вот, видите – это он, в стоячем воротничке и клубном галстуке, а вот она – в белом муслиновом платье, немного щурится на жизнь, что протекает где-то внизу. Они так поступали, мои родители так поступали, почему бы и мне так не поступить, а? Вот я стою, раскинув руки в стороны – нет, я не удерживаю тебя, просто пытаюсь сохранить равновесие, когда бреду сомнамбулой к тому креслу. Как мы будем счастливы. Как все будут счастливы. И все они жили долго и счастливо.
Жаркое августовское воскресенье. Я шлепаю по мелководью, где мальки дразнят солнышко животиками. По берегам реки на подлинной зеленой травке яркими пятнами психоделической живописи разбросаны спортивные шорты из лайкры и гавайские рубашки, сделанные на Тайване. Обычный семейный портрет – так любят позировать все семьи: брюхо папаши подпирает газету, мамаша скорчилась над термосом. Детки, худющие, как палки на прибрежных скалах, и обгоревшие, как сами скалы. Увидев, как ты входишь в воду, мамаша вздымает телеса с полосатого пляжного стульчика:
– Бесстыжая! Здесь же дети!
Ты смеешься и машешь рукой, твое тело искрится под водой. Чистый изумрудный поток повторяет твои формы, поддерживает тебя, река хранит тебе верность. Ты переворачиваешься на спину, твои соски скользят на поверхности, а река украсила твои волосы бусами. Ты вся молочно-белая, только волосы, рыжие волосы вьются по бокам.
– Я сейчас позову мужа! Джордж, иди сюда! Сюда, Джордж!
– Ты что, не видишь? Я смотрю телевизор! – не оборачиваясь бурчит тот.
Ты поднимаешься из реки, и вода стекает по твоему телу серебристыми ручьями. Забыв обо всем на свете, я иду к тебе прямо по воде. Целую тебя, ты обнимаешь меня – прохладные руки на моей обожженной спине. Ты говоришь:
– Здесь нет никого, кроме нас с тобой.
Я оглядываюсь: вокруг пустые берега.
Ты не хотела, чтобы мы бросались теми словами, что вскоре стали нашим личным алтарем. До встречи с тобой мне доводилось говорить их тысячу раз, бросать монетками в колодец желаний, надеясь, что они помогут мне стать собой. Слова слетали с моих губ по всякому поводу – но не тебе. Как незабудки девушкам, которые сами должны понимать, что к чему. Кнут и пряник. Конечно, мне противно думать о себе как о человеке неискреннем, однако, если я говорю, что люблю, но вовсе этого не чувствую, то как еще мне себя называть? Хочу ли я лелеять тебя, обожать тебя, уступать тебе, становиться ради тебя лучше? Хочу ли я, глядя на тебя, видеть тебя всегда? Всегда говорить тебе правду? И если любовь складывается не из этого, то из чего тогда?
Август. Мы спорим. Ты хочешь, чтоб в любви всегда так было, правда? 92 градуса по Фаренгейту в тени. Так интенсивно, так жарко, и чтобы солнце своей дисковой пилой вгрызалось в твое тело. Может, все дело в том, что ты из Австралии?
Ты не отвечаешь, просто держишься за мою горячую руку своими прохладными пальцами, а сама шагаешь дальше в своем шелке и льне. Я чувствую себя глупо. На мне шорты с татуировкой «РЕЦИКЛ» на одной половине. Смутно помню, была у меня когда-то подружка, которая считала, что разгуливать перед памятниками в шортах неприлично. Перед нашими свиданиями мне приходилось пристегивать свой велик на парковке Чаринг-Кросса и переодеваться в общественном туалете, прежде чем встретиться с ней у колонны Нельсона.
– К чему? – как-то пришло мне в голову. – Ведь у него всего один глаз.
– Зато у меня два, – поцеловала она меня в ответ. Глупо подкреплять нелогичность поцелуем, однако и я поступаю точно также.
Ты по-прежнему не отвечаешь. Почему людям так нужны ответы? Отчасти потому, как мне кажется, что без ответа, неважно какого, вопрос вскоре начинает звучать ужасно нелепо. Попробуйте, стоя перед классом, спросить, какой город – столица Канады. Глаза смотрят на вас, некоторые равнодушны, некоторые откровенно враждебны, а некоторые и вообще не смотрят. Вы снова задаете тот же вопрос. «Какой город – столица Канады?» И ожидая в молчании ответа, вы чувствуете себя совершенной жертвой, мало того – сами начинаете сомневаться. Какой город на самом деле – столица Канады? Оттава? Почему Оттава, а не Монреаль? Монреаль гораздо симпатичнее, там готовят хороший кофе-эспрессо, к тому же у вас там живет друг. Да и вообще, какая разница, что у них за столица, все равно они ее, возможно, сменят в следующем году. Может, Глория сегодня придет вечером в бассейн. И так далее.
А вопросы посерьезнее, те, на которых не бывает одного ответа, те, на которых вообще не бывает ответов – в молчании с ними справиться сложнее. Раз высказанные, они не испаряются, не становятся мечтательной дымкой. Раз высказанные, они приобретают форму и плотность, цепляются за ноги на ступеньках, пробуждают ночью ото сна. Черная дыра поглощает все, что ее окружает, и даже свету от нее не спастись. А может, лучше вовсе ничего не спрашивать? Лучше быть довольной свиньей, чем неудовлетворенным Сократом? Но на сельскохозяйственных фермах со свиньям поступают хуже, чем с философами, поэтому я рискну.
Мы вернулись в снятую комнату и вдвоем легли на одну из односпальных кроватей. Во всех таких комнатах от Брайтона до Бангкока покрывала по цвету не соответствуют ковру, а полотенца слишком тонкие. Я подкладываю одно под тебя, чтобы не запачкать простыню. У тебя течет кровь.
Идея снять комнату принадлежала тебе, мы хотели быть вместе постоянно, а не только за обедом и ужином, не только за чаем в библиотеке. Вы тогда еще не развелись. Хотя мне угрызения совести не свойственны, опыт заставил меня испытать их в том, что касается благословенных союзов. Раньше мне казалось, что современный брак – зеркальное стекло витрины, что так и просит кирпича. Показуха, самодовольство, подхалимаж, скупость, себялюбие. Вот двигаются по улице две супружеские пары – мужчины вместе впереди, женщины в хвосте, ни дать ни взять цирковая упряжка. Мужчины подносят от стойки джин с тоником, женщины удаляются в туалет со своими ридикюлями. Так быть не должно, но чаще всего так есть. Мне пришлось повидать много браков. Нет, не как главному действующему лицу – всего лишь с галерки. И мне стало ясно, что всегда повторяется одна и та же история. Примерно так:
Интерьер. После полудня.
Спальня. Занавески полураздвинуты. Разметанные простыни. На кровати, глядя в потолок, лежит нагая женщина определенного возраста. Она хочет что-то сказать. Ей трудно. Из кассетника доносится голос Эллы Фицджеральд: «Леди поет блюз».
Нагая женщина:
Я хотела сказать тебе, что обычно этим не занимаюсь. Наверное, это называется адюльтер. (Смеется.) Никогда не занималась этим прежде. И не знаю, смогу ли еще раз решиться. Ну, с кем-то еще, я не имею в виду тебя. О, с тобой я хочу заниматься этим снова и снова, опять и опять. (Перекатывается на живот.) Понимаешь, я люблю своего мужа. Он совсем не похож на других мужчин. Иначе я не вышла бы за него. Он другой, у нас с ним много общего. Мы с ним разговариваем.
Кто-то проводит пальцем по ее губам. Лежа сверху, пристально смотрит на нее, не произнося ни слова.
Нагая:
Мне кажется, если бы я не встретила тебя, тогда бы мне следовало искать что-нибудь другое. Например, могла бы получить степень в Открытом университете, но я не никогда не думала об этом. Не хочу причинять ему лишнего беспокойства. Вот почему я не могу ему ни в чем признаться и почему нам приходится таиться. Я не хочу быть жестокой и эгоистичной. Ты ведь понимаешь, правда?
Кто-то встает и направляется в туалет. Женщина приподнимается на локтях и продолжает монолог, повернувшись к ванной.
Нагая:
Не задерживайся, любовь моя! (Пауза.) Я пыталась выбросить тебя из головы, но мое тело сильнее меня. Я думаю о тебе день и ночь. Когда я читаю, я читаю тебя. Когда я ем, я ем тебя. Когда он прикасается ко мне, я думаю о тебе. У нас счастливый брак, так почему же я без конца думаю о твоем теле и вижу перед собой твое лицо? Что ты со мной делаешь?
Камера показывает ванную. В ней кто-то плачет. Конец сцены.
Конечно, было бы слишком лестно думать, что это вы и только вы могли вызвать такое. Что без вас брак при последнем издыхании, каким бы жалким ни был, если б и не процветал на такой скудной диете, то по крайней мере бы не увял окончательно. Он давно уже испустил дух, скукожился и никому не нужен, осталась одна раковина, которую покинули оба. Правда, есть люди, которые коллекционируют раковины, тратят на них деньги, выставляют в витринах. Другие ими любуются. Мне доводилось видеть довольно знаменитые раковины, а множеству других дуть в полость. Иногда, после меня на раковине остаются заметные трещины, и владельцы просто разворачивают ее так, чтобы дефект скрывался в тени.
Видите? Даже здесь, в укромном уголке вдали от всех, мой язык идет на поводу у обмана. Нет, моей вины во всем этом нет: не я срываю замки, не я вламываюсь в дверь, не я беру чужое. Двери уже были открыты. Конечно, не она сама их открывала. На это имелся дворецкий по имени Скука. Она говорила: «Скука, устрой что-нибудь веселое». Он отвечал: «Будет сделано, мадам», и натягивал белые перчатки, чтобы мне не удалось опознать его, когда он откроет дверь в мое сердце, чтобы мне казалось, будто имя его Любовь.
Вы думаете я пытаюсь избежать ответственности? Нет, я отдаю себе отчет и в прежних, и в нынешних своих поступках. Никогда не приходило мне в голову пойти к церковному алтарю, в отдел регистрации, клясться в любви до гроба. Мне не доставало смелости. Не доставало решимости вымолвить: «Пускай нас свяжет это кольцо». Сказать: «Я обожаю тебя всем своим телом». Да и как можно сказать такое и без зазрения совести трахать кого-то другого? Если вы дали такие клятвы и нарушили их, разве не следует и заявить об этом в открытую?
Удивительно, что брак, дело столь публичное и доступное взорам, порождает и самую тайную из связей – измену.
У меня была одна любовница, ее звали Вирсавия. В браке она была счастлива. С нею мне стало понятно, что такое плавать на подводной лодке. Мы не могли встречаться с нашими друзьями, по крайней мере она не звала своих, поскольку они были и его друзьями тоже. Моим тоже ничего нельзя было говорить – об этом просила она. Мы медленно погружались все глубже в наш ограниченный любовью, выстеленный свинцом гроб. Говорить правду, утверждала она, это роскошь, которую мы не можем себе позволить, и ложь превращалась в добродетельную экономию, который мы придерживались. Говорить правду было больно, поэтому ложь стала подвигом. Два года меня не покидала надежда, что она в конце концов все-таки, все-таки решится от него уйти, а потом у меня вырвалось:
– Я пойду к нему и все расскажу!
В ответ она заявила, что это «чудовищно!». Чудовищно будет сказать ему такое. Чудовищно! Мне вспомнился прикованный к скале Калибан: «Заешь краснуха вас за то, что говорю я».
После, когда удалось вырваться из этого ее мирка двоемыслия и масонских знаков, мне пришлось научиться воровать. До того не было нужды красть у нее что бы то ни было – она сама выкладывала свой товар на одеяло и просила выбирать. (В скобках указывалась цена.) Когда же мы расстались, мне захотелось получить от нее свои письма. Но она сказала, что хотя авторское право остается за мной, письма эти – ее собственность. То же самое она говорила и о моем теле. Наверное, это некрасиво – залезть в ее чулан и забрать свое. Найти письма не составило труда – она сложила их в большую мягкую сумку и надписала на бирке «Оксфама», что это следует возвратить мне в случае ее смерти. Как трогательно: он безусловно должен был прочесть письма, но ее в тот момент уже не будет, чтобы испытать на себе последствия. А мне бы захотелось их читать? Наверное. Как трогательно.
Пока костер, разожженный в саду, пожирал один за другим листки моих писем, меня терзали мысли о том, как легко сжечь прошлое и как трудно его забыть.
Вы уже поняли, что со мной так бывало снова и снова? Наверное, думаете, мне постоянно приходится залезать в чуланы замужних женщин? На высоте у меня голова не кружится – это в глубинах мне становится плохо. Странно, что я вообще туда попадаю.
Мы лежали на постели в снятой комнате, и ты брала из моих рук сливы, что переливались всеми оттенками синяка. Природа изобильна, но переменчива. Один год морит голодом, а другой убивает изобилием любви. Тогда ветви деревьев клонились от тяжести плодов до земли, а ныне они голые плачут на ветру. Ни единой спелой сливы, хотя сейчас август. Не ошибаюсь ли я в этой сомнительной хронологии? Может, следует припомнить глаза Эммы Бовари или платье Джейн Эйр? Не знаю. Сейчас я в другой комнате и пытаюсь понять, с какого момента все пошло не так. Где мы сбились с курса? Ты уплыла, а я все путаюсь в своих навигационных картах.
Ладно, тем не менее продолжу. Там были сливы, и ты брала их у меня из рук. Ты сказала:
– Почему я тебя так пугаю?
Пугаешь? Да, пугаешь, это правда. Ты ведешь себя так, будто мы вместе навсегда. Ты ведешь себя так, будто время бесконечно, и наше счастье никогда не кончится. Но как я могу в это поверить? Мой опыт подсказывает, что все хорошее быстро кончается. То есть, теоретически ты, конечно, права, и квантовая физика права, и религия права, и романтики тоже правы. Время бесконечно. Но на самом деле мы всегда смотрим на часы. И если я подхлестываю нашу связь, то потому, что боюсь за нее. Боюсь, где-то есть закрытая для меня дверь, в любую минуту она может открыться, и ты исчезнешь из моей жизни. И что потом? Простукивать стены как инквизиции в поисках сбежавшего святого? Где я найду подземный тайный ход к тебе? Я останусь взаперти в этих четырех стенах.
Ты сказала:
– Я собираюсь уйти.
О да, ты вновь вернешься в свою раковину. А я останусь в дураках. И ведь надо же было столько раз повторять себе: не влипай!
Ты сказала:
– Перед тем как мы ушли сегодня, я сказала ему, что даже если ты и передумаешь, не передумаю я.
Это не тот сценарий. Здесь мне следует преисполниться праведного гнева. Здесь ты должна бы залиться слезами и сказать, как тяжело тебе ему признаться, и что же тебе делать, что же тебе делать, и что я, конечно, тебя возненавижу за это, да, ты знаешь, что я тебя буду проклинать, и так далее, и ни одного вопроса ко мне в этом монологе, поскольку дело уже решенное.
Но ты смотрела на меня, как Бог смотрел когда-то на Адама – с любовью и гордостью, и от этого взгляда меня охватила растерянность. Захотелось немедленно бежать и найти фиговый листок, чтобы прикрыться. Стыд и срам – не подготовиться к такому, не справиться с ним.
Ты сказала:
– Я люблю тебя, из-за этого вся остальная моя жизнь кажется ложью.
Разве такое возможно? Возможно ли, что она сказала такую простую и очевидную вещь? Или это я терплю кораблекрушение и выуживаю из моря пустые бутылки, чтобы прочесть записки, которых в них нет? Но ты же здесь, ты рядом, ты – как добрый джинн, ты вырастаешь в десять раз, высишься надо мной, руки твои подобны отрогам гор. Твои рыжие волосы пылают огнем, и ты говоришь:
– Загадай три желания, и все исполнится. Загадай три сотни желаний, и я почту за честь выполнить любое.
Чем мы занимались в тот вечер? Прогулялись, не разжимая объятий, в кафе, которое было нашей церковью, и съели по греческому салату, у которого был вкус свадебного пирога. Встретили по дороге кота и уполномочили его быть нашим свидетелем, а свадебными букетами стал кукушкин цвет по берегам канала. К нам пришло больше двух тысяч гостей, но в основном – мошкара, и мы чувствовали себя такими старыми, что не было жалко раздаривать им себя. Заниматься любовью под луной хорошо лишь в песнях кантри или в кино, а на деле от этого бывает только зуд.
У меня как-то была подружка, которая просто торчала от звездных ночей. Она считала, что на кроватях спят только в больницах. Всякое место, не покрытое ничем мягким, казалось ей пригодным для секса. При виде пуховика она немедленно включала телевизор. Мне приходилось с этим мириться, где только можно – в кемпингах и в каноэ, в вагонах «Бритиш Рейл» и в салоне «Аэрофлота». Пришлось купить сначала футон, затем – гимнастический мат, постелить на пол толстенный ковер, носить с собой клетчатый плед и уподобиться спятившему члену партии шотландских националистов. В конце концов, когда мне в пятый раз пришлось посетить врача, чтобы удалить кое с каких мест колючки чертополоха, он заметил:
– Любовь, конечно, вещь прекрасная, но знаете, для таких, как вы, есть специальные клиники.
Мне вовсе не улыбалось заиметь в своей медицинской карточке запись «склонности к извращениям», а кроме того, романтика романтикой, но некоторые унижения – это чересчур. Так что мы сказали друг другу: «Прощай», и хотя я скучаю по некоторым вещам, вспоминая о ней, мне все же приятно прогуливаться на природе, не ожидая никаких неприятностей от кустарника или придорожных зарослей.
Луиза, на той узкой кровати, на тех ярких простынях мной овладело страстное желание разведать тебя, как охотник за сокровищами разведывает маршрут. Мне хотелось познать и освоить тебя, и ты бы перекроила меня по своему желанию. Мы пересечем границы друг друга и превратимся в единую страну. Зачерпни руками с моей тучной нивы, пусть плоды мои будут сладкими для тебя.
Июнь. Самый влажный июнь на моей памяти. Мы занимались любовью каждый день. В наслаждении нашем мы были жизнерадостны, как жеребята, похотливы, как кролики, невинны, как голуби. Мы не думали об этом, да у нас и не было на это времени. Мы использовали все время, что было в нашем распоряжении. Те краткие дни и мимолетные часы были нашим маленьким приношением божеству, которого не умилостивить сожжением плоти. Мы поглощали друг друга и не могли насытиться. Были мгновения отдыха, моменты спокойствия, словно гладь искусственного озера, но за спинами у нас всегда рокотала новая приливная волна.
Есть люди, полагающие, что секс не важен в отношениях. Дружбы и умения ладить друг с другом хватит на много лет. Безусловно, они верят в то, что говорят, но истинно ли это? Передо мной тоже вставал этот вопрос. Да и кто не признал бы его истинным после того, как много лет играл Лотарио и в конце концов обнаружил, что истратил все деньги со счета и остался лишь с несколькими пожелтевшими любовными письмами, как долговыми расписками? До смерти заезжены свечи и шампанское, букеты роз, завтраки на рассвете, трансатлантические телефонные звонки и внезапные перелеты. Все это казалось мне необходимым, чтобы избегнуть какао перед сном и грелок в постель. Обжигающее пламя представлялось мне более желанным, чем центральное отопление. Но за этим таилась ловушка клише: оказалось, что мои излишества ничем не отличаются от украшенных розанами дверей моих предков. Совершенство мне представлялось непрерывным оргазмом, без сна, без отдыха. Бесконечный экстаз. Меня засосало в помойку любовного романа. Драйва, конечно, в нем будет побольше – мне всегда больше нравились машины спортивного типа, – но нельзя же постоянно выжимать сцепление из реальной жизни. Все кончается тем, что вас заарканивает какая-нибудь домашняя девочка. Так все и было.
У меня была когда-то подружка-голландка Инга, и роман наш уже заканчивался последними бурными спазмами. Она была убежденным романтиком и анархофеминисткой при том. Ей было трудно, ведь при таком сочетании невозможно взрывать красивые здания. С одной стороны, она верила, что Эйфелева башня отвратительный символ диктатуры фаллоса, но когда ее руководство приказывало взорвать лифт, чтобы никто не мог непроизвольно измерять эту гигантскую эрекцию, у Инги перед глазами вставали юные романтики, с высоты любующиеся Парижем и распечатывающие радиограммы со словами «Je t'aime».[2]2
Я тебя люблю (фр.)
[Закрыть]
Мы пошли с ней в Лувр на выставку Ренуара. Инга надела свою вязаную шапочку, которую обычно носила на боевые задания, и сапоги, чтобы ее не приняли за туристку. То, что пришлось платить за билеты, она оправдывала тем, что проводит «политическое исследование».
– Только глянь на этих ню! – тыкала меня в бок она. По правде сказать, совет был излишним. – Сплошь голые тела, униженные, выставленные на всеобщее обозрение. И как ты думаешь, сколько за это получали несчастные модели? Едва ли им хватало на кусок хлеба. Сорвать бы их со стен – и можно идти в тюрьму с криками «Vive la resistance!»[3]3
Да здравствует сопротивление! (фр.)
[Закрыть]
Ренуаровские ню – не самые утонченные на свете, но несмотря на это когда мы подошли к «Булочнице», Инга рыдала.
– Ненавижу все это, потому что оно меня трогает!
Мне не хотелось говорить, что вот так и рождаются тираны, пришлось ограничиться замечанием:
– Но ведь это не художник, а всего лишь краска. Забудь про Ренуара, думай только о картине.
Она ответила:
– Разве ты не знаешь, что Ренуар писал все это своим членом?
– Еще бы. Чем же еще он мог писать? Когда он умер, у него между ног нашли только засохшую кисточку.
– Врешь, наверное?
Вру?
В конечном итоге мы разрешили Ингину эстетическую дилемму, подложив «семтекс» в строго отобранные общественные писсуары. Чудовищно уродливые бетонные конструкции – явные служители пениса. Правда, она говорила, что я не совсем гожусь для борьбы за новый матриархат, потому что испытываю УГРЫЗЕНИЯ. Это мой смертный грех. Тем не менее, нас разлучил не терроризм, а эти дурацкие голуби…
Моя работа заключалась в том, чтобы войти в писсуар с Ингиным чулком на голове. Само по себе это не должно было привлекать особого внимания – в мужских туалетах царит дух свободомыслия. Однако затем в мои задачи входило предупредить находившихся там парней, что если они сейчас же не отвалят, их яйца полетят по закоулочкам. Чаще всего в писсуарах оказывалось человек пять стояли, держа в руках свои причиндалы, и пялились на побуревшую раковину, как на Святой Грааль. Интересно, почему мужчины так любят все делать хором? Мне нравилось цитировать Ингу: «Этот туалет – символ патриархата, он должен быть разрушен», а затем добавлять от себя: «Моя подружка прямо сейчас поджигает бикфордов шнур. Не могли бы вы закончить свои дела снаружи?»
Что бы сделали вы в таких обстоятельствах? Разве нормальному мужику мало угрозы кастрации со смертельным исходом, чтобы отряхнуть член и делать ноги? А эти никуда не бежали. Все время повторялось одно и то же. Они лишь высокомерно смахивали последние капли и продолжали обсуждать ставки на бегах. Я человек мягкий, грубостей не люблю, но на подобные случаи у меня имелось оружие.
Пистолет извлекался из-за пояса шорт «РЕЦИКЛ» (да, они служили мне долго). Дуло, наведенное на ближайшую висюльку, заставляло ее обладателя поторопиться, и он говорил что-нибудь типа: «Ты в своем уме или как?» – однако быстро застегивал молнию и спешил удалиться под мои выкрики.
– Руки вверх, мальчики! Не трогай его – на ветерке быстро обсохнет.
В этот момент раздавались первые такты «Странников в ночи». Это был наш с Ингой условный сигнал, означавший, что до взрыва осталось пять минут, готовы клиенты или нет. Следовало как можно скорей выгнать упиравшихся Джонов-Томасов и клеить ноги. А догнав передвижную закусочную на колесах, которую Инга использовала как наше укрытие, протиснуться внутрь, устроиться рядом с ней – и тут уж можно было обернуться назад и выглянуть из-за булочек. Отличный взрыв. Просто классный, жалко даже тратить его на этих недомерков. Мы с нею чувствовали себя, будто на краю света – одинокие террористы, ведущие справедливую войну за более совершенное общество. Мне казалось, что я люблю ее. А потом случилась эта нелепая история с голубями.
Инга запрещала мне звонить ей по телефону. Считала, что телефоном пользуются только секретарши, то есть женщины, лишенные социального статуса. Прекрасно, тогда будем переписываться. Однако оказалось, что почтовой службой заправляют деспоты, использующие и эксплуатирующие труд бедняков, не объединенных в профсоюзы. Что было делать? Мне вовсе не улыбалось жить в Голландии. Она не хотела жить в Лондоне. Как нам поддерживать связь?
Голуби, сказала она.
Вот в результате чего мне пришлось снять мансарду в Женском институте Пимлико. Меня не интересовала ни их кампания против ядовитых аэрозолей, ни то, что они пекут мерзкие кексики. Меня заботило только то, что чердак их института выходит точно в сторону Амстердама.
Здесь можете усомниться в правдивости моего рассказа. Можете спросить, на кой черт мне сдалась Инга, когда существуют бары для одиноких? Ответ один: ее грудь.
Не выпяченные вперед груди, что женщины носят, как эполеты – свидетельство их высокого ранга. Но и не объекты подростковых фантазий бабников. Округлости правильной формы повидали лучшие дни и уже начали уступать силе земного притяжения. У Инги была смуглая кожа, вокруг сосков – еще потемней, сами же соски выглядели почти черными. «Мои сестрички-цыганки», вертелось у меня на языке при виде их, но, разумеется, нечего было и думать произнести это вслух. Мое преклонение перед Ингиной грудью было простым и недвусмысленным, тут не было ни замены матери, ни последствий родовой травмы: мне она действительно нравилась. Фрейд не во всем прав. Иногда грудь это просто грудь это просто грудь.
Полдюжины раз моя рука поднимала телефонную трубку и шесть раз опускала ее обратно. Скорее всего, она не ответит. Она бы давно телефон вообще отключила, если б не звонки матери из Роттердама. Инга никогда не объясняла мне, как она отличает звонки матери от звонков секретарш. И откуда она сможет узнать, что ей звонит секретарша, а не я, к примеру? Мне так хотелось с ней поговорить.
Мои голуби – Адам, Ева и Поцелуйчик, – не смогли долететь до Голландии. Ева добралась до Фолкстоуна, Адам выбыл из соревнования и поселился на Трафальгарской площади – еще одна победа Нельсона. Поцелуйчик же боялся высоты, а это для птицы большой недостаток, но Женский институт забрал его к себе как талисман и окрестил его Боадицеей. Если он не умер, то так там и живет. Не знаю, что случилось с Ингиными птицами. Ко мне они так и не прилетели.
Потом мы познакомились с Жаклин.
Мне надо было настелить ковровое покрытие в новой квартире, и пара друзей пришли мне помочь. И привели с собой Жаклин. Одному она была любовницей, а наперсницей служила обоим. Эдакая домашняя киска. Она продавала секс и свои симпатии по 50 фунтов за уикэнд плюс полноценный воскресный обед. Несколько грубовато-прямолинейно, но цивилизованно.
У меня в тот момент были новая квартира и надежда начать новую жизнь после одного гнусного романа, от которого у меня развился триппер. Нет-нет, с моими органами все в норме – то был душевный триппер. И сердце в то время мне следовало держать при себе, чтобы никого не заразить. Новая квартира была просторная и запущенная, и мне казалось, что, приведя в порядок ее, я приведу в порядок и себя. Та, что заразила меня, осталась с мужем в прекрасно обставленном доме, однако отстегнула мне 10 000 фунтов под видом финансовой помощи. Она это представила, как «даю взаймы», но для меня прозвучало, как «кровавые деньги». Она давала мне отступного. Как бы мне хотелось никогда в жизни с ней больше не встречаться. К несчастью, она также была моим зубным врачом.
А Жаклин работала в зоопарке. Занималась пушистыми зверюшками, которым не нравятся посетители. У тех, кто платит по пять фунтов за вход, не хватает терпения дожидаться, пока пушистые зверюшки не перестанут их бояться и вылезут из укрытия. Жаклин должна была делать так, чтобы все снова лучилось радостью. Она была добра с родителями, добра с детьми, добра с животными, добра со всеми, кому не по себе. Она была добра со мной.
Когда она появилась, одетая модно, но не вызывающе, подкрашенная, но почти незаметно, и заговорила ровным монотонным голосом, мне подумалось, что с такой женщиной, да еще в таких нелепых очках, просто не о чем говорить. После Инги, после краткого, но бурного рецидива страсти к дантистке Вирсавии, мне и в голову не приходило, что кто-то может мне понравиться. И уж менее всего-женщина, чьи волосы подверглись издевательствам парикмахера. Ей можно только поручить заваривать чай, а я тем временем буду острить со старыми друзьями по поводу разбитых сердец, а потом вы втроем с сознанием исполненного долга мирно отправитесь по домам, а я открою банку чечевицы и послушаю радиопередачу «Наука сегодня».








