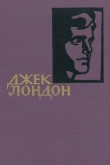Текст книги "Любовь к жизни. Рассказы"
Автор книги: Джек Лондон
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
– Дэвид! Идем со мной. Я теперь достаточно богата, нам не надо будет ни о чем заботиться… Идем же, Дэвид.
Она стала оглядываться.
– У нас будет средств более чем достаточно, у нас не будет никаких забот, – наша единственная забота будет заключаться в том, чтобы как можно больше наслаждения взять от жизни. Идем!..
Последние слова она произнесла уже в его объятиях. Она вся дрожала от безграничной любви к нему, а он, забывшись, крепко прижимал ее к себе.
Сквозь толстые стены хижины доносились в комнату крики Винапи, разнимавшей сцепившихся собак. Голос Винапи и глухое ворчание собак напомнили Дэвиду другую картину. Он вдруг увидел себя в лесу, в схватке с огромным медведем. Вместе с ревом страшного зверя смешались остервенелый лай собак и точно такие же, как теперь, крики Винапи, натравливавшей собак на медведя. Он сам почти на краю смерти… Едва-едва переводит дыхание… Сердце бьется со страшной силой… В двух-трех шагах от него, в предсмертных муках, с распоротыми животами, с переломанными позвонками бьются и жалобно воют собаки… Девственную белизну снега осквернили ярко-красные потоки смешавшейся крови человека и животных… Но всего ярче ему в эту минуту представляется сама Винапи, в каком-то безумном опьянении бьющая медведя огромным охотничьим ножом.
От этой картины холодный пот выступил на его лбу… Он освободился из объятий Карины и отступил от нее на несколько шагов.
А она не могла точно определить, что именно произошло с ним, но ее изощренный женский инстинкт тотчас же подсказал ей, что Дэвид уходит, навсегда уходит от нее. Она воскликнула:
– Дэвид… Дэвид, я не уйду от вас, я не оставлю вас. Хорошо, вы не хотите уехать отсюда, мы останемся здесь… Я останусь здесь и буду жить вместе с вами. Зачем мне весь остальной мир, раз вас там нет? Я останусь как ваша жена. Я буду готовить вам пищу, кормить ваших собак, повсюду сопровождать вас… Я способна на все, я могу грести… Уверяю вас, что я очень сильная.
Он прекрасно знал это, знал в то время, как, не отрывая от нее взгляда, отстранялся от нее. Его лицо побледнело и приняло холодное, жесткое выражение.
– Я сейчас расплачусь с Пьером, и пусть он убирается отсюда вместе с лодочниками… Я же останусь здесь с вами. Ничто не в состоянии испугать меня. С вами я готова идти хоть на край света. Послушайте меня, Дэйв… Я вполне согласна с вами в том, что в прошлом я допустила страшную ошибку; но дайте же мне возможность теперь исправить ее. Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы искупить свой тяжкий грех. Очень может быть, что тогда я не совсем понимала, что такое любовь, позвольте же мне теперь показать вам, насколько я выросла в этом отношении…
Она зарыдала и, упав на пол, обняла колени любимого человека.
– Хоть на секунду вдумайтесь в мое положение и пожалейте меня. Как я провела эти годы! Сколько я выстрадала, сколько перенесла! Вы не поверили бы, если бы я все рассказала вам.
Он склонился и поднял ее с земли.
– Выслушайте, Карина, внимательно то, что я скажу вам, – произнес он, открывая дверь и помогая Карине выйти на свежий воздух. – Все это невозможно. Мы не смеем думать только о себе, и поэтому вам необходимо уехать, и уехать как можно скорее. От души желаю вам счастливой дороги. Не скрою от вас, что переправа через Шестидесятую Милю сопряжена с очень большими трудностями, но у вас прекраснейшие на Юконе лодочники, с которыми вам нечего бояться. Попрощаемся, Карина.
Она уже овладела собой и смотрела на Дэвида без всякой надежды в глазах.
– Но если Винапи… – Ее голос дрогнул, и она отказалась от последней попытки.
Он понял не высказанную ею мысль и ответил:
– Даже и в таком случае.
Пораженная его странным тоном, она едва слышно прошептала:
– Это положительно непостижимо… Невероятно. Но не будем больше об этом говорить. Поцелуйте меня, – сказала она еще тише и подошла к нему ближе.
Затем повернулась и ушла.
– Мы сейчас снимаемся, – сказала она, обращаясь к Пьеру Фонтэну, который в ожидании своей госпожи не спал. – Мы уезжаем.
Его зоркие глаза тотчас же заметили выражение горя на ее лице, но все же он сделал самый невинный вид. Создавалось впечатление, точно он не сомневался, что именно такое распоряжение последует из уст миссис Сейзер.
– Oui, madame, – согласился он. – А какой дорогой мы поедем? На Даусон, что ли?
– Нет! – очень спокойно ответила она. – Мы поедем не на Даусон, а вверх по реке, в Дайэ.
Пьер Фонтэн, не медля ни секунды, нисколько не церемонясь, стал расталкивать проводников, стаскивать с них одеяла и торопил их взяться за дело. Его громкий энергичный голос разносился на далекое расстояние вокруг.
Лагерь был снят с удивительной быстротой, и проводники, пошатываясь под тяжестью всевозможных горшков, котелков и одеял, направились к лодке. Карина Сейзер уже стояла на берегу и спокойно ждала, пока ее люди уложат весь багаж и устроят ее в лодке.
– Мы подойдем к головной части острова, – сказал Пьер, возясь с длинным причальным канатом. – Нам всего бы лучше пройти к заднему проливу, где вода гораздо спокойнее и медленнее. Я думаю, что нам это удастся.
Острый слух Пьера тотчас же уловил шум шагов по прошлогодней сухой траве. Он оглянулся и увидел индеанку, окруженную тесным кольцом ощетинившихся волкоподобных собак. Карина тотчас же заметила, что лицо девушки, остававшееся спокойным во все время разговора с Дэвидом Пэном, теперь пылало от негодования.
– Что такое ты сделала с ним? – резко спросила она, обратясь к Карине. – Как ты только ушла, он почти больным улегся на скамью. Я спрашиваю его: «Что с тобой, Дэвид? Ты болен?» Он сначала помолчал, а затем сказал мне вот что: «Ради Бога, Винапи, оставь меня в покое… Все пройдет сейчас». Что такое ты сделала с ним? Мне кажется, что ты нехорошая женщина…
М-с Сейзер с большим любопытством разглядывала дикарку, которой предстояло всю жизнь провести с Дэвидом…
– Мне кажется, что ты нехорошая женщина… – медленно и с усилием, с каким вообще произносят иностранные слова, повторила Винапи. – Я думаю еще, что тебе всего лучше уехать отсюда. Ведь он у меня единственный. Я – индеанка, а ты – белая американская девушка, которая всегда найдет сколько угодно мужчин. Твои глаза такие же голубые, как небо. И кожа твоя белая и мягкая.
Она провела смуглым пальцем по нежной щеке белой женщины. Она была прелестна, и если бы между ними не стоял мужчина – Дэвид Пэн, – Карина Сейзер была бы в состоянии целые годы жить рядом с ней.
Пьер колебался, не зная, что предпринять, ввиду явно воинственного вида девушки. Он сделал было шаг вперед, но Карина, в душе благодаря его, все же сделала ему знак, чтобы он отошел в сторону.
– Ничего, ничего… – успокоительно сказала она. – Пожалуйста, оставьте нас.
Тот с самым почтительным видом отступил на несколько шагов и заворчал.
– Белая, мягкая щечка, как у ребенка.
Винапи поочередно коснулась обеих щек Карины.
– Скоро у нас появятся москиты, и от их укусов твоя мягкая кожа покроется волдырями и пятнами. Ах, какие пятна, какие раны! Москитов у нас много, и ран будет много. Хорошо будет, если ты уедешь отсюда еще до того, как разведутся москиты.
Она указала на дорогу, идущую вниз по течению, и продолжала:
– Эта дорога идет на Сент-Майкель, а вот та, – она указала вверх по течению, – на Дайэ. Тебе гораздо лучше ехать на Дайэ. Прощай!
Пьер положительно не верил своим глазам, когда увидел, что миссис Сейзер обняла индейскую девушку, крепко поцеловала ее и разрыдалась на ее плече.
– Люби его… – сквозь слезы пробормотала она.
После того, не подымая головы, она стала спускаться по берегу к лодке.
Очутившись в лодке, она оглянулась и крикнула:
– Прощай!
Пьер следом за ней прыгнул в лодку, укрепил руль и дал сигнал к отплытию.
Ле-Гуар затянул старую французскую песню. Проводники, похожие при слабом свете звезд на призрачные тени, низко пригнулись под туго натянувшейся веревкой. Рулевое весло стало быстро рассекать воду – и лодка вскоре исчезла в ночном мраке.
То, чего никогда не забыть…
Фортюн Ла-Пирль бежал по снегу, спотыкаясь на каждом шагу, плача и проклиная свое счастье, Аляску, Ном, карты и того человека, которого он пырнул ножом. Горячая кровь уже застыла на его пальцах. Страшная картина неотступно стояла перед его глазами и жгла его мозг. Он видел человека, ухватившегося за край стола и медленно опускавшегося на пол, разбросанные по сторонам фишки и карты, мгновенный трепет, охвативший всех присутствовавших и сменившийся напряженной тишиной, крупье, остановившихся на полуслове, и жетоны, как бы замершие на столах, испуганные лица, бесконечный момент общего молчания, и многое другое. И вдруг услышал страшный рев, а за ним – призывы к мести, которые, казалось, сейчас гнались по его следам и свели с ума чуть ли не весь город.
«Все черти преисподней спущены с цепей!» – криво усмехнулся он про себя, снова нырнув в непроглядный мрак и направляясь к реке.
Многочисленные огни заструились из всех открытых дверей, из всех палаток, хижин и танцевальных зал, выбросивших на улицу множество народа, охваченного неутомимой жаждой мщения и погони за преступником. Рев людей и вой собак бесконечно терзали его уши и ускоряли бег. Он бежал все дальше и дальше, а звуки за ним мало-помалу стали ослабевать, и через некоторое время ярость погони сменилась озлоблением от неудачных и бесцельных поисков.
Но одна тень неотступно неслась за ним. Время от времени поворачивая назад голову, он различал эту тень, которая то принимала неясную форму на бесконечном снежном фоне, то мигом исчезала в глубоких тенях, отбрасываемых какой-нибудь хижиной или вытащенной на берег лодкой.
Фортюн Ла-Пирль ругался, как женщина, – слабо, жалко, с ясными намеками на то, что скоро иссякнет источник слез, и все дальше уносился в лабиринт наваленного льда, палаток и пробных ям. Он то и дело налетал на протянутые по всем сторонам веревки, кучи мусора и бессмысленно вколоченные палки и на каждом шагу спотыкался о горки беспорядочно сваленного и примерзшего леса, принесенного течением. Иногда ему чудилось, что погоня за ним окончательно прекратилась, и тогда он уменьшал шаг, причем его голова кружилась, а сердце колотилось до того сильно, что вызывало мучительные приступы удушья. Но через момент он убеждался в том, что жестоко ошибался, ибо сбоку, неведомо откуда и как, снова появлялась та же неотступная тень и снова заставляла его сломя голову уноситься вперед. Вдруг быстрая мысль, как молния, пронеслась в его голове и оставила по себе холодную дрожь, которая так знакома северным людям. Тень приняла в его глазах типичные символические формы, которые понятны только игрокам. Молчаливая, неумолимая и неотвратимая, она представлялась ему воплощением его собственной судьбы, которая подошла к нему вплотную в тот самый момент, когда игра кончилась и надо было платить наличными деньгами за фишки и жетоны.
Фортюн Ла-Пирль твердо верил, что у каждого человека бывают такие редкие и замечательные моменты, когда его мозг, окончательно освободившись от власти пространства и времени, выступает вперед совершенно нагой, шествует по граням вечности и читает великие факты из открытой книги судеб. Он не сомневался в том, что такой именно момент наступил для него лично, и вот почему, когда он снова устремился прочь от берега и понесся по заснеженной тундре, его нисколько не испугало то, что преследующая его тень как бы приняла более четкие очертания и значительно приблизилась к нему. Подавленный сознанием полной беспомощности, он вдруг остановился посреди белого поля и резко повернулся назад. Тотчас же его правая рука высвободилась из рукавицы, и высоко поднятый револьвер сверкнул в бледном сиянии звезд.
– Не стреляйте! Я безоружен.
Тень приняла более осязательные формы, и при первых же звуках человеческого голоса у Фортюна Ла-Пирля подогнулись колени, и он почувствовал в желудке резкие спазмы.
Весьма возможно, что при иных обстоятельствах совершенно иначе сложились бы все последующие факты, но все дело было в том, что Ури Брам не имел при себе оружия в ту ночь, когда он сидел на жестких скамьях «Эльдорадо» и видел, как Фортюн Ла-Пирль убил человека. Этим же обстоятельством объясняется и другой факт, заключавшийся в том, что Ури понесся по Большому Пути в обществе такого не подходящего для него компаньона, как тот же Ла-Пирль. Но, так или иначе, он снова повторил следующие слова:
– Не стреляйте! Разве вы не видите, что я совершенно безоружен?
– В таком случае, черт вас побери совсем, чего ради вы гонитесь за мной? – спросил игрок, опустив револьвер.
Ури Брам пожал плечами.
– Сейчас этот вопрос не представляет большой важности. Я хочу, чтобы вы пошли со мной.
– Куда?
– В мою палатку, на самом конце стоянки.
Фортюн Ла-Пирль снова опустил конец мокасина в глубокий снег и хорошо подобранным набором ругательств постарался убедить Ури Брама, что он сумасшедший.
– Кто вы, – закончил он свою тираду, – и кто я? И с какой такой стати я должен по вашему желанию всунуть голову в петлю? Скажите, пожалуйста!
– Я – Ури Брам! – очень просто ответил тот. – И моя хижина находится недалеко, в конце лагеря. Я не знаю, кто вы такой, но я собственными глазами видел, как вы вытрясли душу из живого человека. На ваших руках еще до сих пор осталась его кровь – его красная кровь; и, словно на второго Каина, рука всего рода человеческого поднялась на вас. Вам негде преклонить голову, а у меня имеется хижина, которая…
– Ради вашей собственной матери, замолчите! – перебил его Фортюн Ла-Пирль. – Или я тут же на месте превращу вас во второго Авеля! Вот клянусь вам чем вы только хотите, что я сделаю именно так, как я только что сказал! Подумайте, глупый вы человек, что тысячи людей гонятся по моим следам, ищут и рыщут по всем направлениям, и как же я при таких условиях смогу найти защиту и приют в вашей хижине! Я хочу и должен убежать как можно дальше, дальше, дальше! Ах, какие подлые свиньи! Правду сказать, я испытываю огромное желание повернуть назад и полоснуть некоторых из них. Будет одна, но настоящая и прекрасная схватка, и я покончу со всем этим грязным делом. Паршивая игра – эта жизнь. И ну ее к черту!
Он на мгновение остановился, подавленный всей тяжестью несчастья, свалившегося на него, и Ури Брам решил воспользоваться этой минутой слабости. Этот человек никогда не отличался особенным красноречием, и речь, которую он сейчас произнес, была самая длинная за всю его жизнь, за исключением лишь той, которая будет приведена несколько попозже и в другом месте.
– Вот по тому-то самому я и говорю вам про мою хижину. Я могу спрятать вас в ней так, что никто и никогда не найдет вас, а пищи у меня сколько угодно. Ведь, так или иначе, вам все равно нечего делать и некуда деться. Собак у вас нет, да и вообще ничего нет, а море замерзло. Ближайший от нас пост – Сент-Майкель. Погонщики разнесли про вас весть по всей округе, и о вас уже знают до самого Анвига. Вы сами видите – у вас нет ни единого шанса на спасение. Так вот, по-моему, вам остается одно: переждать у меня, пока вся эта буря уляжется. О вашей истории все позабудут через месяц или даже того меньше, забудут и те, что поедут в Йорк, и те, что останутся здесь. Уверяю вас, что вы удерете под самым их носом, а они и не заметят этого. У меня имеются свои собственные представления о справедливости. Когда я выбежал из «Эльдорадо» и понесся за вами по берегу, то я всего меньше думал о том, чтобы поймать вас и выдать полиции. У меня свои собственные воззрения, которые не имеют ничего общего с их воззрениями.
Он замолчал при виде того, как убийца вынул из кармана молитвенник. При мерцающем желтоватом свете северного сияния на северо-востоке, с обнаженными на морозе головами и голыми руками, положенными на священную книгу, два человека обменялись клятвой, согласно которой Ури Брам обещал никогда не выдавать Фортюна Ла-Пирля, что в точности впоследствии и выполнил.
На пороге его хижины игрок помедлил с минуту, еще раз подумав про себя о странном поведении этого человека, который вдруг пожелал спасти его. И на ту же минуту им снова овладели сомнения. Но он вошел.
При свете свечи он успел заметить, что хижина довольно комфортабельна и что никаких посторонних людей в ней нет. Он начал быстро свертывать папиросу, в то время как хозяин занялся приготовлением кофе. Благодаря приятной теплоте его мускулы несколько размякли, и он слегка, с полупритворной небрежностью и ленью откинулся назад, причем ни на миг не отрывал взора от лица Ури, которое пристально изучал сквозь кольца дыма. Это было крупное и значительное лицо, и сила его была того странного свойства, которое не сразу поддается определению и характеристике. Морщины шли очень глубоко и кое-где были похожи даже на шрамы, а в резких, серьезных чертах лица не имелось ни намека на юмор или сердечность. Под высоко и далеко выступающими вперед лобными костями, за густыми пушистыми бровями сидели серые и холодные глаза. Скулы значительно выдавались, образуя глубокие впадины. Подбородок и челюсти говорили о силе, а узкий лоб – об упрямстве, а в случае необходимости – и о безжалостности. Все остальное – нос, губы, голос, линии рта – было чрезвычайно сурово. Фортюн Ла-Пирль увидел перед собой человека, который давно привык ограничиваться собственным обществом и редко искал совета у кого-либо. Это был человек, которому приходилось по ночам очень много бороться с собой и демонами, но который подымался с зарей с таким выражением лица, что никто и никогда не мог бы догадаться, что думает и как живет этот отшельник. Фортюн – сам по себе существо поверхностное и легкомысленное – никак не мог разобраться в этом узком, но, несомненно, глубоком человеке. Он мог бы еще понять его, если бы тот пел, когда бывал весел, и вздыхал бы, когда ему было грустно. Но не представлялось никакой возможности расшифровать эти скрытые черты, как нельзя было и измерить эту замкнутую душу.
– А ну-ка, помогите мне, господин Человек! – приказал ему Ури, когда чашки с кофе были опорожнены. – Нам надо устроиться так, чтобы никакие визитеры не застали нас врасплох.
Считаясь с удобствами хозяина, Фортюн назвал свое имя; он оказался очень ловким помощником. Ложе Ури стояло у стены, почти в самом конце хижины, и представляло собой весьма примитивное сооружение, так как основа его состояла из сплавных неотесанных бревен, покрытых мохом. Неотделанные концы в ногах подымались вверх неровным рядом. В той части ложа, что была поближе к стене, Ури содрал мох и вытащил три доски. Образовавшееся отверстие было заполнено.
Фортюн принес из кладовой несколько мешков с мукой и положил на пол, как раз под раскрытым четырехугольником. Поверх муки Ури положил несколько длинных, так называемых «морских» мешков, которые, в свою очередь, были затянуты несколькими полотнищами меха и одеялами. Покрытый мехами, которые тянулись от одного конца ложа до другого, Фортюн Ла-Пирль мог лежать совершенно спокойно, нисколько не боясь привлечь внимание чересчур любопытных посетителей, которые могли сколько угодно смотреть на кровать Ури и все равно считали бы, что она пуста.
В продолжение нескольких последующих недель повсюду был произведен ряд самых тщательных обысков, причем не была пропущена ни единая хижина или палатка, но Фортюн лежал в своем убежище так же спокойно, как ребенок в зыбке. В сущности говоря, на хижину Ури Брама вообще никто не обращал внимания. Меньше всего кто-либо мог подумать о том, что именно здесь скрывается преступник, убивший Джона Рандольфа. Когда же миновала пора усиленных обысков и поисков, Фортюн начал преспокойным образом разгуливать по хижине, раскладывая вечный пасьянс и раскуривая бесконечные папиросы. Несмотря на то что его экспансивная натура любила веселье, шум, шутки, остроумие и неподдельный смех, он довольно быстро привык к молчаливости своего хозяина. За исключением действий и планов преследователей, состояния дорог и цен на собак, им и говорить-то не о чем было. Да и об этом они беседовали довольно редко и очень коротко.
Фортюн занялся было разработкой систем для игры в карты, и целые часы и целые дни проходили в том, что он тасовал и сдавал, тасовал и сдавал, записывал всевозможные комбинации карт, составлял таблицы, а затем снова тасовал и сдавал. Но в конце концов и это занятие адски приелось ему, и, опустив голову на стол, он предавался сладкому мысленному созерцанию веселых и шумных картежных домов, которые были открыты всю ночь и в которых по очереди работали крупье и надзиратели, а шарик рулетки неугомонно звенел и вертелся от зари до зари. В такие моменты сознание полного одиночества и крушения всех надежд действовало на него столь ошеломляюще, что он по целым часам сидел, устремив взор в одну точку и ни на мгновение не меняя позы. В иные же моменты его дурное настроение находило себе некоторый выход в страстных и горестных излияниях. В конце концов, жизнь мало улыбалась ему, и он не взял от нее того, чего жаждал.
– Ну и поганая же игра – жизнь! – повторял он каждый раз по-иному, и только в этом отношении были какие-то перемены, так как каждый раз звучали новые нотки озлобления. – Собственно говоря, мне всю жизнь не везло и не везет. Вероятно, я был проклят уже при самом рождении, и горе я стал сосать вместе с молоком матери. Просто-напросто кто-то неудачно на мой счет бросил кости, и вот вся игра криво пошла! Но я-то разве виноват в этом? Разве меня мать смела упрекать в этом? Но она упрекала, она во всем винила только меня – и всегда винила! Почему она не повела меня по иному пути? Почему мне не помогли другие люди? И чего ради и зачем я попал в Сиэтл? Почему я, как грязная свинья, жил в Номе? И как так случилось, что я попал в «Эльдорадо»? Кому это нужно было? Ведь как все это вышло! Я шел к Большому Питу за спичками – вот и все! Почему у меня как раз вышли спички? И зачем мне захотелось курить? Ну разве вы не видите, как все обстоятельства и факты складывались против меня! Все на свете, все люди, все – все было против меня, и чуть ли не еще до моего появления на свет Божий! Уж так кто-то подстроил, чтобы никогда и нигде мне не улыбались ни надежда, ни радость! А, черт бы все это побрал! Как мне не везет! Ну скажите на милость, чего ради на моем пути стал Джон Рандольф, которому почему-то и зачем-то вздумалось в одно и то же время назначить ставку и поставить фишку? Все из-за него, мерзавца, вышло, и я очень рад, что расправился с ним именно так, как он того заслуживал. Ну почему он не сумел держать язык за зубами и предоставить удаче хоть единственный раз повернуться ко мне лицом? Ведь он прекрасно знал, в каком паршивом положении я нахожусь и что не сегодня-завтра я останусь без гроша в кармане. И почему я не сумел вовремя овладеть собой и задержать свою же руку? Ах, почему? Почему, почему?
И Фортюн Ла-Пирль буквально катался по полу, неистово вопрошая судьбу: почему так ужасно и несчастно сложилась его жизнь?
Во время таких приступов отчаяния Ури Брам обычно не произносил ни слова, не выражал даже знаком своего отношения к делу, но, казалось, глаза его с каждым мгновением становились тусклее и тупее, и видно было по всему, что состояние Фортюна его решительно не интересует.
Ведь, в конце концов, между этими двумя существами не было абсолютно ничего общего, и этот факт до сих пор заставлял неоднократно задумываться убийцу и спрашивать самого себя: ну чего ради этот человек вдруг заступился за него и взял его под свою защиту и покровительство?
А между тем время выжидания естественно близилось к концу. Ведь известно, что даже самая острая жажда справедливого возмездия с течением времени уступает место жажде золота. Убийца Джона Рандольфа успел уже попасть в местные анналы, и о нем начали мало-помалу забывать. Если бы он внезапно снова появился на свет Божий, то граждане Нома, конечно, на время задержали бы свои приготовления в путь-дорогу и воздали бы справедливости все то, что ей следует, но ввиду того что о местопребывании Фортюна Ла-Пирля до сих пор ничего и никому не было известно, вопрос о его поимке лишился остроты, потеряв все особенности проблемы, которую надо немедленно разрешить. В настоящее время назрели более насущные вопросы. На дне рек и вдоль берегов было золото, были рубины. В самом недалеком будущем должен был вскрыться лед, и вот почему многочисленные граждане Нома все свои мысли отдавали тому, чтобы отправиться в места, где чудеснейшие вещи можно достать по неслыханно низкой цене.
И вот однажды ночью Фортюн Ла-Пирль стал помогать Ури Браму запрягать собак, и в скором времени оба отправились по зимнему санному пути в южном направлении. Собственно говоря, нельзя было это направление называть южным, потому что несколько восточнее Сент-Майкеля они оставили море, пересекли водораздел и пошли по Юкону до самого Анвига, на расстоянии нескольких сот миль от устья великой реки. Затем они взяли на северо-восток, прошли Койокук, Тананау, Минук, обошли Большой Поворот у форта Юкон, в двух местах пересекли Полярный круг и через Плоскогорья направились на юг. В общем, это был очень утомительный путь, и Фортюн снова стал удивляться: чего ради Ури Брам пошел с ним, но тот заявил ему, что у него на Игле имеются заявки, где в настоящее время работают люди. Игль лежал почти на самой границе, и на расстоянии нескольких миль от него, над бараками форта Кудахи, уже трепетал в воздухе английский флаг. А затем шли: Даусон, Пелли, Пять Пальцев, Уинди-Арм, Карибу-Кроссинг, Линдерман, Чилкут и Дайэ.
На следующее утро, после того как миновали Игль, они поднялись очень рано. Это была их последняя стоянка, после которой им предстояло расстаться. Фортюн чувствовал себя на редкость хорошо и легко. Все вокруг уже предвещало весну и дышало ею. Дни становились все длиннее. Путь шел уже по индейской территории. Полная свобода была совсем близко, солнце вернулось, и с каждым днем убийца все ближе подходил к желанной границе. Мир был велик, безграничен, и снова надежды и мечты расцветали с былой силой.
Во время завтрака Фортюн Ла-Пирль беспечно насвистывал и напевал веселенькие песенки. Ури Брам неторопливо запрягал собак. Но когда все было готово и Фортюну буквально не стоялось на месте, Ури Брам подтолкнул к костру свежее полено и уселся на нем.
– Приходилось ли вам когда-нибудь слышать о Пути Дохлой Лошади? – спросил он.
При этом он сосредоточенно взглянул на Фортюна, который покачал головой, желая выразить страшное возмущение по поводу такой непредвиденной отсрочки.
– Да, бывают иногда такие встречи, встречи при таких обстоятельствах, которых никогда нельзя забыть, – продолжал Ури медленно и очень тихо. – И вот мне лично пришлось однажды при таких особенных обстоятельствах встретиться с одним человеком на Пути Дохлой Лошади. Надо вам сказать, что в 1897 году на Белом Перевале пострадало так много народу, что и передать нельзя, так что название этого места дано вполне правильно и разумно. Лошади там падали буквально как москиты, и от Скагуэ до озера Беннет лежали целые горы лошадиных трупов, которые гнили без конца. Кони издыхали на Скалистых горах, отравлялись на Сэммите и помирали от голода на Озерах. Они падали на дороге, там же, где стояли, или тонули в реках под тяжестью наваленной на них ноши. Они разбивались чуть ли не в куски о скалы, спотыкались о камни и ломали себе спины, падая с поклажей. Нередко случалось, что они так утопали в грязи, что их не было и видно. Там они задыхались в жидком иле или же напарывались на сваи, вбитые в подпочву, и разрывали себе внутренности. Случалось, что хозяева застреливали их тут же на месте или же загоняли до смерти. Лошади околевали, и тогда люди возвращались на берег и покупали новых лошадей. Многие даже не заботились о том, чтобы прикончить несчастных животных, а снимали с них седла и подковы и бросали их там, где те падали. Сердца людей окаменели. Люди озверели – все люди, которые проходили по Пути Дохлой Лошади.
Но был там один человек с сердцем Христа и его же терпением. Это был такой порядочный и честный человек, какого редко встретишь. Как только караван останавливался на полуденный отдых, он немедленно снимал поклажу с лошадей и тем давал им возможность хоть сколько-нибудь отдохнуть. Он платил по пятьдесят долларов и больше за сто фунтов корма для них. Собственные одеяла он неоднократно подстилал под седла лошадей, у которых были слишком натерты спины. А другие люди натирали седлами такие дыры на спинах лошадей, что туда при желании могло пройти хорошее ведро для воды. Другие, видя, что с копыт лошадей спали подковы, не обращали на это никакого внимания и гнали животных до тех пор, пока копыта несчастных не превращались в одну сплошную кровоточащую рану. А этот человек тратил последние деньги на подковные гвозди. Знал я обо всем этом только потому, что мы спали с ним на одном ложе и ели из одного горшка. Знал я это потому, что мы стали с ним братьями на том самом пути, где все остальные люди доходили до последних излишеств и умирали с богохульственными проклятиями на устах. Как бы он ни устал, он всегда находил момент для того, чтобы ослабить или же подтянуть подпругу, и очень часто в его глазах стояли слезы, когда он смотрел на все море ужаса и несчастья. При подъеме в горы, когда кони спотыкались чуть ли не на каждом шагу и подымались на передних ногах, точно кошки на стену, случалось всего больше несчастий, и весь путь был устлан скелетами лошадей, скатившихся вниз. И он всегда стоял здесь, стоял в отвратительной, адской вони, всегда имея наготове нужное подбадривающее слово или ласку, причем не сходил с места до тех самых пор, пока мимо него не проходил весь караван. Если же какая-нибудь лошадь проваливалась, этот человек задерживал все движение до тех пор, пока лошадь не была спасена, и никто из нас не осмеливался в такие минуты перечить ему или же становиться на его пути.
Почти в самом конце нашего перехода один человек, который успел за это время погубить около пятидесяти лошадей, вздумал купить наших лошадей, но мы взглянули на него и на наших коней – горных лошадок из Восточного Орегона. Он предлагал нам пять тысяч долларов, и мы готовы были уже согласиться, но тут вспомнили о ядовитых травах Саммита, о проходе через Скалистые горы, и человек, которого я привык считать братом моим, не сказал ни слова в ответ, но разделил весь табун на две равные части: в одной были его лошади, а в другой – мои; затем он взглянул на меня, и мы без слов поняли друг друга. Я погнал его лошадей в одну сторону, а он моих – в другую, мы взяли в руки наши ружья и перестреляли всех лошадей до единой, в то время как человек, загнавший пятьдесят лошадей, ругал нас на чем свет стоит. Но тот человек, с которым мы сошлись как братья на Пути Дохлой Лошади…