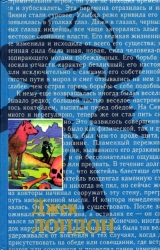
Текст книги "Путь ложных солнц"
Автор книги: Джек Лондон
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Джек Лондон
ПУТЬ ЛОЖНЫХ СОЛНЦ
Ситка Чарли курил и глядел задумчиво на иллюстрацию, вырезанную из «Полицейской газеты» и прикрепленную к стене. В течение получаса разглядывал он картину, и в течение всего этого получаса я незаметно за ним наблюдал. Что-то происходило в его уме, и я знал, что во всяком случае его мысли заслуживают интереса. Он жил деятельной жизнью и видел многое на своем веку. Он совершил самое большое чудо – отказался от собственного народа и, насколько это вообще возможно для индейца, обратился, по всему своему складу, в белого человека. Сам он, повествуя об этой перемене, говорил, что сел у наших огней и сделался одним из наших. Он никогда не учился читать и писать, но обладал обильным запасом слов. Еще более замечательной была точность, с какой он воспринял взгляды белых людей и отношение их ко всем вещам.
Мы напали на эту покинутую хижину после дня тяжелого пути. Собаки были накормлены; обеденная посуда вымыта; постели приготовлены. Мы наслаждались тем приятным часом, который наступает на аляскинском пути ежедневно, но лишь раз в течение дня. Это час, когда усталый путник, перед тем как улечься, выкуривает свою вечернюю трубку.
Кто-то из прежних обитателей хижины украсил ее стены иллюстрациями, вырезанными из журналов и газет. Эти-то картины и привлекли внимание Ситки Чарли с момента нашего прихода, два часа назад.
Он напряженно изучал их, переходя от одной к другой и снова возвращаясь к прежним. Лицо его было озадачено.
– Ну? – прервал я наконец молчание.
Он вынул трубку изо рта и сказал просто:
– Я не понимаю.
Затем снова закурил и снова вынул трубку, чтобы указать ею на картину из «Полицейской газеты».
– Это картина… что она значит? Я не понимаю.
Я посмотрел на рисунок. Человек с преувеличенно злым лицом падал навзничь на пол, прижимая руку театральным жестом к сердцу. Над ним, с лицом не то падшего ангела, не то Адониса [1]1
Адонис – один из любимцев Венеры, страстный охотник. В переносном смысле – красавец.
[Закрыть], стоял другой человек с дымящимся после выстрела револьвером в руке.
– Один человек убивает другого, – ответил я, чувствуя, что и я разделяю его недоумение и нуждаюсь в объяснении.
– Почему? – спросил Ситка Чарли.
– Я не знаю, – признался я.
– В этой картине только конец, – сказал он. – Она не имеет начала.
– Это – жизнь, – сказал я.
– Жизнь имеет начало, – возразил он.
Я не знал, что сказать. В это время его глаза остановились на соседней иллюстрации. Это была репродукция чьей-то картины «Леда и Лебедь» [2]2
Леда – по греческой мифологии – жена спартанского царя, соблазненная Зевсом под видом лебедя.
[Закрыть].
– Это картина, – сказал он, – не имеет ни начала, ни конца. Я не понимаю картины.
– Посмотри на ту картину, – сказал я, показывая на третий рисунок. – Она имеет смысл. Скажи же мне, что она означает.
Он несколько минут изучал рисунок.
– Маленькая девочка больна, – сказал он наконец. – На нее смотрит доктор. Они всю ночь не ложились, смотри, в лампе нет масла, первые лучи утреннего света входят в окно. Это очень опасная болезнь; может быть, она умрет. Поэтому доктор смотрит так сурово. Это ее мать. Это очень опасная болезнь, потому что голова матери лежит на столе и она плачет.
– Как ты знаешь, что она плачет? – прервал я его. – Ты не видишь ее лица. Может быть, она спит.
Ситка взглянул на меня, словно внезапно удивившись, а затем внимательно посмотрел на картину.
Очевидно было, что он не обдумал своего впечатления.
– Может быть, она спит, – повторил он. Он внимательно изучал изображение. – Нет, она не спит. Плечи показывают, что она не спит. Я видел плечи плачущей женщины. Мать плачет. Это очень опасная болезнь.
– И ты понимаешь картину? – воскликнул я.
Он покачал головой и спросил:
– Маленькая девочка – она умрет?
В свою очередь я молчал.
– Умрет она? – повторил он. – Ты – художник. Может быть, знаешь.
– Нет, я не знаю, – признался я.
– Это – не жизнь, – категорически заявил он. – В жизни девочка умрет или выздоровеет. В жизни что-нибудь случится. На картине ничего не случится. Нет, я не понимаю картины.
Он был явно разочарован. Он хотел понять все, что понимают белые люди, и здесь – в этом вопросе – это ему не удавалось. Я чувствовал вместе с тем, что в его вопросах был вызов. Он хотел во что бы то ни стало заставить меня разъяснить ему мудрость картины.
Нужно сказать, что у него были поразительные способности мыслить образами. Он видел жизнь в образах, чувствовал ее в образах, обобщал посредством образов. Но он не понимал образов, выраженных при помощи красок и линий другими людьми.
– Картина – кусок жизни, – сказал я. – Мы рисуем жизнь так, как ее видим. Представь себе, Чарли, что ты идешь по тропе. Ночь. Ты видишь хижину. Окно освещено. Ты смотришь в окно в течение одной или нескольких секунд, ты видишь что-то и затем продолжаешь путь. Быть может, ты увидел человека, который писал письмо. Ты видел что-то, не имевшее ни начала, ни конца. Ничего не случилось. И все же ты видел кусок жизни. Ты запомнил его. Этот кусок жизни – словно картина в твоей памяти. Окно – рамка картины.
Он, видимо, заинтересовался, и я знал, что в то время, как я говорил, он представил себе окно и, заглянув, видел человека, пишущего письмо.
– Есть одна картина, которую ты нарисовал. Я ее понимаю, – сказал он. – Это правдивая картина. В ней много смысла. Она в твоем домике в Доусоне. Это стол игры в «фараон». За столом люди играют. Игра идет большая. Играют без ограничения ставки.
– Почему ты знаешь, что играют без ограничения? – спросил я с интересом. Я был рад услышать беспристрастное суждение о моей работе такого человека, который знал только жизнь, а не искусство и был исключительно художником действительности. К тому же я очень гордился этой картиной. Я назвал ее «Последняя ставка» и считал, что это одно из лучших моих произведений.
– На столе нет золота, – пояснил Ситка Чарли. – Люди играют на марки. Это значит, что нет ограничений. Один человек играет желтыми марками. Может быть, одна желтая фишка стоит тысячу долларов, а может быть, и две. Другой играет красными. Может быть, каждая из этих – пять тысяч долларов, а может быть – тысячу. Это очень большая игра. Все ставят очень высоко. Почему я это знаю? Ты нарисовал банкомета с румянцем на лице (я был в восторге). Ты нарисовал понтера [3]3
Понтер – в азартной игре – ставящий на карту известную сумму против банкомета.
[Закрыть]наклоненным к столу. Почему он наклонился вперед? Почему его лицо так напряженно? Почему его глаза так блестят? Почему банкомету жарко – у него на лице румянец? Почему все так молчаливы – и человек с желтыми марками, и человек с белыми марками, и человек с красными? Почему никто не разговаривает? Потому что игра на большие деньги. Потому что это – последняя ставка.
– Но почему ты думаешь, что это последняя ставка? – спросил я.
– Король вышел, семерка открыта, – отвечал он. – Никто не ставит на другие карты. Все другие карты ушли. Все думают об одном. Все теряют с королем, выигрывают с семеркой. Может быть, банк потеряет двадцать тысяч; может быть, выиграет. Да, я понимаю эту картину.
– И, однако, ты не знаешь окончания! – воскликнул я, торжествуя. – Это последняя ставка, но не все карты открыты. И на картине они никогда не будут открыты. Никто не узнает никогда, кто выиграет и кто проиграет.
– И люди будут сидеть там и молчать, – сказал он с каким-то страхом. – И понтер будет наклоняться вперед, и румянец будет на лице у банкомета. Это странная вещь! Всегда будут они там сидеть, всегда! И карты никогда не будут открыты.
– Это картина, – сказал я. – Это жизнь. Ты сам видел нечто подобное.
Он посмотрел на меня в раздумье и затем очень медленно протянул:
– Да, ты говоришь – здесь нет конца. Никто никогда не узнает конца. И, однако, это правда. Я видел это. Это жизнь.
Долгое время он молча курил, обдумывал смысл и значение картин у белых людей, и, проверяя их на жизненных фактах, он несколько раз кивал головой и несколько раз кряхтел. Затем высыпал пепел из трубки, заботливо наполнил ее и после некоторого раздумья снова зажег.
– Я тоже видел в жизни много картин, – начал он, – не нарисованные картины, а виденные глазами. Я смотрел на них так же, как через окно на человека, пишущего письмо. Я видел много обрывков жизни, и все эти обрывки были без начала, без конца, без смысла.
Внезапно изменив свое положение, он уставился прямо на меня и стал внимательно разглядывать.
– Скажи, – сказал он, – ты художник. Как нарисовал бы ты то, что я видел, картину без начала и с непонятным для меня концом? Северное сияние служило ей свечой и Аляска – рамкой.
– Это большое полотно, – заметил я.
Но он не обратил на меня внимания. Картина, казалось, была у него перед глазами.
– Много можно дать названий этой картине, – сказал он. – Но я назову ее «Путь Ложных Солнц», так как в ней на небе рядом с настоящим было два ложных солнца. Это было давно, лет семь назад, в конце 1897 года. Тогда я в первый раз увидел эту женщину. У меня была на озере Линдерман очень хорошая лодка из Петерборо. Я приехал с Чилкутского прохода с двумя тысячами писем для Доусона. Тогда я перевозил почту. В это время все устремлялись в Клондайк. Много людей путешествовало на собаках. Многие рубили деревья и строили лодки. Скоро река должна была замерзнуть. Было много снега в воздухе, много снега на земле; на озере был лед, на реке – там, где водовороты, – тоже лед. С каждым днем было все больше и больше снега, больше льда. Через день, или через три дня, или через шесть дней можно было ожидать, что река станет. Тогда всем придется передвигаться пешком. А Доусон находился в ста милях; прогулка, значит, была большая. Лодка же плывет очень быстро. Поэтому все хотели ехать на лодке. Каждый обращался ко мне, говоря: «Чарли, за двести долларов возьми меня в свою лодку», «Чарли, я дам четыреста долларов». Я же говорил: «Нет!» – все время говорил: «Нет! Я перевожу почту».
Утром достиг озера Линдерман. Я шел всю ночь и очень устал. Я сварил завтрак, поел и затем спал три часа на берегу. Когда я проснулся, было десять часов. Снег падал. Дул ветер, очень сильный ветер. Рядом со мной, на снегу, сидит женщина. Она была белая женщина, молодая, очень красивая – может быть, двадцати лет, может быть, двадцати пяти. Она смотрит на меня. Я смотрю на нее. Она, вероятно, очень устала. Она не танцовщица. Я это хорошо вижу.
Она порядочная женщина и очень устала.
«Вы – Ситка Чарли, – говорит она. Я встаю и свертываю одеяла, чтобы снег в них не попал. – Я еду в Доусон, – говорит она. – Я еду в вашей лодке. Сколько?»
Я не хочу никого брать в свою лодку. Но мне не хочется сказать – нет. Поэтому я говорю: «Тысяча долларов!» Я говорю это в шутку, чтобы женщина не могла со мной поехать. Это лучше, чем сказать – нет. Она смотрит на меня пристально. Затем спрашивает: «Когда вы едете?» Я говорю ей. Тогда она заявляет, что даст мне тысячу долларов.
Что я могу сказать? Я не хочу брать эту женщину, но я ведь сказал, что она может ехать за тысячу долларов. Я удивлен. Может быть, она тоже шутит? Поэтому я говорю: «Покажите мне тысячу долларов». И тогда эта женщина – эта молодая женщина, совсем одинокая на тропе золотоискателей – вынимает тысячу долларов в зеленых бумажках. Я смотрю на деньги, смотрю на нее. Я говорю: «Нет, моя лодка очень маленькая. В ней нет места для багажа». Она смеется. Она говорит: «Я опытная путешественница. Вот мой багаж!» Она толкает ногой в снег маленький узел. В нем две шубы, зашитые в парусину, и внутри несколько платьев. Я поднимаю поклажу. Она весит, может быть, тридцать пять фунтов. Я очень удивлен. Она берет ее из моих рук и говорит: «Давайте отправляться!» Она несет узел в лодку. Что я могу сказать? Я кладу одеяла в лодку. Мы отправляемся.
Вот так-то я впервые увидел эту женщину. Ветер был попутный. Я поднял маленький парус. Лодка шла очень быстро, летела как птица по большим волнам. Женщина очень боялась. «Для чего вы приехали в Клондайк, если боитесь?» – спрашиваю я. Она смеется резким смехом. Она все еще боится и к тому же очень устала. Я провожу лодку между порогами озера Беннет. Вода очень опасная, и женщина кричит от страха. Мы спускаемся по озеру Беннет. Ветер сильный – совсем буря. Много снега и льда. Но женщина очень устала, она засыпает.
В эту ночь мы разбиваем стоянку у Мыса Ветров. Женщина сидит у огня и ужинает. Я смотрю на нее. Она красива. Она причесывается. У нее много волос коричневого цвета; иногда они делаются золотыми, как огонь костра. Когда она поворачивает голову, они вспыхивают, как пламя. Глаза ее большие и карие; иногда темные, как свеча за занавеской; иногда твердые и блестящие, как расколотый лед, освещаемый солнцем. Когда она смеется, – как бы мне это сказать, – я знаю, что в это время белому человеку, наверное, хочется ее поцеловать. Она никогда не делает черной работы. Ее руки мягки, как руки ребенка. Она вся мягкая, как маленький ребенок. Она не худая – она круглая, как ребенок; ее руки, ноги, мускулы круглы и мягки, как у ребенка. Ее талия тонкая, и когда она стоит, когда она ходит, – я не знаю, как это выразить, – но на нее приятно смотреть. Я сказал бы, что она построена правильно, как хорошая лодка. Именно так. Когда она двигается – как будто хорошая лодка скользит по спокойной воде или прыгает по сердитым волнам с белыми хлопьями. Приятно на нее смотреть.
Почему она одна в Клондайке – одна, с такими большими деньгами? Я не знаю. На следующий день я спрашиваю ее. Она смеется и говорит: «Ситка Чарли, это не твое дело. Я даю тебе тысячу долларов, чтобы привезти меня в Доусон. Это все, что тебя касается». День спустя я спрашиваю, как ее зовут. Она смеется и говорит: «Мое имя – Мэри Джонс». Я не знаю ее имени, но я знаю хорошо, что ее имя не Мэри Джонс.
Очень холодно в лодке, и она плохо себя чувствует из-за холода. Иногда ей хорошо, и она поет. Ее голос – как серебряный колокольчик, и я чувствую себя добрым, совсем таким, как тогда, когда иду в церковь в Миссии Святого Креста. Когда она поет, я чувствую себя сильным и гребу как дьявол. Затем она смеется и спрашивает: «Чарли, думаешь ли ты, что мы доедем до Доусона раньше, чем вода станет?» Иногда она сидит в лодке и думает о чем-то далеком, и ее глаза становятся пустыми. Она не видит ни Ситки Чарли, ни льда, ни снега. Она – далеко. Она очень часто так задумывается. Иногда, когда она так думает, ее лицо делается нехорошим. Оно похоже на сердитое лицо, на лицо человека, когда он хочет убить другого.
Последний день до Доусона был очень труден. Уже появился лед с берега на реке. Я не мог грести. Лодка примерзла ко льду. Нельзя было выйти на берег. Было очень опасно. Мы все время шли вниз по Юкону среди льдов. Ночью был большой шум ото льда. Затем лед остановился, лодка остановилась, все остановилось. «Сойдем на берег», – говорит женщина. Но я говорю: «Лучше подождать». Скоро все опять понеслось вниз по течению. Много снега. Я не вижу. В одиннадцать часов ночи опять все стало. В час ночи снова все понеслось. В три часа снова все стало. Лодку выбрасывает словно скорлупу; но под ней лед, и она не тонет. Я слышу вой собак. Мы ждем. Мы спим. Мало-помалу наступает утро. Нет больше снега. Все стало; но мы в Доусоне. Лодка остановилась как раз в Доусоне. Ситка Чарли приехал с двумя тысячами писем; больше никто приехать не мог. Река стала.
Женщина наняла хижину на горе, и целую неделю я ее не видал. Затем, однажды, она приходит ко мне. «Чарли, – говорит она, – хочешь для меня поработать? Ты будешь вести собак, устраивать стоянки, ездить со мной». Я отвечаю, что зарабатываю довольно, перевозя письма. Она говорит: «Чарли, я дам тебе больше денег». Я объясняю ей, что на приисках чернорабочий получает пятнадцать долларов в день. Она говорит: «Это четыреста пятьдесят в месяц». А я говорю: «Ситка Чарли – не чернорабочий». Тогда она говорит: «Я понимаю, Чарли. Я дам тебе семьсот пятьдесят долларов в месяц». Это хорошая цена, и я соглашаюсь для нее работать. Я покупаю для нее собак и сани. Мы едем вверх по Клондайку, по Бонанзе и Эльдорадо; переходим к Индейской реке, к Серной Бухте, к Доминиону; возвращаемся к Золотому Дну и к Золотому Изобилию и затем назад, в Доусон. Все время она что-то ищет; а я не знаю что. «Что вы ищете? – спрашиваю я. Она смеется. – Вы ищете золото?» – спрашиваю я. Она смеется и говорит: «Это не твое дело, Чарли!» После этого я никогда больше не спрашиваю.
Она носит у пояса маленький револьвер. Иногда в пути она учится стрелять. Я смеюсь. «Почему вы смеетесь, Чарли?» – спрашивает она. «Для чего вы играете с этим, – говорю я, – ведь это детская игрушка?» Когда мы возвращаемся в Доусон, она просит меня купить ей хороший револьвер. Я покупаю кольт-44. Он очень тяжелый, но она все время носит его у пояса.
В Доусоне появляется мужчина. Откуда он пришел, я не знаю. Только я знаю, что он – «че-ча-квас», то, что мы называем «неженка». Его руки мягки так же, как ее. Он никогда не выполняет тяжелой работы. Он весь мягкий. Сперва думаю – это ее муж. Но он слишком молод. И на ночь они ставят две кровати. Ему, быть может, двадцать лет. У него глаза голубые, светлые волосы и маленькие белокурые усы. Его зовут Джон Джонс. Может быть, он ее брат. Я не знаю. Я больше не спрашиваю, только мне кажется, что его имя не Джон Джонс. Некоторые люди называют его мистер Джирвэн. Я не думаю, чтобы это было его имя. Я не думаю, что ее имя мисс Джирвэн, как называют ее некоторые. Я думаю – никто не знает их имен.
Раз, ночью, я сплю в Доусоне. Он будит меня. Он говорит: «Приготовьте собак. Мы отправляемся». Я не спрашиваю ни о чем, впрягаю собак, и мы едем. Мы едем вниз по Юкону. Ноябрьская ночь. Очень холодно – шестьдесят пять градусов ниже нуля. Они – неженки. Мороз кусает. Они устают. Они тихо плачут.
Я предлагаю остановиться и устроить ночлег. Но они говорят, что поедут дальше. И после этого я три раза советую разбить лагерь и отдохнуть, но они каждый раз отвечают, что едут дальше. Тогда я молчу.
И вот изо дня в день повторяется то же самое. Они оба – неженки. Они коченеют, и им делается больно. Они не понимают, как надо носить мокасины, и ноги их очень болят. Они хромают. Они шатаются, как пьяные. Они тихо плачут. И все время они говорят: «Вперед, вперед! Едем дальше!»
Они как будто сошли с ума. Они все время едут дальше и дальше. Почему? Я не знаю. Только они все едут дальше. Что они ищут? Я не знаю. Они здесь не за золотом. Они не больны золотой горячкой. Кроме того, они тратят очень много денег. Но я больше не спрашиваю. Я тоже еду вперед, потому что я силен и привычен к дороге, и мне хорошо платят.
Мы доезжаем до Сёркл. Там нет того, что они ищут. Я думаю, теперь, может быть, мы отдохнем и дадим передохнуть собакам. Но мы не останавливаемся ни на один день. «Едем, – говорит женщина мужчине, – едем дальше». И мы едем дальше. Мы оставляем Юкон. Мы переезжаем водораздел налево и поворачиваем в страну Тананау. Там новые прииски. Но того, что мы ищем, там нет, и мы возвращаемся в Сёркл.
Путь очень трудный. Декабрь уже кончается, и дни коротки. Холодно, очень холодно. Раз утром термометр показывает семьдесят ниже нуля. «Лучше сегодня не ехать, – говорю я. – Мороз прихватит края наших легких. Мы будем сильно кашлять, и будущей весной можем заболеть воспалением легких». Но они – че-ча-квас’ы. Они не понимают трудностей пути. Они – словно мертвые от усталости, но говорят: «Едем дальше». Мы едем дальше. Мороз кусает их легкие, и они начинают сухо кашлять. Они плачут, и слезы сбегают по их щекам. Когда жарится сало, они должны убегать от огня и полчаса кашлять. Они отмораживают себе слегка щеки, кожа их становится черной и очень болезненной. Мужчина отмораживает себе большой палец так, что кончик едва не отваливается; он должен надеть толстые варежки, чтобы отогреть руку. Когда мороз сильно щиплет и пальцу очень холодно, он снимает варежку и кладет руку между ногами, вплотную к телу, чтобы согреть палец.
Мы насилу добираемся до Сёркл, и даже я, Ситка Чарли, утомлен. Это канун Рождества. Я танцую, пью, веселюсь. Завтра – Рождество, и мы отдохнем. Но не тут-то было. Пять часов утра в день Рождества. Я спал два часа. Мужчина стоит у моей постели. «Едем, Чарли, – говорит он, – запрягай собак. Мы едем!»
Кажется, я говорил, что уже перестал задавать вопросы. Они платят мне семьсот пятьдесят долларов в месяц. Они – мои хозяева. Если они скажут мне: «Идем, Чарли, поедем в ад», – я запрягу собак, щелкну бичом и поеду в ад. Итак, я запрягаю собак, и мы отправляемся вниз по Юкону. Куда мы едем? Они не говорят. Они только говорят: «Дальше! Дальше!..»
Они очень устали. Они проехали сотни миль и совершенно не понимают, как на Севере ездят. К тому же их кашель очень усилился. Этот сухой кашель заставляет сильных мужчин ругаться, а слабых – плакать. Но они едут дальше. Они никогда не дают собакам отдохнуть. Всюду они покупают новых собак. В каждом лагере, на каждой почтовой станции, в каждой индейской деревне они отпускают усталых собак и впрягают свежих. У них много денег, и они тратят их без конца. Они сумасшедшие? Иногда я так думаю, ибо в них сидит дьявол, который гонит их вперед. Что они стараются найти? Это не золото. Они никогда не копаются в земле. Я долго думаю. И наконец я прихожу к убеждению, что они ищут человека. Но какого человека? Мы его не видим. Они вроде волков, идущих по следу, чтобы убить. Но они странные волки – слабые волки, волчата, не понимающие, как надо идти по следу. Ночью, во сне, они громко плачут, стонут и жалуются на боль и усталость. А днем они, шатаясь, идут по тропе и тихо плачут. Они странные волки.
Мы проезжаем форт Юкон. Мы переезжаем форт Гамильтон. Мы проезжаем Минук. Январь на исходе. Дни очень коротки. В девять часов светает. В три часа темнеет. Очень холодно. И даже я, Ситка Чарли, утомлен. Неужели они будут так ездить без конца? Я не знаю. И всегда я ищу на тропе то, что они стараются найти. Мало людей на тропе. Иногда мы едем целых сто миль и не встречаем следа жилья. Тишина. Ни одного звука. Иногда идет снег, и мы подобны блуждающим призракам. А иногда ясно, и в полдень солнце на мгновение выглядывает из-за южных холмов. Северное сияние вспыхивает на небе. Солнце, окруженное ложными солнцами. Воздух полон морозной пыли.
Я, Ситка Чарли, – сильный человек. Я вырос на тропе и провел на ней всю мою жизнь. И все же эти волчата меня утомили. Я худ, как голодная кошка. С радостью ложусь я в постель, а утром встаю усталый. И все-таки мы всегда выступаем еще задолго до рассвета, и сумерки застают нас всегда в пути.
Что за волчата! Если я худ, как голодная кошка, то они худы, как кошки, которые никогда не ели и уже подохли. Их глаза глубоко ушли в глазные впадины. Они блестят иногда лихорадочным огнем; а иногда они мутны и туманны, как глаза мертвеца. Их щеки провалились, словно пещеры в скалах. И кожа на щеках почернела и отморожена. Иногда женщина по утрам шепчет: «Я не могу встать; я не могу двинуться. Дай мне умереть!» Мужчина же стоит рядом с ней и говорит: «Едем дальше!» И они едут дальше. А иногда мужчина не может встать, и женщина говорит: «Едем дальше!» И всегда они отправляются дальше. Вперед и вперед.
На некоторых торговых станциях мужчина и женщина получали письма. Я не знаю, что было в этих письмах. Но это был след, по которому они шли, – эти письма. Раз индеец дал им письмо. Я поговорил с ним незаметно. Он рассказал мне, что получил письмо от человека с одним глазом, который быстро едет вниз по Юкону. Вот и все. Но я узнал, что волчата идут за одноглазым человеком.
Наступил февраль. Мы прошли тысячу миль и приближаемся к Берингову морю. Метель. Путь очень труден. Мы прибываем в Анвиг. Я не видел, но убежден, что они получили письмо в Анвиге, потому что очень возбуждены. Они говорят: «Скорей, скорей… едем дальше!» Я отвечаю, что надо купить провизию. Но они хотят ехать быстро и налегке. Они говорят, что мы найдем провиант в хижине Чарли Мак-Киона. Из этого я узнаю, что они хотят идти широкой боковой тропой, потому что Чарли Мак-Кион живет у Черной Скалы на этой тропе.
Раньше чем отправиться, я говорю две минуты с анвигским священником. Да, мимо проехал человек с одним глазом, и двигается он очень быстро. И я знаю, что они ищут одноглазого человека. Мы выезжаем из Анвига с маленьким запасом провианта, едем быстро и налегке. Мужчина и женщина словно сошли с ума. По утрам мы выступаем еще раньше, а вечером едем еще дольше. Я иногда ожидаю, что эти два волчонка умрут, но они не умирают. Они едут все дальше и дальше. Когда сухой кашель начинает их душить, они прижимают руки к животу и, сидя в снегу, кашляют, кашляют, кашляют. Они не могут ходить, не могут говорить. Десять минут, а не то так и целые полчаса, они кашляют, затем выпрямляются, с замерзшими от кашля слезами на лицах, и говорят все те же слова: «Едем дальше!»
Даже я, Ситка Чарли, сильно устал и думаю, что семьсот пятьдесят долларов – очень дешевая плата за такую работу. Мы сворачиваем на боковую тропу; эта тропа не убита. Волчата держат нос по следу и говорят: «Спешим! – все время они говорят: – Спешим! Скорее, скорее!» Собакам тяжело. У нас мало еды; мы не можем их хорошо кормить, и они слабеют. Несмотря на это, они должны везти без передышки. Женщина их жалеет, и часто из-за них слезы навертываются у нее на глазах. Но дьявол сидит в ней и не позволяет ей остановиться и дать отдохнуть собакам.
Скоро мы настигаем человека с одним глазом. Он лежит со сломанной ногой на снегу около тропы. Из-за ноги он не мог разбить настоящей стоянки и три дня лежал на снегу, поддерживая огонь. Когда мы находим его, он ругается. Ругается как черт. Никогда не слышал я такой ругани. Я рад. Теперь, думаю я, они нашли то, что искали, и мы отдохнем. Но женщина опять говорит: «Едем! Скорее!»
Я удивлен. Но одноглазый человек говорит: «Не обращайте на меня внимания. Дайте мне вашу провизию. Вы найдете завтра провизию в хижине Мак-Киона. Пошлите Мак-Киона за мной. Но поезжайте дальше». Вот еще один волк – старый волк, – и он тоже думает только об одном – ехать дальше, все дальше. И мы даем ему нашу провизию, которой остается у нас немного, рубим дрова для костра, берем самых сильных собак и едем. Мы оставляем одноглазого человека лежать, и он умер там на снегу, так как Мак-Кион за ним не пришел. Я не знаю, кто был этот человек и почему он там очутился. Но я думаю, что мужчина и женщина ему, как и мне, хорошо заплатили, чтобы он для них работал.
В этот день и ночь у нас не было никакой пищи. Весь следующий день мы ехали очень быстро и ослабели от голода. Скоро мы подошли к Черной Скале, которая возвышается на пятьсот футов над тропой. День кончался. Уже сгущалась темнота, и мы не могли найти хижину Мак-Киона. Мы спали голодные и утром приступили к поискам хижины. Ее там не было, и это было очень странно, так как все знали, что Мак-Кион живет в хижине у Черной Скалы. Мы были недалеко от морского берега, где ветер дует очень сильно и падает много снега. Всюду были снежные холмы – снег был нанесен ветром. У меня возникла одна мысль, и я стал разрывать эти холмы. Скоро я нашел стены хижины и открыл дверь. Я вошел и увидел, что Мак-Кион мертв. Быть может, он умер две или три недели тому назад. Он заболел и не мог оставить хижину. Ветер завалил ее снегом. Чарли съел весь свой провиант и умер. Я искал в его кладовой и еды не нашел.
«Едем дальше!» – воскликнула женщина. Глаза у нее были голодные, и рукой она держалась за сердце, как будто внутри у нее что-то болело. Стоя там, она качалась взад и вперед, как дерево на ветру. «Да, едем дальше», – сказал мужчина. Его голос звучал глухо, как карканье старого ворона, и он, казалось, сошел с ума от голода. Его глаза были как огненные угли, и тело его раскачивалось из стороны в сторону. Казалось, что и душа его тоже мечется. Я тоже сказал: «Едем дальше». Ибо эти слова, которые хлестали меня тысячу миль, въелись, наконец, мне в душу. И я думаю, что я также сошел с ума. К тому же нам оставалось только продвигаться дальше, так как у нас не было пищи. И мы отправились, не задумываясь о судьбе человека с одним глазом.
По этой боковой тропе мало ездят. Иногда в течение двух или трех месяцев никто не пройдет по ней. Вся тропа была завалена снегом, и казалось, что этой дорогой никогда не шли. Целый день ветер дул и снег падал, и целый день мы ехали, пока наши желудки не стали ныть от голода и мы совсем не ослабели. Наконец женщина начала спотыкаться и падать. Затем и мужчина. Я не падал, но мои ноги отяжелели, и я много раз спотыкался.
Это была последняя ночь февраля. Я убил трех белых птармиганов из револьвера женщины, и мы снова несколько окрепли. Но собаки не были накормлены. Они пытались съесть свою упряжь из оленьей и моржовой кожи, и я должен был отогнать их палкой и повесить упряжь на дерево. Всю ночь они выли и дрались вокруг дерева. Но мы не обращали на это внимания. Мы спали как убитые, а утром встали – как мертвые встают из могилы – и пошли по тропе.
В это первое мартовское утро я увидел наконец признаки того, за чем охотились волчата. Была ясная и холодная погода. Солнце дольше оставалось на небе; а ложные солнца сияли по обеим его сторонам. Воздух блестел морозной пылью. Снег перестал падать на тропу, и я увидел свежие следы собак и саней. В санях едет, по-видимому, один человек, и видно, что он слаб. Он тоже не имел достаточно пищи. И волчата замечают свежий след. Они очень возбуждены. «Спешим! – говорят они и все повторяют: – Спешим! Скорее! Чарли, скорее!»
Но спешить мы не можем. Мужчина и женщина все время спотыкаются и падают. Когда они пытаются ехать на санях, собаки тоже падают – они слишком слабы. К тому же так холодно, что если волчата сядут на сани, то непременно замерзнут. Очень легко замерзнуть голодному человеку. Когда женщина падает, мужчина помогает ей встать. А иногда женщина подымает мужчину. Но скоро, падая, они оба не могут встать, и я должен помогать им. Иначе они не встанут и умрут на снегу. Это трудная работа, и я очень устаю. Они совсем выбились из сил и очень тяжелы. К тому же я должен управлять собаками. Наконец я тоже валюсь в снег, и некому помочь мне встать. Но я встаю сам, помогаю им и понукаю собак двинуться вперед.
В эту ночь я застрелил только одного птармигана, и мы очень голодны. И в эту же ночь мужчина говорит мне: «В котором часу мы завтра отправляемся, Чарли?» Его голос звучит как голос привидения. Я отвечаю: «Мы все равно отправляемся в пять часов. – Смеюсь и говорю с горечью: – Ведь вы – уже мертвый человек». Но он шепчет: «Завтра мы отправляемся в три часа».
И мы в самом деле пускаемся в путь в три часа, так как я их слуга и исполняю их приказания. Ясно и холодно, нет ветра. Когда светает, мы видим далеко вперед. Очень тихо. Мы ничего не слышим, кроме биения наших сердец. В этой тишине их хорошо слышно. Мы словно лунатики, бродящие во сне. Мы блуждаем во сне, пока не падаем. Тогда мы знаем, что должны встать, и снова видим тропу и слышим стук своего сердца. Иногда, идя вот так, я вижу странные сны, мне приходят на ум странные мысли. Зачем живет Ситка Чарли, спрашиваю я себя. Зачем Ситка Чарли так работает, голодает, мучится? Потому что получает семьсот пятьдесят долларов в месяц – ведь это глупый ответ. И однако – это ответ. Потом я никогда в своей жизни не обращал внимания на деньги. Потому что с этого дня в меня вошла большая мудрость. Словно яркий свет осенил меня, и я ясно увидел, что человек живет не ради денег, но ради счастья, которое не может быть ни подарено, ни куплено, ни продано и стоит дороже золота всего мира.







