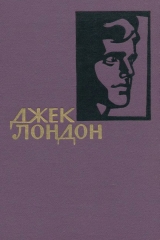
Текст книги "Собрание сочинений в 14 томах. Том I"
Автор книги: Джек Лондон
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
Смерть Лигуна
Кровь за кровь, род за род.
Закон племени тлинкет.
– Слушай теперь о смерти Лигуна...
Рассказчик замолк, точнее, сделал паузу и многозначительно взглянул на меня. Я посмотрел бутылку на свет костра, отметил пальцем, сколько нужно оставить, и передал ему – разве моим собеседником не был Палитлум по прозвищу Пьяница. Много историй услышал я от этого неграмотного книжника и давно уже ждал, чтобы он поведал мне о временах Лигуна: он один хорошо помнил те времена.
Он откинул назад голову и пробормотал что-то, потом послышалось бульканье, и на неровной поверхности утеса, где мы сидели, заплясала чудовищная человеческая тень с громадной опрокинутой бутылкой в руке. Палитлум оторвался от бутылки, причмокнул и грустно поглядел вверх, на небо, где играли тусклые отблески северного сияния.
– Удивительный напиток, – сказал он. – Холодный, как вода, и горячий, как огонь. Пьющему он придает силу и у пьющего отнимает силу. Стариков он превращает в юношей, а юношей в стариков. Усталого он заставляет встать и идти вперед, а бодрого погружает в сон. Мой брат, обладавший сердцем кролика, выпил этого напитка и убил четырех врагов. Мой отец был подобен матерому волку, который то и дело скалит клыки и огрызается; но когда он выпил, то побежал от врага и был убит выстрелом в спину. Очень удивительный напиток.
– Это «Три Звездочки», не то, что та бурда, которой они полощут свои желудки, – отвечал я, указывая вниз, где за зияющей черной пропастью виднелись огни костров на берегу – крохотные огоньки, придающие ощущение реальности окружающему.
Палитлум вздохнул и покачал головой:
– Поэтому-то я и здесь, с тобою.
Тут он кинул на бутылку и на меня такой красноречивый взгляд, который лучше всяких слов говорил о его нескрываемой страсти.
– Нет, – сказал я, пряча бутылку. – Расскажи о Лигуне. О «Трех Звездочках» мы поговорим после.
– Бутылка полна, а я ничуть не устал, – нагло клянчил он. – Дай, я приложу ее к губам и расскажу тебе о великих подвигах Лигуна и его последних днях.
– У пьющего он отнимает силу, – передразнил я его, – и бодрого погружает в сон.
– Ты мудр, – отвечал он без гнева и обиды. – Ты мудр, как и все твои братья. Бодрствуешь ты или спишь, «Три Звездочки» всегда при тебе, но я никогда не видел, чтобы ты был пьян. Вы забираете себе золото, скрытое в наших горах, и рыбу, что плавает в наших морях, а Палитлум и братья Палитлума роют для тебя золото, и ловят рыбу, и рады, когда ты с высоты своей мудрости соизволишь им приложиться к «Трем Звездочкам».
– Я собрался послушать о Лигуне, – нетерпеливо сказал я. – Ночь коротка, а завтра предстоит трудный путь. – Я зевнул и сделал вид, будто хочу встать, но Палитлум встревожился и, не мешкая, приступил к рассказу.
– В годы старости Лигун хотел, чтобы между племенами царствовал мир. В молодости он был первым среди воинов и вождем над всеми вождями Островов и Проливов. Всю жизнь он провел в схватках. Ни у кого нет на теле столько ран, сколько у него, от стрел с костяными наконечниками, и свинцовых пуль, и железных ножей. Он имел трех жен и от каждой жены по два сына; но все сыновья его, от первенца до самого младшего, погибли, сражаясь рядом с ним. Неугомонный, как медведь-плешак, он рыскал по всей стране, до Уналяшки и Мелкого моря на севере, забирался к югу до островов Королевы Шарлотты и, говорят, прошел с кейками до дальнего залива Пьюджет Саунд, где убивал твоих братьев в их крепких домах.
Но, как я уже говорил, на старости лет он решил установить мир между племенами. Не потому, что он стал трусом или его слишком тянуло к теплому местечку у очага и полному котелку пищи. Он мог убивать так же коварно и жестоко, как самые кровожадные, он стягивал пояс в голодные дни, как самые молодые, и пускался в путь по бурным морям и опасным тропам, как самые отважные. Но вот из-за его деяний и в наказание за них его увезли на военном судне в твою страну, о Борода, пришелец из Бостона, и прошло много лет, прежде чем он вернулся, и я тогда был уже не мальчик, но еще не стал мужчиной. И Лигун, оставшийся бездетным на старости лет, привязался ко мне и приобщал меня к своей мудрости.
«Сражаться хорошо, о Палитлум, – говаривал он...» Д-а, Борода, в те дни меня звали не Палитлумом, а Оло, Вечно-Голодным. Пить я стал после. «Так вот, сражаться хорошо, – говорил Лигун, – но это глупо. Я своими глазами видел, что в стране людей из Бостона жители не сражаются друг с другом, и потому они сильны. Благодаря своей силе они приходят сюда, на Острова и Проливы, и мы – что дым костра или морской туман перед ними. Поэтому я говорю тебе, что сражаться очень хорошо, но глупо».
Поэтому-то Лигун, который был первым среди воинов, теперь громче всех заговорил о мире. Он был величайшим из вождей и самым богатым и, дожив до глубокой старости, он задал потлач. Никогда еще на свете не бывало такого пира. Вдоль берега стояли пятьсот каноэ, и в каждом приехало не менее десяти мужчин и женщин. На пир явились восемь племен; приехали все, от дряхлых стариков до новорожденных младенцев. Прослышав о пире Лигуна, прибыли, не побоявшись долгого пути, и мужчины из отдаленных племен, и путешественники, и золотоискатели. Семь дней они набивали себе желудки яствами и напитками. Он подарил восемь тысяч одеял. Я хорошо знаю это, ибо кто, как не я, вел счет гостям и рассаживал их соответственно роду и заслугам каждого. Раздав все, Лигун остался ни с чем, зато имя его было у всех на устах, и другие вожди скрипели зубами, завидуя его величию и славе.
Пользуясь тем, что слово его было законом, Лигун проповедовал мир; он ездил на все потлачи, празднества и собрания, чтобы говорить о мире. Случилось так, что мы, Лигун и я, поехали на большой пир к Ниблаку, вождю речного племени скутов, жившему недалеко от племени стикинов. Лигун был уже очень дряхл, и смерть его близка. Он кашлял от холода и от дыма костра, и нередко изо рта у него шла кровь, и мы думали, что он вот-вот умрет.
«Нет, – сказал он однажды, когда изо рта показалась кровь, – лучше умереть, когда кровь льется из-под ножа и слышится звон оружия и запах пороха, а люди громко вскрикивают, пораженные холодной сталью или быстрым свинцом!». Было видно, о Борода, что сердце Лигуна еще жаждало сражений.
От чилкатов до скутов путь не близкий, и мы много дней провели в каноэ. Пока люди склонялись над веслами, я сидел у ног Лигуна и слушал его поучения. Мне незачем говорить тебе о Законе, Борода, ибо знаю, что ты в Законе очень сведущ. Но все же я скажу тебе: Закон – кровь за кровь, род за род. Лигун подробно разъяснил мне его. Вот его слова:
«Знай, о Оло, что не велика честь убить человека, который ниже тебя. Убивай тех, кто стоит выше, и тогда заслужишь почет, соответствующий их положению. Если из двух противников прольешь кровь менее знатного, то уделом твоим будет позор, и даже женщины будут смеяться, проходя мимо. Я говорил уже, что хорошо жить в мире, но помни, Оло: если придется убивать, следуй Закону».
– Таков обычай племени тлинкет, – как бы оправдываясь, заметил Палитлум, а я подумал о воинах и убийцах своей Западной Страны и ничуть не удивился обычаю племени тлинкет.
– Итак, мы прибыли на пир к вождю скутов Ниблаку, – продолжал Палитлум. – Празднество было почти столь же великое, как потлач Лигуна. Были на нем и наши чилкаты, и индейцы из племени ситха, и стикины, соседи скутов, и врэнгелы, и гунаа. Были сэндоуны и такосы из бухты Хотон, их соседи, оки, с пролива Дугласа, люди с реки Наас, тонгасы с севера Диксона и, наконец, кейки с острова Куприянова. Затем были сиваши из Ванкувера, кассиары с Золотых Гор, теслины и даже стиксы с далекого Юкона.
Это было замечательное празднество. Но первым делом должна была состояться встреча вождей с Ниблаком, чтобы выпив кваса, забыть прежние распри. Мы научились приготовлять квас у русских – так сказал мне отец, а ему говорил это его отец. Но в квас Ниблак добавил сахару, муки, сушеных яблок и хмеля, и получился хороший и крепкий напиток для мужчин. Не такой хороший, как «Три Звездочки», о Борода, но все же очень хороший.
Квас был только для вождей, а вождей собралось человек двадцать. Так как Лигун был очень стар и пользовался большим почетом, мне разрешено было войти вместе с ним, чтобы он мог опираться на мое плечо, и я бы помогал ему садиться и вставать. У входа в дом Ниблака – а дом был сложен из бревен и очень большой – вожди, по обычаю, оставляли свои копья, ружья и ножи. Ты знаешь, о Борода, как напитки горячат кровь, и вновь вспыхивают старые обиды, и голова и рука начинают действовать быстро! Я заметил, что Лигун взял с собой два ножа; один он оставил у двери, а второй спрятал под одеяло, так что его можно было легко достать. Другие вожди поступили так же, и я боялся того, что должно произойти.
Вожди чинно расселись большим кругом. Я стоял рядом с Лигуном. В середине помещался бочонок с квасом, и раб разносил напиток. Сначала Ниблак произнес речь; в ней говорилось о дружбе и было много красивых слов. Затем он подал знак, и раб зачерпнул квасу и подал чашу, как это полагалось, Лигуну, ибо он был знатнейшим из собравшихся. Лигун выпил все до последней капли, и я помог ему встать, чтобы и он мог сказать речь.
Он нашел добрые слова для всех племен и вождей, похвалил щедрость Ниблака, устроившего такое пышное торжество, посоветовал, по обыкновению, всем жить в мире и в конце сказал, что квас очень хорош.
После него выпил Ниблак, ибо он был самый старший после Лигуна, а за ним по старшинству и знатности, пили и остальные вожди. Каждый из них говорил дружелюбные слова и хвалил квас, пока чаша не обошла круг.
Все ли я рассказал? Нет, не все, о Борода! Последний из них, худощавый, похожий на кошку вождь с молодым лицом и дерзкими глазами, мрачно выпил свою долю, затем плюнул на землю и не сказал ни слова.
Не сказать, что квас хорош, – оскорбление, плюнуть на землю – тяжкое оскорбление. И он осмелился на это. Было известно, что он вождь стиксов с Юкона, но больше о нем ничего не знали.
Да, это было тяжкое оскорбление. Но заметь, о Борода, что оскорбление было нанесено не Ниблаку, хозяину пира, а самому знатному из вождей, сидевших в кругу – таков обычай. А самым знатным был Лигун. Все разом замолчали. Глаза были устремлены на него: что он сделает? Но Лигун не шелохнулся. Его высохшие уста не дрогнули, ноздри не раздулись, и веки не опустились. Но я видел, как потемнело его лицо, как темнеют лица у стариков в тягостные дни голодных зим, когда плачут женщины и дети хнычут, когда нет мяса и нет надежды его получить. И тем же печальным взглядом смотрел сейчас Лигун.
Настала мертвая тишина. Можно было подумать, что кругом сидят мертвецы, если бы вожди не ощупывали для верности ножей, спрятанных в складках одеял, и если бы каждый из них не оглядывал испытующим взглядом своих соседей. Я был тогда совсем юношей, но я понял, что такое случается лишь раз за всю жизнь.
Вождь стиксов встал – все, не отрываясь, следили за ним – и подошел к Лигуну.
«Я – Опитса, Нож», – сказал он.
Но Лигун ничего не ответил и даже не посмотрел на него – он не мигая смотрел в землю.
«Ты – Лигун, – сказал Опитса. – Ты убил многих воинов. А я еще жив».
Лигун молча подал мне знак, и я помог ему подняться. Лигун выпрямился, он был похож тогда на вековую сосну, голую и седую, но все еще способную устоять под натиском бури и тяжестью снега. Он смотрел вперед немигающим взглядом, но казалось, и не видел Опитса и не слышал его слов.
Опитса славно с ума сходил от злости и приплясывал на негнущихся ногах перед Лигуном, как обычно делают, когда хотят показать свое презрение. Затем он затянул песню о своем величии и о величии своего племени, и песня его была полна нападок на племя чилкатов и на Лигуна. Завывая и пританцовывая, он сбросил с себя одеяло и, выхватив нож, стал вертеть им перед лицом Лигуна. И песня, что он пел, была Песнью Ножа.
В хижине слышно было только пение Опитса; вожди сидели молча, как мертвецы, и блеск ножа как будто вы-зывал ответные искры в их глазах. Лигун тоже не произнес ни слова. Он знал, что смерть его близка, и не боялся ее. Нож пел свою песню и приближался к Лигуну, но тот смотрел перед собой немигающими глазами и не отклонялся ни вправо, ни влево, ни назад.
Опитса два раза ударил его ножом в лоб, и кровь брызнула из раны. Тогда-то Лигун подал мне знак поддержать его и помочь ему пойти. И он презрительно рассмеялся в лицо Опитса, по прозвищу Нож, отодвинул его в сторону, как отодвигают нависшую над тропой ветку, и прошел мимо.
И я понял, что Лигун считал позором пролить кровь Опитса перед лицом более знатных вождей. Я вспомнил Закон и понял, что Лигун собирается следовать Закону. Но самым знатным после него был Ниблак, потому и направился Лигун к Ниблаку, опираясь о мое плечо. С другой стороны за него уцепился Опитса, слишком незначительная персона, чтобы столь великий вождь, как Лигун, осквернил его кровью свои руки. И хотя нож Опитса снова и снова кусал тело Лигуна, тот и бровью не повел. Так мы трое подошли к испуганному, завернувшемуся в одеяло Ниблаку.
И тут вспыхнули былые обиды и вспомнились забытые раздоры. Брат Ламука, вождя кейков, когда-то утонул в дурных водах Стикина, и племя стикинов не принесло выкуп одеялами, как полагалось по обычаю. Поэтому Ламук вонзил свой длинный нож прямо в сердце Клок-Куца, вождя стикинов. А Катчахук вспомнил ссору своих сородичей с реки Наас с тонгасами, живущими на севере Диксона, и убил их вождя выстрелом из револьвера, и поднялся большой шум. Всех охватила жажда крови, и вождь убивал вождя или сам падал от руки другого. И каждый старался ранить ножом или выстрелом из револьвера Лигуна, ибо тот, кому удалось бы убить его, стал бы знаменитым и покрыл себя неувядаемой славой. Они накинулись на него, как волки на лося, но их было так много, что они мешали друг другу, и каждому приходилось сражаться с другими, чтобы пробить себе дорогу к Лигуну, и вокруг была страшная свалка.
А Лигун подвигался медленно, не спеша, словно впереди у него было еще много-много лет. Казалось, он уверен, что ему удастся исполнить Закон, прежде чем погибнет сам. Он шел медленно, ножи вонзались в него, и он был залит кровью. Хотя никто не собирался меня трогать, ибо я был лишь юношей, но ножи все же попали в меня и обжигали горячие пули. А Лигун все еще опирался на мое сильное плечо, и Опитса вертелся вокруг, и мы трое подвигались вперед. Когда мы остановились перед Ниблаком, тот испугался и накрыл голову одеялом. Племя скутов всегда отличалось трусостью.
Гулзуг, рыболов, и Кадишан, охотник, сцепились, отстаивая честь своих племен. Они яростно боролись и в схватке сбили Опитса и его стали топтать ногами. Брошенный кем-то нож попал в горло Скульпина, вождя племени ситхов; он взмахнул руками, пошатнулся и, падая, увлек меня за собой.
Лежа на земле, я видел, как Лигун склонился над Ниблаком, сорвал с его головы одеяло и повернул лицо к свету. Лигун не спешил. Кровь слепила ему глаза, и он протер их тыльной стороной ладони. Еще раз убедившись, что перед ним Ниблак, он провел ножом по его горлу, как охотник проводит ножом по горлу трепещущей косули. Затем он выпрямился и, слегка покачиваясь, запел Песню Смерти. Тогда Скульпин, тот самый, что сбил меня, с земли выстрелил в него из револьвера. Лигун зашатался и упал, как падает сосна в объятия ветра...
Палитлум замолчал. Его заблестевшие от воспоминаний глаза были устремлены в огонь, и щеки пылали.
– Ну, а ты, Палитлум? – спросил я. – Что сделал ты?
– Я? Я помнил Закон и убил Опитса по прозвищу Нож, и это было очень хорошо. И я вытащил нож Лигуна из горла Ниблака и убил Скульпина, опрокинувшего меня на землю. Я был еще юношей, и любой убитый мною вождь возвеличивал меня. Лигун был мертв, я был не нужен ему, и я действовал ножом, выбирая самых знатных из оставшихся в живых вождей.
Палитлум порылся в складках своей одежды, достал обшитые бисером ножны и вытащил из них нож. Нож был самодельный, кое-как сработанный из пилы, – такие можно найти у стариков в любом селении на Аляске.
– Это нож Лигуна? – спросил я.
Палитлум кивнул головой.
– Я дам тебе за него десять бутылок с «Тремя Звездочками».
Палитлум медленно перевел на меня взгляд
– Я слаб, как вода, и податлив как женщина. Мой желудок пропитан квасом, самогоном и «Тремя Звездочками». Зрение у меня ослабело, слух потерял остроту, а сила обратилась в жир. Никто меня не уважает, и зовут Палитлум-Пьяница. Но на потлаче у Ниблака, вождя скутов, я заслужил почет, и память об этом пире и память о Лигуне мне дорога. И если бы ты все море превратил в «Три Звездочки» и предложил мне, я ножа бы не отдал. Я – Палитлум-Пьяница, но я был Оло, Вечно-Голодным, который поддерживал своей молодой силой Лигуна.
– Ты великий человек, Палитлум, – сказал я, – и я уважаю тебя.
Палитлум протянул руку.
– Отдай мне за рассказ «Три Звездочки», которые спрятал у себя, – попросил он.
И когда я повернулся, то увидел на неровной поверхности скалы чудовищную тень человека с громадной опрокинутой бутылкой в руке.
Светлокожая Ли Ван
– Солнце опускается, Каним, и дневной жар схлынул!
Так сказала Ли Ван мужчине, который спал, накрывшись с головой беличьим одеялом; сказала негромко, словно знала, что его надо разбудить, но страшилась его пробуждения. Ли Ван побаивалась своего рослого мужа, столь непохожего на всех других мужчин, которых она знала.
Лосиное мясо зашипело, и женщина отодвинула сковородку на край угасающего костра. В то же время она поглядывала на обоих своих гудзонских псов, а те жадно следили за каждым ее движением, и с их красных языков капала слюна. Громадные косматые звери, они сидели с подветренной стороны в негустом дыму костра, спасаясь от несметного роя мошкары. Но как только Ли Ван отвела взгляд и посмотрела вниз, туда, где Клондайк катил меж холмов свои вздувшиеся воды, один из псов на брюхе подполз к костру и ловким кошачьим ударом лапы сбросил со сковороды на землю кусок горячего мяса. Однако Ли Ван заметила это краешком глаза, и пес, получив удар поленом по носу, отскочил, щелкая зубами и рыча.
– Эх ты, Оло, – засмеялась женщина, водворив мясо на сковородку и не спуская глаз с собаки. – Никак наесться не можешь, а все твой нос виноват – то и дело в беду попадаешь.
Но тут к Оло подбежал его товарищ, и вместе они взбунтовались против женщины. Шерсть на их спинах и загривках вздыбилась от ярости, тонкие губы искривились и приподнялись, собравшись уродливыми складками и угрожающе обнажив хищные клыки. Дрожали даже их сморщенные ноздри, и псы рычали с волчьей ненавистью и злобой, готовые прыгнуть на женщину и свалить ее с ног.
– И ты тоже, Баш, строптивый, как твой хозяин, – все норовишь укусить руку, которая тебя кормит! Что лезешь не в свое дело? Вот тебе, получай!
Ли Ван решительно размахивала поленом, но псы увертывались от ударов и не собирались отступать. Они разделились и стали подбираться к ней с разных сторон, припадая к земле и рыча. К этой борьбе, в которой человек утверждает свое господство над собакой, Ли Ван привыкла с самого детства – с тех пор как училась ходить в родном вигваме, ковыляя от одного вороха шкур до другого, – и потому знала, что близится опасный момент. Баш остановился, напружив тугие мускулы, изготовившись к прыжку, Оло еще подползал, выбирая удобное место для нападения.
Схватив две горящие головни за обугленные концы, женщина смело пошла на псов. Оло попятился, а Баш прыгнул, и она встретила его в воздухе ударом своего пылающего оружия. Раздался пронзительный визг, остро запахло паленой шерстью и горелым мясом, и пес повалился в грязь, а женщина сунула головню ему в пасть. Бешено огрызаясь, пес отскочил в сторону и, сам не свой от страха, отбежал на безопасное расстояние. Отступил и Оло, после того как Ли Ван напомнила ему, кто здесь хозяин, бросив в него толстой палкой. Не выдержав града головешек, псы наконец удалились на самый край полянки и принялись зализывать свои раны, повизгивая и рыча.
Ли Ван сдула пепел с мяса и села у костра. Сердце ее билось не быстрее, чем всегда, и она уже позабыла о схватке с псами – ведь подобные происшествия случались каждый день. А Каним не только не проснулся от шума, но захрапел еще громче.
– Вставай, Каним, – проговорила женщина. – Дневной жар спал, и тропа ожидает нас.
Беличье одеяло шевельнулось, и смуглая рука откинула его. Веки спящего дрогнули и опять сомкнулись.
– Вьюк у него тяжелый, – подумала Ли Ван, – и он устал от утреннего перехода.
Комар ужалил ее в шею, и она помазала незащищенное место мокрой глиной, отщипнув кусочек от комка, который лежал у нее под рукой. Все утро, поднимаясь на перевал в туче гнуса, мужчина и женщина обмазывали себя липкой грязью, и грязь, высыхая на солнце, покрывала лицо глиняной маской. От движения лицевых мускулов маска эта отваливалась кусками, и ее то и дело приходилось подновлять, так что она была где толще, где тоньше, и вид у нее был престранный.
Ли Ван стала тормошить Канима осторожно, но настойчиво, пока он не приподнялся и не сел. Прежде всего он посмотрел на солнце и, узнав время по этим небесным часам, опустился на корточки перед костром и жадно набросился на мясо. Это был крупный индеец, в шесть футов ростом, широкогрудый и мускулистый, с более проницательным, более умным взглядом, чем у большинства его соплеменников. Глубокие складки избороздили лицо Канима и, сочетаясь с первобытной суровостью, свидетельствовали о том, что этот человек с неукротимым нравом упорен в достижении цели и способен, если нужно, быть жестоким с противником.
– Завтра, Ли Ван, мы будем пировать. – Он начисто высосал мозговую кость и швырнул ее собакам. – Мы будем есть оладьи, жаренные на свином сале, и сахар, который еще вкуснее...
– Оладьи? – переспросила она, неуверенно произнося незнакомое слово.
– Да, – ответил Каним снисходительно, – и я научу тебя стряпать по-новому. В этом ты ничего не смыслишь, как и во многом другом. Ты всю жизнь провела в глухом уголке земли и ничего не знаешь. Но я, – он выпрямился и гордо окинул ее взглядом, – я – великий землепроходец и побывал всюду, даже у белых людей; и я сведущ в их обычаях и в обычаях многих народов. Я не дерево, которому от века назначено стоять на одном месте, не ведая, что творится за соседним холмом; ибо я, Каним-Каноэ, создан, чтобы бродить повсюду, и странствовать, и весь мир исходить вдоль и поперек.
Женщина смиренно склонила голову.
– Это правда. Я всю жизнь ела только рыбу, мясо и ягоды и жила в глухом уголке земли. И я не знала, что мир так велик, пока ты не похитил меня у моего племени и я не стала стряпать тебе пищу и носить вьюки по бесконечным трапам. – Она вдруг взглянула на него:
– Скажи мне, Каним, будет ли конец нашей тропе?
– Нет, – ответил он. – Моя тропа, как мир: у нее нет конца. Моя тропа пролегает по всему миру, и я странствую с тех пор, как встал на ноги, и буду странствовать, пока не умру. Быть может, и отец мой и мать моя умерли – не знаю, ведь я давно их не видел, но мне все равно. Мое племя похоже на твое. Оно всегда живет на одном и том же месте, далеко отсюда, но мне нет дела до него, ибо я – Каним-Каноэ.
– А я, Ли Ван, тоже должна брести по твоей тропе, пока не умру, хоть я так устала?
– Ты, Ли Ван, моя жена, а жена идет по тропе мужа, куда бы та ни вела. Это закон. А если такого закона нет, так это станет законом Канима, ибо Каним сам создает законы для себя и своих.
Ли Ван снова склонила голову, так как знала лишь один закон: мужчина – господин женщины.
– Не спеши, – остановил ее Каним, когда она принялась стягивать ремнями свой вьюк со скудным походным снаряжением, – солнце еще горячо, а тропа идет под уклон и удобна для спуска.
Женщина послушно опустила руки и села на прежнее место.
Каним посмотрел на нее с задумчивым любопытством.
– Ты никогда не сидишь на корточках, как другие женщины, – заметил он.
– Нет, – отозвалась она. – Это неудобно. Мне это трудно; так я не могу отдохнуть.
– А почему ты во время ходьбы ставишь ступни не прямо, а вкось?
– Не знаю. Должно быть, потому, что ноги у меня не такие, как у других женщин.
Довольный огонек мелькнул в глазах Канима, и только.
– Как и у всех женщин, волосы у тебя черные, но разве ты не знаешь, что они мягкие и тонкие, мягче и тоньше, чем у других?
– Знаю, – ответила она сухо; ей не нравилось, что он так спокойно разбирает ее недостатки.
– Прошел год с тех пор, как я увел тебя от твоих родичей, а ты все такая же робкая, все так же боишься меня, как и в тот день, когда я впервые взглянул на тебя. Отчего это?
Ли Ван покачала головой.
– Я боюсь тебя, Каним. Ты такой большой и странный. Но и до того, как на меня посмотрел ты, я боялась всех юношей. Не знаю... не могу объяснить... только мне почему-то казалось, что я не для них... как будто...
– Говори же, – нетерпеливо понукал он, раздраженный ее нерешительностью.
– ...как будто они не моего рода.
– Не твоего рода? – протянул он. – А какого же ты рода?
– Я не знаю, я... – Она в замешательстве покачала головой. – Я не могу объяснить словами то, что чувствовала. Я была какая-то странная. Я была не похожа на других девушек, которые хитростью приманивали юношей. Я не могла вести себя так. Мне это казалось чем-то дурным, нехорошим.
– Скажи, а твое первое воспоминание... о чем оно? – неожиданно спросил Каним.
– О Пау-Ва-Каан, моей матери.
– А что было раньше, до Пау-Ва-Каан, ты помнишь?
– Нет, ничего не помню.
Но Каним, не сводя с нее глаз, словно проник в глубину ее души и в ней прочел колебание.
– Подумай, Ли Ван, подумай хорошенько! – угрожающе проговорил он.
Женщина замялась, глаза ее смотрели жалобно и умоляюще; но его воля одержала верх и сорвала с губ Ли Ван вынужденное признание.
– Да ведь это были только сны, Каним, дурные сны детства, тени небывшего, неясные видения, от каких иногда скулит собака, задремавшая на солнцепеке.
– Поведай мне, – приказал он, – о том, что было до Пау-Ва-Каан, твоей матери.
– Все это я позабыла, – не сдавалась она. – Девочкой я грезила наяву, днем, с открытыми глазами, но когда я рассказывала другим о том, какие странные вещи видела, меня поднимали на смех, а, дети пугались и бежали прочь. Когда же я стала рассказывать Пау-Ва-Каан свои сны, она меня выбранила, сказала, что это дурные сны, а потом прибила. Должно быть, это была болезнь, вроде падучей у стариков, но с возрастом она прошла, и я перестала грезить. А теперь... не могу вспомнить. – Она растерянно поднесла руку ко лбу. – Они где-то тут, но я не могу их поймать, разве что...
– Разве что... – повторил Каним, требуя продолжения.
– Разве что одно видение... Но ты будешь смеяться надо мной, такое оно нелепое, такое непохожее на правду.
– Нет, Ли Ван. Сны – это сны. Может быть, они – воспоминания о тех жизнях, которые мы прожили раньше. Вот я, например, был когда-то лосем. Я уверен, что некогда был лосем, – сужу по тому, что видел и слышал во сне.
Как ни старался Каним скрыть свое возрастающее беспокойство, это ему не удавалось, но Ли Ван ничего не заметила: с таким трудом подыскивала она слова, чтобы описать свой сон.
– Я вижу покрытую снегом поляну среди деревьев, – начала она, – и на снегу след человека, который из последних сил прополз тут на четвереньках. Я вижу и самого человека на снегу, и мне кажется, что он где-то совсем близко. Он не похож на обыкновенных людей: лицо его обросло волосами, густыми волосами, а волосы, и на лице и на голове, желтые, как летний мех у ласки. Глаза у него закрыты, но вот они открываются и начинают искать что-то. Они голубые, как небо, и наконец они находят мои глаза и перестают искать. И рука его движется медленно, словно она очень слабая, и я чувствую...
– Ну, – хрипло прошептал Каним. – Что же ты чувствуешь?
– Нет, нет! – поспешно выкрикнула она. – Я ничего не чувствую. Разве я сказала «чувствую»? Я не то хотела сказать. Не может быть, чтобы я это хотела сказать. Я вижу, я только вижу, и это все, что я вижу: человек на снегу, и глаза у него, как небо, а волосы, как мех ласки. Я видела это много раз и всегда одно и то же – человек на снегу...
– А себя ты не видишь? – спросил Каним, подаваясь вперед и пристально глядя на нее. – Видишь ли ты себя рядом с этим человеком на снегу?
– Как могу я видеть себя рядом с тем, чего нет? Ведь я существую!
Он с облегчением выпрямился, и величайшее торжество мелькнуло в его взгляде, но он отвел глаза от женщины, чтобы она ничего не заметила.
– Я объясню тебе, Ли Ван, – сказал он уверенно. – Все это сохранилось в твоей памяти от прежней жизни, когда ты была птичкой, маленькой пташкой. Тут нет ничего удивительного. Я когда-то был лосем, отец моего отца после смерти стал медведем, это сказал шаман, а шаманы не лгут. Так мы переходим из жизни в жизнь по Тропе Богов, и лишь богам все ведомо и понятно. То, что нам снится и кажется, – это только воспоминания, и собака, что скулит во сне на солнцепеке, конечно, видит и вспоминает то, что некогда происходило. Баш, например, когда-то был воином. Я уверен, что он был воином.
Каним кинул псу кость и поднялся.
– Вставай, будем собираться. Солнце еще печет, но прохлады ждать нечего.
– А какие они, эти белые люди? – осмелилась спросить Ли Ван.
– Такие же, как и мы с тобой, – ответил он, – разве что кожа у них посветлее. Ты увидишь их раньше, чем. угаснет день.
Каним подвязал меховое одеяло к своему полуторастафунтовому вьюку, обмазал лицо мокрой глиной и присел отдохнуть, ожидая, пока Ли Ван навьючит собак. Оло съежился при виде палки в ее руках и безропотно дал привязать себе на спину вьюк весом в сорок с лишним фунтов. Но Баш не выдержал – взвизгнул и зарычал от обиды и ярости, когда ненавистная ноша коснулась его спины. Пока Ли Ван туго стягивала ремни, он, ощетинившись, скалил зубы, то косясь на нее, то оглядываясь, и волчья злоба горела в этих взглядах. Каним сказал, посмеиваясь:
– Я же говорил, что когда-то он был великим воином! Эти меха пойдут по дорогой цене, – заметил он, надев головной ремень и легко подняв свой вьюк с земли. – Белые люди хорошо платят за такой товар. Им самим охотиться некогда, да и холода они не выносят. Скоро мы будем пировать, Ли Ван; такой пир зададим, какого ты не видывала ни в одной из своих прежних жизней.
Она пробормотала что-то, выражавшее признательность и благодарность мужу за его доброту, надела на себя лямки и согнулась под тяжестью вьюка.
– В моей следующей жизни я хотел бы родиться белым человеком, – добавил Каним и мерно зашагал вниз по тропе, которая круто спускалась в ущелье.








