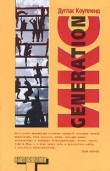Текст книги "Поколение «Икс»"
Автор книги: Дуглас Коупленд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Был холодный серый день; Сирина по желтой осенней лужайке пронесла Бака в корабль. Внутри, когда они сели и закрыли двери, Бак из последних сил включил зажигание и поцеловал Сирину. И правда, любящие волны ее сердца запустили двигатель, корабль поднялся высоко в небо и вышел из гравитационного поля Техлахомы. И перед тем как потерять сознание и умереть из-за отсутствия кислорода, Сирина увидела, как с лица Бака, точно с ящерицы, кусками падает на приборную доску бледно-зеленая франкенштейновская кожа, скрывавшая молодого розовощекого героя-астронавта, а снаружи, на черном фоне, заляпанном каплями пролитого молока – звездами, мерцает бледно-голубым яичком Земля.
Между тем внизу на Техлахоме Арлин и Дарлин, обе уволенные с работы, возвращались домой – как раз когда взлетела ракета и их сестра исчезла в стратосфере, оставив за собой длинную рассеивающуюся белую полосу. Входить в дом им было невмоготу, и они сели на качели, глядя в точку, где исчезал след от корабля, вслушиваясь в скрип цепей и завывание ветра над прерией.
– Ты ведь понимаешь, – произнесла Арлин, – что все Баковы обещания нас воскресить собачьей какашки не стоили.
– Да знаю я, – сказала Дарлин. – Только я все равно жутко ревную – ничего не попишешь.
– Да уж, не попишешь.
И две сестры сидели дотемна на фоне люминесцирующей Земли, соревнуясь – кто выше раскачается.
ИЗМЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ
Нам с Клэр так и не удалось влюбиться друг в друга, хотя мы оба старались изо всех сил. Такое бывает. Кстати, раз уж на то пошло – почему бы, собственно, не перейти к рассказу обо мне? С чего начать? Ну-с, меня зовут Эндрю Палмер, мне без пяти минут тридцать, я изучаю языки (моя специальность – японский). Семья у нас большая (подробнее о ней – позже); родился я дистрофиком, кожа да кости. Тем не менее, вдохновившись отрывком из дневников г-на поп-художника Энди Уорхола– он пишет, как огорчился, когда на шестом десятке узнал, что, если бы занимался гимнастикой, мог бы иметь тело (вообразите: не иметь тела!), – я развил бешеную деятельность. Приступил к нудным упражнениям, превратившим мою грудную клетку (этакую птичью клетку) в голубиную грудь. Так что теперь у меня есть тело – и одной проблемой меньше. Но зато, как я упоминал, я никогда не влюблялся, и это – проблема. Всякий раз дело кончается тем, что мы становимся друзьями, а это, скажу я вам, отвратительно. Я хочу влюбиться. По крайней мере, мне кажется, что я этого хочу. Точно не знаю. Это ведь дело такое… темное. Ну ладно, ладно, я хотя бы признаю, что не хочу прожить жизнь в одиночестве, и чтобы проиллюстрировать это, расскажу вам одну тайную историю, которой не поделюсь даже с Дегом и Клэр на сегодняшнем пикнике. Она звучит так:
Жил да был молодой человек по имени Эдвард, жил сам по себе, и жил весьма достойно. В нем было столько собственного достоинства, что, когда вечером в шесть тридцать он готовил свой одинокий ужин, то всегда следил за тем, чтобы украсить его задорной веточкой петрушки. Такой уж, на его взгляд, был у петрушки вид: задорный. Задорный и благородный. Он также старался мыть и тут же вытирать посуду – сразу по окончании своей одинокой вечерней трапезы. Своими обедами-ужинами и вымытой посудой не гордятся только одинокие люди, так что Эдвард считал, что вправе гордиться своим обычаем – пусть ему и не нужен никто, но одиноким он быть не собирался. Конечно, в уединении не очень-то весело – но зато гораздо меньше людей, которые тебя раздражают!
БЕМБИФИКАЦИЯ: восприятие живых, из плоти и крови, существ как персонажей мультфильмов, олицетворяющих идеалы буржуазно-иудео-христианской морали.
СПИД ЗА ПОЦЕЛУЙ (ГИПЕРКАРМА): глубоко укоренившееся убеждение в том, что наказание почему-то всегда оказывается тяжелее преступления: озоновые дыры – за кидание мусора мимо урны.
Однажды Эдвард не стал вытирать посуду, а вместо этого выпил бутылку пива. Просто так – чтобы взбодриться. Чтобы расслабиться. И вскоре петрушка из меню исчезла, а пиво – появилось. Он нашел для этого оправдание. Не помню только какое.
Скоро слово «ужин» стало означать тоскливое «бум» замороженного полуфабриката о решетку микроволновой печи, приветствуемое позвякиванием льда в бокале с виски. Бедному Эдварду осточертело питаться наедине с собой блюдами собственноручного приготовления, и в скором времени он переключился на местный магазинчик «Микроволновая кухня», где брал, скажем, буррито с мясом и фасолью, которые запивал польской вишневкой. К этому напитку он пристрастился одним долгим, сонным летом, которое провел в качестве продавца за унылым, никому не интересным прилавком коммунистического книжного магазинчика имени Энвера Ходжи.
Но и это Эдвард вскоре счел слишком обременительным, и в конце концов его ужины сократились до стакана молока вперемешку с тем, что находилось уцененного на полках «Ликерного погребка». Он начал забывать, что такое «твердый стул» (антоним – жидкий), и воображал, что в глазах у него бриллианты.
Повторим: бедный Эдвард – его жизнь, похоже, постепенно становилась неуправляемой. К примеру, как-то Эдвард был на вечеринке в Канаде, а на следующее утро проснулся в Соединенных Штатах, в двух часах езды, и хоть убей не мог вспомнить ни как добирался домой, ни как пересекал границу.
А вот что Эдвард думал: он думал, что является весьма смышленым парнем – в некоторых отношениях. Он поучился в школе и знал множество слов. Он мог сказать, что «вероника» – это кусочек тончайшей материи, наброшенной на лицо Иисуса, а «каракульча» – шкурка недоношенного ягненка. Слова, слова, слова.
Эдвард представлял, что создает с помощью этих слов свой собственный мир – волшебную и прекрасную комнату, обитателем которой был только он, комнату, имеющую форму двойного куба (согласно определению английского архитектора Адама). В комнату можно было проникнуть только через выкрашенную в темный цвет дверь, обитую кожей и конским волосом, чтобы заглушить стук каждого, кто попытался бы войти и помешать Эдварду сосредоточиться.
В этой комнате он провел десять бесконечных лет. На стенах висели дубовые полки, прогибающиеся под тяжестью книг; свободное пространство между полками, сапфировое, как вода глубочайших бассейнов, занимали карты в рамах. Пол целиком покрывали великолепные голубые восточные ковры, посеребренные выпавшей шерстью Людвига – верного спаниеля, следовавшего за Эдвардом повсюду. Людвиг снисходительно выслушивал остроумные высказывания Эдварда о жизни, каковые тот, большую часть дня проводя за письменным столом, изрекал не так уж редко. За этим же столом он писал и курил кальян, глядя сквозь освинцованные стекла окон на ландшафт: неизменно дождливый осенний шотландский полдень.
Разумеется, посетители в эту волшебную комнату не допускались, и только миссис Йорк было позволено приносить ему дневной рацион – эта бабушка в твиде, с аккуратным пучком на затылке ежедневно доставляла Эдварду его неизменный шерри-бренди (что же еще) или, по прошествии времени, сорокаунциевую бутылку виски «Джек Дэниэлс» и стакан молока.
Да, комната Эдварда была изысканной, иногда – до такой степени, что могла существовать лишь в черно-белом изображении, как старая салонная кинокомедия. Элегантно подмечено, верно?
Итак. Что же произошло?
КАТАСТРОФИЛИЯ: тяга к чрезвычайным ситуациям.
Однажды Эдвард стоял на верхней ступеньке библиотечной лестницы на колесиках и доставал старинную книгу, которую хотел перечитать, стараясь не думать о том, что миссис Йорк сегодня что-то запаздывает с бутылкой. Когда же он спустился с лестницы, то ногой вляпался в оставленную Людвигом кучу. Эдвард страшно рассердился. Он направился к мягкому, обитому атласом креслу, за которым посапывал Людвиг. «Людвиг, – заорал он, – ах ты негодник, ах ты…»
Но закончить Эдвард не успел, поскольку, скакнув за диван, Людвиг самым волшебным и (поверьте мне) неожиданным образом из пылкого, любвеобильного мочалкообразного щенка с радостно виляющим куцым хвостиком превратился в разъяренного, иссиня-черного, с черной пастью ротвейлера, который вцепился Эдварду в горло, чудом не задев яремную вену, – Эдвард в ужасе отпрянул. Затем новый Людвиг-по-совместительству-Цербер, роняя клочья пены, с отчаянным, щемящим душу воем дюжины собак, попавших под грузовик на шоссе, наделил свои клыки на Эдвардову голень.
Эдвард судорожно взлетел на лестницу и воззвал к миссис Йорк, которую по воле судьбы только что заметил через окно. В светлом парике и купальном халате она вскакивала в маленькую красную спортивную машину профессионального теннисиста, навсегда оставляя Эдварда без присмотра. Надо сказать, она сногсшибательно выглядела в трагическом сиянии нового сурового неба, раскаленного, лишенного озона – ни капельки не похожего на небосвод осенней Шотландии.
Да уж.
Бедный Эдвард.
Комната стала для него капканом. Он мог лишь кататься на лестнице взад-вперед вдоль полок. Жизнь в его обиталище, когда-то очаровательном, превратилась в кошмар. До выключателя кондиционера нельзя было дотянуться, и воздух стал спертым, зловонным, калькуттским. И разумеется, с уходом миссис Йорк исчезли коктейли, способные сделать ситуацию терпимой.
Между тем, мрачно швыряя в Людвига том за томом в надежде отогнать чудовище, которое не переставало охотиться за бледными дрожащими пальцами его ног, Эдвард пробудил многоножек и уховерток, с давних пор дремавших позади забытых книг на верхней полке. Насекомые ползали по рукам Эдварда. Книги, брошенные в Людвига, как ни в чем не бывало отскакивали от его спины, и в результате ковер оказался усыпан серо– бурыми насекомыми; Людвиг же слизывал их своим длинным розовым языком.
Положение Эдварда было ужасно.
Оставался только один выход – покинуть комнату, и под яростный вой неугомонного Людвига Эдвард, затаив дыхание, раскрыл тяжелые дубовые двери (железистый вкус адреналина гальванизировал его язык) и со смешанным чувством испуга и печали впервые, можно сказать, за вечность покинул свою волшебную обитель.
Вечность в действительности равнялась десяти годам, и то, что увидел Эдвард за дверью, его поразило. Все то время, что он провел в прелестном изгнании за остроумничаньем в своей комнатке, остальное человечество – в отличие от него – деловито возводило огромный город, возводило не из слов, а из взаимоотношений. Сверкающий безграничный Нью-Йорк, слепленный из губной помады, артиллерийских гильз, свадебных тортов и картонных вкладышей для сорочек; город, построенный из железа, папье-маше и игральных карт; отвратительный/прекрасный мир, отделанный снаружи угарным газом, сосульками и лозами бугенвиллей. Его бульвары были бесплановы, суматошны, безумны. Повсюду мышеловки, триффиды и черные дыры. Но, несмотря на завораживающее безумие города, Эдвард заметил, что его многочисленные обитатели передвигаются по нему с беспечным видом, не беспокоясь о том, что за каждым углом их может ждать брошенный клоуном кремовый торт, направленный в коленную чашечку выстрел бойца «Красных бригад» или поцелуй восхитительной кинозвезды Софи Лорен. И спрашивать дорогу – бесполезно. Когда он спросил одного местного, где можно купить карту, тот посмотрел на Эдварда, как на сумасшедшего, и с криком убежал.
Так что Эдварду пришлось признать, что в этом Большом городе он – деревенщина. Он понял, что в плане обучения приемам и методам ему придется стартовать с нуля – и после десятилетнего гандикапа. Эта перспектива его пугала. Но так же как выходец из деревни дает себе клятву покорить новый город – надеясь на свой свежий взгляд на вещи, – дал подобную клятву и Эдвард.
И пообещал себе, что как только займет свое место в этом мире (не обварившись насмерть в его многочисленных фонтанах с кипящим одеколоном, не попав под колеса бессчетных фур, набитых злющими мультипликационными курицами, которые вечно разъезжают по городским улицам), то построит самую высокую башню. Эта серебряная башня будет служить маяком для всех путников, прибывающих в город с опозданием, как и он. А на крыше башни будет бар. В этом баре, знал Эдвард, он будет делать три вещи: смешивать коктейли с томатным соком и ломтиками лимона, исполнять джаз на пианино, оклеенном цинковыми пластинами и фотографиями забытых поп-звезд, а в маленьком розовом ларьке в глубине, возле туалетов, продавать (среди прочего) географические карты.
ВОЙДИ В ГИПЕРПРОСТРАНСТВО
– Энди, – Дег тычет в меня жирной куриной костью, возвращая на пикник. – Не сиди молчком. Твоя очередь рассказывать, и сделай одолжение, дружище, выдай дозу с высоким содержанием знаменитостей.
– Развлеки нас, милый, – добавляет Клэр. – Что-то ты в какое-то настроение впал…
Оцепенение – вот как называется мое настроение в этот миг, когда я сижу на рассыпающемся, сифилитичном, прокаженном, ни-разу-не-тронутом-колесами асфальте на углу Хлопковой и Сапфировой, обдумывая про себя свои истории и растирая пальца– ми пахучие веточки шалфея.
– Мой брат Тайлер однажды ехал в лифте вместе с Дэвидом Боуи.
– Сколько этажей?
– Не знаю. Я только помню – Тайлер не находил что сказать. Ну и не сказал ничего.
– Я обнаружила, – говорит Клэр, – что даже если тебе совсем не о чем говорить со знаменитостями, всегда можно сказать: «О, мистер Знаменитость! У меня есть все– все-все ваши альбомы» – даже если он не музыкант.
– Смотрите, – произносит, поворачивая голову, Дег. – Сюда едут какие-то люди – въявь.
Черный седан марки «бьюик», набитый молодыми японскими туристами, – а это редкость в Долине, посещаемой в основном канадцами и западными немцами, – плывет под горку, первый автомобиль за весь пикник.
ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ МАЛЫМ: философия, помогающая примириться с тем, что благосостояние тебе не суждено. «Я больше не мечтаю сколотить капитал или заделаться большой шишкой. Мне просто хочется обрести счастье в жизни и, может, открыть небольшое придорожное кафе в Айдахо».
ПОДМЕНА ЦЕННОСТЕЙ: замена модным или интеллектуально значимым предметом предмета просто дорогостоящего: «Брайан, ты оставил своего Камю у брата в „БМВ“.
– Они, должно быть, по ошибке свернули с Вербеновой. Спорим, они ищут цементных динозавров, которые у стоянки грузовиков «Кабазон», – замечает Дег.
– Энди, ты же знаешь японский. Пойди поговори с ними, – предлагает Клэр.
– Не будем торопить события. Пусть сначала остановятся и спросят дорогу, – что они, разумеется, немедленно и делают. Я поднимаюсь и иду поговорить с ними; стекло опускается, приведенное в действие электроникой. Внутри седана две пары, примерно моего возраста, в безукоризненных (можно сказать, стерильных, как если б они въезжали в зараженную химвыбросами зону) летних расслабушных шмотках и со сдержанными «пожалуйста-не-убивайте-меня» улыбками, которые японские туристы в Северной Америке приняли на вооружение несколько лет назад. Улыбки мгновенно заставляют меня занять оборонительную позицию, ибо меня бесит их убежденность в моей готовности к насилию. Одному богу известно, что они думают о нашем разношерстном квинтете и захолустной машине, на радиаторе которой расставлены щербатые тарелки с объедками. Живая реклама из жизни ковбоев.
Я говорю по-английски (к чему разрушать их представление об американской пустыне) и из последующей судорожной тарабарщины жестов и «они-ехать-туда-туда» выясняю, что японцы и в самом деле желают посетить динозавров. И вскоре, получив необходимые указания, они исчезают в облаке пыли и придорожного мусора; в заднее окно автомобиля просовывается фотоаппарат. Аппарат вверх ногами держит рука, палец нажимает на верхнюю кнопку, отщелкивая наш портрет, – тут Дег кричит:
– Смотрите! Фотоаппарат! Ну-ка, быстро – втяните щеки. Чтоб скулы, чтоб скулы аж торчали! – Потом, когда машина пропадает из виду, Дег набрасывается на меня: – Ну и на кой черт, позволь спросить, было прикидываться невеждой?
– Эндрю, у тебя отличный японский, – добавляет Клэр. – Ты мог бы их приятно удивить.
– В этом не было нужды, – отвечаю я, вспоминая, какой это был для меня облом в Японии, когда люди пытались говорить со мной по-английски. – Но все это таки напомнило мне одну сказочку, которую можно было бы сегодня рассказать.
– Умоляю, расскажи.
И вот, когда мои друзья, лоснящиеся от кокосового масла, разлеглись, впитывая солнечный жар, я начинаю повествование.
– Несколько лет назад я работал в Японии, в редакции одного подросткового журнала – была такая полугодовая программа обмена студентами, – и однажды со мной произошла странная вещь.
– Погоди, – прерывает Дег. – История подлинная?
– Да.
– Ага.
– Дело было в пятницу утром. Я как спец по зарубежным фотоматериалам разговаривал по телефону с Лондоном. Мне было нужно срочно выбить кой-какие фотографии «Депеш мод» у их менеджера, а он в то время отрывался у кого-то дома – на том конце провода слышался жуткий еврогалдеж. Одним ухом я приклеился к трубке, а другое зажал рукой, пытаясь отгородиться от шума в офисе – безумного казино сослуживцев Зигги Стардаста [16]16
Зигги Стардаст – герой альбома Дэвида Боуи «Взлет и падение Зигги Стардаста и марсианских пауков» (1972).
[Закрыть], где все беспрерывно взвинчивали себя десятидолларовыми чашечками токийского кофе, которые нам носили из магазина на другой стороне улицы.
Помню, что творилось у меня в голове: не о работе я думал, а о том, что каждый город имеет свой запах. Мысль эту заронили запахи токийских улиц – мясного бульона с лапшой и почти выветрившихся нечистот; шоколада и выхлопных газов. И я думал о запахе Милана – запахе корицы, дизельного топлива и роз; о запахе Ванкувера с его жаренной по-китайски свининой, соленой водой и кедрами. Я затосковал по родному Портленду и силился вспомнить запах его деревьев, ржавчины и болот, когда уровень гама в офисе резко понизился.
В комнату вошел крошечный пожилой человек в костюме от фирмы «Балмейн». Кожа у него была морщинистая, как кожура сморщенного яблока, но только темного торфяного цвета, и блестела, словно старая бейсбольная перчатка. Он был в бейсбольной кепке и по-приятельски болтал с моим начальством.
Мисс Уэно – вся из себя навороченная координаторша из отдела моды, сидевшая за соседним столом (волосы а-ля Олив Оул [17]17
Персонаж американского мультфильма.
[Закрыть]; рубашка венецианского гондольера; турецкие шаровары «Мечта гарема» и сапожки «Вива Лас-Вегас»), растерялась, как теряется ребенок, когда снежной зимней ночью в двери вваливается его вусмерть пьяный, медвежьих габаритов дядя. Я спросил мисс – Уэно, кто этот мужик, и она ответила – мистер Такамити, «кате», Великий Папа компании, американофил, обожающий хвастать, каким замечательным игроком в гольф показал себя в парижских борделях и как бегал трусцой по тасманийским игорным домам, зажав под мышками охапки лос-анджелесских блондинок.
Мисс Уэно была заметно взволнована. Я спросил отчего. Она сказала, что не взволнована вовсе, а зла. А зла потому, что, работай она хоть за десятерых, дальше этого убогого стола ей не продвинуться (кучка тесно сдвинутых столов в Японии равносильна нашим загончикам для откорма молодняка). «И не только потому, что я женщина, – сказала она. – Но и потому, что японка. В основном из-за того, что я японка. У меня есть амбиции. В любой другой стране я могла бы взлететь, а здесь я просто сижу. Я гублю свои амбиции». Она сказала, что с появлением мистера Такамити просто как-то острее почувствовала свое положение. Полную безысходность.
В этот момент мистер Такамити направился к моему столу. Так я и знал. Я жутко растерялся. В Японии начинаешь панически бояться, что тебя не дай бог выделят из толпы. Это худшее, что можно сделать с человеком.
– Вы, должно быть, Эндрю, – произнес он и пожал мне руку, точно торговец машинами «форд». – Поднимемся наверх. Выпьем. Поговорим, – сказал он; я же почувствовал, что мисс Уэно рядом со мной вспыхнула от негодования, как светофор. Я представил ее мистеру Такамити, но тот ответил небрежно-снисходительно. Нечленораздельным бурчанием. Бедные японцы. Бедная мисс Уэно. Она была права. Они в ловушке, каждый из них застрял намертво на своей ступеньке этой ужасной скучной лестницы.
Пока мы шли к лифту, я ощущал, как весь офис провожает меня завистливыми взглядами. Это была неприятная сцена, и я представлял себе, как они думают: «Да что он о себе возомнил?» Мне казалось, что я поступил бессовестно. Вроде как сыграл на своей заграничности. Мне казалось, что меня отлучили от синдзинруй («новых людей» – так называют японские газеты двадцатилетних офисных служащих). Что это такое, объяснить сложно. В Америке есть такие же ребята, и их ничуть не меньше, но у них нет общего названия -поколение Икс; они сознательно держатся в тени. У нас больше пространства, где можно спрятаться, затеряться; им можно воспользоваться для камуфляжа. В Японии же пропадать из виду просто не разрешается.
Но я отвлекся.
Мы поднялись на лифте на этаж, для доступа на который требовался специальный ключ, и мистер Такамити всю дорогу театрально дурачился, пародируя американцев: разговоры о футболе и все такое. Но как только мы поднялись, он внезапно превратился в японца – притих. Выключился – как будто я щелкнул выключателем. Я всерьез испугался, что мне предстоит выдержать трехчасовую беседу о погоде.
Мы пошли по могильно-безмолвному коридору, выстланному толстым ковром, мимо маленьких картин импрессионистов и букетов в викторианском стиле. Это была «западная» часть этажа. Когда она кончилась, мы вступили в японскую часть. Казалось, мы проникли в гиперпространство, и в этот момент мистер Такамити жестом предложил мне переодеться в темно-синий хлопчатобумажный халат, что я и сделал.
Мы вошли в самую большую японскую комнату, где имелась ниша токо-но-ма [18]18
Декоративная ниша в традиционном японском жилище, куда помещают букет цветов, свиток, иногда статуэтки Будды. Ее назначение – зрительно углублять пространство.19
[Закрыть]с хризантемами, свитком и золотым опахалом. В центре комнаты стоял низкий черный столик, окруженный подушками цвета терракоты. На столике – два ониксовых карпа и все, что нужно для чаепития. Единственным, что вносило в комнату дисгармонию, был маленький сейф в углу; сейф, между прочим, так себе, далеко не первого сорта, скажу я вам, недорогая модель из тех, которые ассоциируются с задней комнатой обувного магазинчика где-нибудь в Линкольне, штат Небраска, «и месяца не прошло после второй мировой войны», сейф нищенского вида, разительно контрастировавший с остальной обстановкой.
Мистер Такамити пригласил меня за столик, и мы уселись пить солоноватый зеленый японский чай.
Разумеется, я гадал, с какой тайной целью меня привели в эту комнату. Мистер Такамити был очень даже приятным собеседником… нравится ли мне работа?… что я думаю о Японии?., рассказывал про своих детей. Милые скучные темы. Несколько историй о тех временах, когда он в пятидесятых жил в Нью-Йорке, работая внештатным корреспондентом «Асахи»… о встречах с Дианой Вриленд, Трумэном Капоте и Джуди Холидей. Спустя полчаса или около того мы перешли на теплое сакэ – его принес, после того как мистер Такамити хлопнул в ладоши, слуга-карлик в тусклом коричневом – цвета бумажных магазинных пакетов – кимоно.
После ухода слуги возникла пауза. Вот тогда-то он и спросил меня, какую из своих вещей я считаю самой ценной.
Ну– ну. Самая ценная из моих вещей… Попробуйте-ка объяснить восьмидесятилетнему японскому издателю-магнату концепцию студенческого минимализма. Это нелегко. Что у меня может быть ценного? По большому-то счету? Подержанный «жучок»-«фольксваген»? Стерео? Я скорее умер бы, чем признал, что самой ценной моей вещью была сравнительно обширная коллекция пластинок-гигантов с немецкой индустриальной музыкой, хранящаяся -это уж совсем курам на смех – под коробкой облезлых новогодних игрушек в подвальной квартирке г. Портленда, Орегон. Словом, я ответил вполне искренне (и как показалось мне – довольно нестандартно), что ценных вещей у меня нет.
Тогда он заговорил о том, что богатство должно быть транспортабельным, что его нужно переводить в картины, камни, драгоценные металлы и так далее (он прошел через войны и экономическую разруху и знал, о чем говорит), но я нажал на правильную кнопку, дал правильный ответ – сдал экзамен: в его голосе слышались довольные нотки. Потом, минут, может, через десять, он вновь хлопнул в ладоши, и вновь возник крошечный слуга в бесшумном коричневом кимоно; ему были прорявканы инструкции. Это вынудило слугу отправиться в угол и по выложенному татами полу прикатить к мистеру Такамити, сидящему скрестив ноги на подушках, дешевый маленький сейф.
Затем – нерешительно, но спокойно – мистер Такамити набрал комбинацию цифр на круглой ручке. Послышался щелчок, он повернул ручку, дверца открылась, явив нечто. Что именно, мне видно не было.
Он засунул внутрь руку и вытащил – даже издали я определил, что это фотография, – черно-белый снимок пятидесятых годов, вроде тех, что делали судмедэксперты. Посмотрев на таинственную фотокарточку, он вздохнул. Потом перевернул ее и с легким выдохом, означавшим: «Вот моя самая ценная вещь», передал мне. Признаюсь, я был потрясен.
Это было фото Мэрилин Монро, которая садилась в такси, приподняв платье (она была без белья), и посылала губками поцелуй фотографу, по-видимому, мистеру Такамити в дни его внештатности. Бесстыдно сексуальная, все в лоб высказывающая фотография (ежели кто сейчас думает о пошлостях – бросьте, карточка вообще-то была черная, как туз пик) – и весьма провокационная. Глядя на нее, я сказал мистеру Такамити, который внешне безучастно ожидал моей реакции, что-то типа «ну и ну» или еще какую-то чушь, но внутренне искренне ужаснулся тому, что это фото – обыкновенный вшивый снимок папарацци, к тому же непригодный для публикации, – было его самой большой ценностью.
И вот тогда-то и последовала моя неконтролируемая реакция. Кровь прилила к ушам, сердце екнуло; меня бросило в пот, а в голове прозвучали слова Рильке – поэта Рильке – о том, что все мы рождаемся с неким письмом внутри, и только если останемся верны себе, получим позволение прочесть это письмо прежде, чем умрем. Пылающая кровь, пульсируя в моих ушах, сказала мне, что мистера Такамити угораздило спутать фото Мэрилин, хранящееся в сейфе, с письмом, лежащим внутри него самого, и я тоже, да, да, рискую совершить подобную ошибку.
Надеюсь, я вполне любезно улыбнулся, но сам уже схватил брюки и бросился к лифту, произнося вымученные, первые попавшиеся извинения, застегивая пуговицы рубашки и непрерывно кланяясь смущенной аудитории в лице мистера Такамити, который ковылял за мной, издавая старческие всхлипы. Не знаю, какой реакции на фото он от меня ждал – восхищения, комплиментов, а может, даже похотливого слюноотделения, но непочтительности, полагаю, он не ожидал. Бедняга.
Однако что сделано, то сделано. Искренних порывов нечего стыдиться. Тяжело дыша, словно я только что разгромил чей-то дом, я бежал из офиса, даже не прихватив вещей – прямо как ты, Дег, – и тем же вечером собрал чемоданы. В самолете на следующий день мне снова вспомнился Рильке:
«Только отдельный, уединенный управляется, как вещь, глубокими законами, и когда ты выходишь в утро, встающее, или смотришь в вечер, полный совершения, и чувствуешь, что там совершается, – то всякое сословие с тебя спадает, как с мертвого, хотя вокруг сплошная жизнь» [19] Р. М. Рильке. Письма к молодому поэту. Перев. Марины Цветаевой. Цит. по кн.: Рильке Р. М. Ворпсведе, Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1971.
[Закрыть]
И так я приехал сюда – дышать пылью, гулять с собаками, смотреть на скалы или кактусы и знать, что я – первый человек, который видит этот кактус, эту скалу. И пытаться прочесть письмо внутри меня.