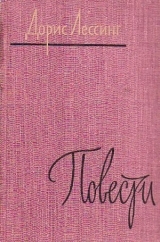
Текст книги "Муравейник"
Автор книги: Дорис Лессинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Когда Дирк сердился, глаза у него щурились и темнели; обиженный, он кривил губы и под носом у него появлялась ямочка. Сейчас у него был именно такой вид.
– Слушай, ты, белый мальчик, белые люди не любят полукровок; не любят нас и черные. Никто нас не любит. И я не пляшу с ними, белый мальчик...
– Давай-ка лучше заниматься, – перебил его Томми, и, оставив эту неприятную тему, они взялись за книги.
А позже к дому Кларков подошел мистер Макинтош и позвал Томми. Стоя у окна, родители молча наблюдали, как хозяин и их сын шагают бок о бок по краю огромного котлована. Между тем Макинтош с деланным безразличием говорил:
– Ну-с, мальчик, так, значит, моряком ты быть не хочешь?
– Нет, мистер Макинтош.
– Я вышел в море, когда мне было пятнадцать. Мне было нелегко, но тебе незачем бояться трудностей. К тому же ты стал бы офицером.
Томми промолчал.
– Тебе не по вкусу моя затея?
– Нет.
Макинтош остановился и заглянул в котлован.
Земля на дне была такая же желтая, как и тогда, когда Томми было семь лет, только теперь котлован стал глубже. Какая у него глубина, Макинтош не знал: он не мерил. Далеко внизу, в этом вырытом человеческими руками ущелье, копошились и сновали рабочие – черные рассыпанные на желтой бумаге зерна.
– Твой отец работал на рудниках и, чтобы сделаться инженером, он занимался ночами. Ты это знаешь?
– Да.
– Ему приходилось очень туго. Когда он получил диплом, ему уже стукнуло тридцать, и зарабатывал [35] он двадцать пять фунтов в месяц, пока не поступил ко мне.
– Знаю.
– Ведь тебе не хотелось бы так жить?
– Не испугаюсь, если придется, – с вызовом ответил Томми. Мистер Макинтош весь побагровел, и темные жилки отчетливо выступили у него на лбу и под глазами. Почему этот парень плюет на него, когда он предлагает ему такую неоценимую помощь? – спрашивал себя мистер Макинтош. И все же, несмотря на выражение угрюмого равнодушия, которое так не шло к красивому лицу мальчика, он не мог им налюбоваться. Томми был высокого роста, крепкий и складный; волосы у него были мягкие, золотисто-каштановые, а глаза – черные, умные. Разве можно сравнить Томми с его грубоватым отцом, навсегда сохранившим на себе следы долгой тяжелой борьбы за кусок хлеба в юности.
– Ладно, – сказал мистер Макинтош. – Не хочешь быть моряком – не надо, но, может, ты хотел бы поступить в университет и стать ученым?
– Не знаю, – нехотя отозвался Томми, хотя сердце у него екнуло. Ведь это же его мечта, и он почувствовал, что поддается. Потом он вдруг спросил:
– Мистер Макинтош, а почему вы так хотите устроить меня в колледж?
И Макинтош угодил прямо в ловушку.
– У меня ведь нет детей, – с чувством произнес он. – Ты для меня все равно как сын. – И он внезапно замолк.
Томми смотрел на поселок, и мистер Макинтош понял, о чем он думает.
– Отлично, – отрезал мистер Макинтош. – Оставайся в дураках, если тебе это нравится.
Томми стоял, опустив глаза. Он хорошо знал, что он и в самом деле дурак. И все-таки иначе вести себя не мог.
– Не горячись, – сказал мистер Макинтош, помедлив. – Не упускай своего счастья, сынок. Ты еще только мальчик. Торопиться некуда.
Спокойный тон мистера Макинтоша придавал делу другой оборот. Можно еще все уладить, как бы говорил он, не нужно только спешить. Но Томми не шевельнулся, и мистер Макинтош быстро добавил:
– Да, да, верно. Тебе нужно поразмыслить. [36]
Он торопливо вытащил из кармана однофунтовую бумажку и сунул мальчику.
– А знаете, что я сделаю с этими деньгами? – вдруг, засмеявшись, сказал Томми, и смех его не понравился мистеру Макинтошу.
– Делай, что хочешь, все, что хочешь, – это твои деньги, – ответил мистер Макинтош и ушел, как будто не понимая, что имел в виду Томми.
Томми и в самом деле отдал деньги Дирку, который и на этот раз воспринял это как должное, но теперь уже Томми и сам думал, что его друг прав. Они сели на скамью.
– Теперь вот я должен раздумывать, кем мне быть, – сердито проворчал Томми. – Они обязательно хотят меня кем-нибудь сделать.
– Ну уж со мной-то им не пришлось бы ломать себе голову, – язвительно заметил Дирк. – Я знаю, кем стану.
– Кем? – с завистью спросил Томми.
– Инженером.
– А как ты можешь знать, кем ты станешь?
– Это то, чего я хочу, – упрямо сказал Дирк.
Помолчав немного, Томми заметил:
– А что если тебе уехать в город? Ведь там есть школа для цветных.
– Тогда я не мог бы видеться с матерью.
– Почему?
– Законы, есть такие законы, белый мальчик. Тот, кто живет с туземцами и по их обычаям, – туземец. Стало быть, и я туземец и не имею права учиться в школе вместе с мулатами.
– Да, но, если ты уедешь в город, ты уже не будешь жить вместе с туземцами и тебя будут считать цветным.
– Оно так, только тогда уж мне нельзя будет видеться с матерью, даже если она и приедет в город. Она-то ведь туземка, – заявил Дирк, торжествуя, что доказал свою правоту.
«Он хочет добиться своего другим путем, – подумал Томми, – через меня...» Однако и сам он уже давно признал это справедливым, и теперь он только посмотрел на свою руку, лежавшую на грубо отесанной доске стола. Кожа была загорелой и сухой от солнца, и на ней поблескивал золотистый пушок. С этой стороны она была ни светлее, ни темнее коричневой руки Дирка. Томми [37] перевернул руку: на ладони кожа была гладкая, чуть-чуть смуглая, и голубые жилки на ней убегали кверху, пересекая запястье. Усмехнувшись, он взглянул на Дирка, который, словно бросая ему вызов, поспешно перевернул собственную руку, и Томми с горечью сказал:
– Да, твоя ладонь темная, и тебе будет трудно устроиться в школу. И ничего тут не поделаешь.
Сурово сжатые губы Дирка дрогнули, скривились в усмешке, так похожей на усмешку его отца.
– Что верно, то верно, белый мальчик, – сказал он.
– Ну, это уже не моя вина! – выпалил Томми и, сжав кулаки, застучал по столу.
– А я и не говорю, что твоя, – отозвался Дирк.
– Я даже не знаю твою мать, – волнуясь, с тем же пылом продолжал Томми.
Дирк лишь усмехнулся, словно хотел сказать: «Да ты никогда и не стремился ее узнать».
– Пойдем к ней сейчас, – попросил Томми.
– Не надо тебе туда ходить, – смутившись, чуть ли не умоляюще произнес Дирк.
– Нет, надо, – настаивал Томми. – Идем сейчас. – Он встал, вместе с ним поднялся и Дирк.
– Она не сумеет разговаривать с тобой, – предупредил Дирк. – Она не говорит по-английски.
Он действительно не хотел, чтобы Томми пошел в поселок, да и Томми, по правде говоря, тоже не хотелось туда идти. И все-таки они пошли.
Молча шагали они по тропинке между деревьев, молча обогнули котлован, так же молча вошли в рощу на другой его стороне и направились по дорожке, которая вела в поселок. Поселок раскинулся на много акров, и хижины в нем были от самых ветхих до новехоньких; новые поблескивали на солнце тростниковыми крышами, ветхие покосились, и тростник на их крышах прогнулся и потускнел, а некоторые еще только строились, и их очищенные от коры стропила были белыми, словно молоко.
Дирк повел Томми к большой квадратной хижине.
Томми видел, что люди шепчутся и хихикают, глядя, как он идет с цветным мальчиком, и ему казалось, что лицо у него сейчас такое же гордое и сосредоточенное, как лицо Дирка.
Возле квадратной хижины он увидел девочку лет десяти. Она была бронзовая, как Дирк. На бревне, засунув [38] в рот палец, на корточках сидела другая, маленькая, совсем черная девочка лет шести и наблюдала за ними. Покачиваясь на еще не окрепших ножках, в дверях хижины появился ребенок и, весело смеясь, уткнулся Дирку в колени. Кожа у него была почти белая. Вслед за малюткой из хижины вышла мать Дирка. Она улыбнулась сыну, но, увидев Томми, застеснялась и оробела. Она неуклюже сделала реверанс и взяла у Дирка малютку, чтобы хоть чем-нибудь занять свои ставшие вдруг неловкими руки.
– Это баас Томми, – смущенно пробормотал Дирк. Сделав еще один реверанс, она заулыбалась.
Мать Дирка была статная, полная женщина, и ноги у нее были стройные, а руки, обнимавшие малютку, тонкие и натруженные. Ее круглое лицо выражало робкое любопытство, и, в то время как она, прикусывая губы своими крепкими зубами, все улыбалась и улыбалась, взгляд ее перебегал от Дирка к Томми и обратно.
– Доброе утро, – сказал Томми.
– Доброе утро, – ответила она и засмеялась.
– Ну хватит, пошли, – сказал Дирк раздраженно. – Пошли.
– До свиданья, – попрощался Томми, и мать Дирка, повторив за ним: «До свиданья», слегка присела в том же неуклюжем реверансе и взяла ребенка на другую руку, прикусив от волнения губу и пряча свою сияющую улыбку.
Мальчики повернули назад от обмазанной глиной квадратной хижины, и дети разного цвета кожи стояли и долго смотрели им вслед.
– Ну вот, – сердито пробурчал Дирк, – теперь ты знаешь, какая у меня мать.
– Прости меня, – словно он был виноват во всей этой истории, смущенно произнес Томми. Но Дирк вдруг рассмеялся:
– Ничего, ничего, белый мальчик. Ты тут ни при чем.
И все же, казалось, он был рад, что Томми расстроился. Немного погодя, подумав о маленьких детишках, Томми с подчеркнутым безразличием спросил:
– А что, мистер Макинтош опять ходит к твоей матери? – и Дирк коротко ответил:
– Да. [39]
В шалаше Дирк занялся географией, а Томми, сидя без дела, с горечью думал о том, что все хотят сделать из него моряка. Чтобы хоть чем-нибудь заняться, он взял нож и начал царапать краешек стола, а когда показалась белизна древесины, он поднял лежавшую на полу палочку и принялся ее строгать. Тонкая палочка быстро переломилась; Томми пошел в кустарник и, подобрав с земли обломок старого дерева, принес его в шалаш.
Не зная еще, что у него выйдет, он строгал и строгал, пока, наконец, какая-то линия под ножом не напомнила ему о сидевшей на пороге хижины сестре Дирка, и тогда он стал работать обдуманно. Несколько дней, пока Дирк занимался, он бился над куском дерева. Потом притащил из дому жестянку с ваксой и принялся втирать блестящую коричневую ваксу в молочно-белую древесину. Получилась маленькая, окрашенная в бронзовый цвет девочка с широко раскрытыми любопытными глазами, сидящая с поджатыми под себя худенькими ножками.
Томми поставил фигурку перед Дирком, и тот, осклабившись, повертел ее в руках.
– Похожа, – наконец заявил он.
– Хочешь – возьми, – предложил Томми.
Дирк улыбнулся, сверкнув зубами, потом нерешительно полез в карман и вытащил оттуда какую-то вещицу, завернутую в грязную тряпку. Он развернул узелок, и Томми увидел маленького Дирка, вылепленного им когда-то из глины. Фигурка крошилась и уже изрядно пострадала от времени, однако она все еще была похожа на неисправимого забияку Дирка. Томми узнал ее (он уже успел забыть, что сам когда-то делал эту фигурку), и он взял ее в руки.
– Так ты сберег ее? – смущенно спросил Томми, и Дирк улыбнулся. Мальчики переглянулись и просияли. И оттого, что они друг друга поняли, им сделалось легко и покойно, хотя все же осталась какая-то непонятная им обоим боль, а также жестокость, толкавшая их на драку и соперничество. Оба с грустью потупились.
– Я вырежу из дерева твою мать, – предложил Томми и, удирая от этой опасной близости, тут же вскочил и убежал в кустарник. Он долго бродил, пока, наконец, не наткнулся на терновник, древесина которого так тверда, что об нее тупится даже железо. Тогда он взялся за топор и, пока не зашло солнце, возился, стараясь сва– [40] лить дерево. Большой камень служил ему точилом, Томми брызгал на него водой и точил топор. Управился он с деревом лишь на другой день. Еще раз наточив затупившийся топор, Томми отрубил от него чурбак фута в два длиной и, с трудом очистив от жесткой коры, притащил в шалаш. А Дирк между тем приладил к стене в глубине шалаша полочку и поставил на нее свою крошечную рассохшуюся глиняную фигурку и новенькую, бронзового цвета фигурку сестренки. Там осталось еще место и для той статуэтки, которую обещал сделать Томми.
– Я постараюсь закончить до отъезда, – робко сказал Томми. И потому, что теперь они так хорошо понимали друг друга, у него вдруг навернулись слезы; он опустил глаза и стал рассматривать принесенный чурбак. Чурбак этот не был такой, как дерево мягких пород светло-миндального цвета. Он был имбирно-коричневый, крепкий и сучковатый, а чуть пониже середины остался след от черной твердой колючки, которая когда-то на нем росла. Томми вертел его и думал, что эта работа будет, пожалуй, куда труднее, чем все, что он делал раньше. Впервые, прежде чем заняться резьбой, он изучал этот попавший к нему в руки кусок дерева, заранее зная, что он хочет из него сделать, пытаясь представить, как этот твердый, грубый чурбак превратится в задуманную им фигурку.
Мальчик попробовал резать дерево ножом, но лезвие сломалось, и он попросил нож у Дирка. Эту длинную полоску стали Дирк подобрал в куче старого приискового оборудования и отточил на камне так, что она стала острой, как бритва. Один конец был туго обмотан парусиной и служил рукояткой. Целыми днями Томми сражался с деревом этим грубым, несовершенным инструментом. Когда надо было уезжать, фигура была готова, но только без лица.
Томми изобразил мать Дирка крупной женщиной с мягкими округлыми формами. Повязанная наискось шаль оставляла обнаженными полные плечи. Стройные босые ноги крепко стояли на земле, а тонкие, узловатые от работы руки держали ребенка: маленькое, беспомощное, завернутое в пеленку существо, с любопытством таращившее большие, широко раскрытые глаза. Однако лица у матери еще не было. [41]
– Я доделаю в следующие каникулы, – сказал Томми, и Дирк бережно поставил фигурку на полку рядом с другими. Не оборачиваясь, он смущенно спросил:
– А может, ты уже больше не приедешь?
– Приеду, – помедлив, ответил Томми. – Конечно, приеду.
Это уже прозвучало, как обещание; они опять обменялись теплой, смущенной улыбкой и разошлись в разные стороны: Дирк отправился в поселок, а Томми – домой, где уже был уложен его чемодан.
Вечером к Кларкам зашел мистер Макинтош и беседовал в гостиной с родителями. Томми уже спал, но проснулся и увидел рядом с собой мистера Макинтоша. Он сидел на кровати, в ногах.
– Мне нужно поговорить с тобой, мальчик, – сказал он.
Томми прибавил огня в лампе, и теперь, в ее призрачном свете, он увидел, что мистеру Макинтошу как-то не по себе. Слегка откинувшись своим сильным, грузным телом с выпяченным животом, он сидел, положив руки на колени, и его серые глаза шотландца смотрели зорко и настороженно.
– Я хочу, чтобы ты подумал над тем, что я сказал, – торопливо заговорил мистер Макинтош грубоватым тоном. – Мать твоя говорит, что через два года ты уже окончишь школу, – ты хорошо учишься. А тогда можно поступать и в колледж.
В наступившей тишине стала слышна дробь барабанов в поселке. Облокотившись на краешек кровати, Томми возразил:
– Но ведь не я один хорошо учусь, мистер Макинтош. Макинтош вздрогнул.
– Да, но мы говорим о тебе, – тем же грубоватым тоном добродушно заметил он.
Томми промолчал. Вот всегда так: эти взрослые умеют перевернуть смысл слов по-своему, и их никогда не переспоришь.
– Почему вы не пошлете в колледж Дирка? – чувствуя, как колотится в груди сердце, наконец сказал он. – Вы такой богатый. Ведь Дирк разбирается во всем не хуже меня, а по математике он даже сильнее. Он обогнал меня уже на год и решает сейчас задачи, которые мне не" решить. [42]
Мистер Макинтош с раздражением закинул ногу за ногу, потом снова поставил их рядом и спросил:
– Ас какой, собственно, стати я должен посылать в колледж Дирка?
Теперь уже Томми пришлось бы высказаться напрямик, если бы он решился ответить, но мистер Макинтош знал, что он этого не сделает. Однако, не желая рисковать, он добавил, понизив голос.
– Подумай о матери, она ведь волнуется за тебя, мальчик. Не хочешь же ты ее расстраивать!
Томми посмотрел на дверь. Сквозь щель внизу пробивалась широкая полоса желтого света: в соседней комнате молча сидели его родители, надеясь вскоре услышать от мистера Макинтоша, какое блестящее будущее обеспечено Томми.
– Вы и сами знаете, почему его нужно послать в колледж, – беспокойно ворочаясь под одеялом, с отчаянием начал Томми, но мистер Макинтош предпочел дальше не слушать. Он встал и торопливо сказал:
– Подумай хорошенько, мальчик. Спешить не надо, но, когда ты приедешь в следующий раз, я должен знать. – С этими словами он вышел.
Тягостная картина открылась глазам Томми, когда мистер Макинтош отворил дверь: в ярком свете лампы в комнате сидели мать и отец, умоляюще глядевшие на мистера Макинтоша и сконфуженно улыбавшиеся. Дверь захлопнулась, Томми погасил свет, и комната погрузилась во мрак. Назавтра Томми уехал.
Покончив с очередной уборкой у мистера Макинтоша, миссис Кларк невесело сказала:
– Ну, теперь, кажется, все на месте, – и выскользнула из дома, будто она чего-то стыдилась.
А сам мистер Макинтош был в таком настроении, что все, кроме Энни Кларк, опасались с ним даже разговаривать. Повар, прослуживший у него двенадцать лет, попросил расчет. Могучий, волосатый кулак мистера Макинтоша дважды в тот месяц сбил его с ног, а он ведь не раб, чтобы терпеть хозяина с таким тяжелым характером. А когда сорвавшаяся вагонетка с породой размозжила головы двум рабочим и на прииск для расследования приехали полицейские, мистер Макинтош встретил их раздраженно, заявив, чтоб они не лезли не в свое дело. И впервые в истории этого прииска – истории скандальной беспечности [43] и несчастных случаев – мистер Макинтош услышал негодующий голос полицейского чиновника:
– Вы, мистер Макинтош, думаете, наверное, что законы вас не касаются. Но если подобное повторится еще раз, так...
Но хуже всего было то, что мистер Макинтош велел Дирку снова идти в котлован, а тот отказался.
– Вы не имеете права меня заставить, – заявил он.
– Кто здесь на прииске хозяин? – заорал мистер Макинтош.
– Нет таких законов, чтобы заставлять детей работать, – заявил стоявший рядом, ростом вровень с отцом, этот тринадцатилетний подросток: гибкий, стройный юноша словно бросал вызов грубой силе старика.
Слово «закон» хлестнуло мистера Макинтоша, как кнут, от ярости в глазах у него помутилось, и кровь жарко застучала в висках. Но эта же ярость и отрезвила его, ибо еще смолоду он привык остерегаться собственного гнева. А главное, он не был глуп.
– И что тебе за охота слоняться вокруг поселка? Почему ты не хочешь работать и зарабатывать деньги? – выждав, пока в голове у него прояснилось, спокойно спросил Макинтош.
– Я умею читать и писать, – ответил Дирк, – арифметику знаю даже лучше Томми – бааса Томми, – подчеркнул он, и мистер Макинтош снова едва не задохнулся от злобы, и ему снова пришлось сделать над собой усилие, чтобы сдержаться.
При мысли о Томми, к которому он питал слабость, мистер Макинтош неожиданно смягчился, и вот тут-то и вырвались у него слова, которым он потом сам удивлялся,– уж не спятил ли он тогда с ума?
– Отлично. Когда тебе стукнет шестнадцать, ты будешь вести мои книги и деловую переписку.
Но Дирк принял это как должное, он только сказал: «Хорошо» и ушел, оставив мистера Макинтоша в бессильной ярости на самого себя. Да разве он может доверить кому-то свои книги? Ведь всякий, кто заглянул бы в его бухгалтерию, забрал бы над ним власть! Об этом не могло быть и речи, да и вообще он не собирался подпускать ни Дирка, ни кого бы то ни было даже близко к своим книгам. И все-таки он обещал. А раз так, то придется пристроить Дирка к какому-нибудь другому [44] делу, или же – невольно мелькнула мысль – избавиться от него.
Дурное настроение мистера Макинтоша неожиданно сменилось не свойственной его характеру мрачной задумчивостью. Быть умным – еще не значит все понимать. Ум, особенно деловой, с помощью которого загребают деньги, это своего рода инстинкт. И если мистер Макинтош всегда знал, что ему нужно и как это сделать, то это еще не значит, что он отдавал себе отчет в том, зачем ему столько денег и почему он выбрал именно такой способ, а не иной, чтобы их добыть. Сейчас мистер Макинтош чувствовал себя, как кошка, которую ткнули носом в собственное дерьмо. Сидя в своем маленьком, непрерывно сотрясавшемся от грохота дробилок душном домике, он ночи напролет самым неутешительным образом размышлял о себе и о своей жизни. Он напомнил себе, например, что ему уже за шестьдесят и проживет он вряд ли больше чем десять или пятнадцать лет. То не были праздные размышления человека, который не придает значения своему возрасту. Мистер Макинтош был крепким, сильным и выносливым. Но ведь ему уже шестьдесят, – а какую он оставит по себе память? Бездонный котлован да миллион денег? Так как же тогда следует ему прожить эти оставшиеся десять или пятнадцать лет? Да так же, как и те шестьдесят, что он прожил! Не бросит же он свой прииск! Эта мысль вызвала у него ощущение, будто он прикован к своему месту и живет неизвестно зачем, хотя прежде ему и в голову никогда не приходило, что не так уж он свободен, как это кажется.
Хорошо, но тогда – и мысль эта угнетала мистера Макинтоша больше всего, – тогда почему он не женился? Ведь он всегда считал себя хорошим семьянином, и ему всегда хотелось найти себе подходящую жену. А теперь ему шестьдесят. По правде говоря, Макинтош не мог понять, почему он не женился и не имеет сыновей. В его неторопливые, грустные размышления непрошенно вторглась мысль о матери Дирка, но он тут же отогнал ее. Сластолюбца Макинтоша всегда влекло к темнокожим женщинам, и не мог же он признать, что это свойственно его натуре, если всегда считал свои отношения с ними лишь временной прихотью или увлечением, как курильщик, который с удовольствием курит низший сорт табака, потому что нет лучшего. [45]
Потом мистер Макинтош подумал о Томми, о котором часто говорил себе: «уж очень по душе мне этот мальчишка». Теперь уже чувство его было не прихотью, а глубокой мучительной любовью. Но Томми – сын его служащего – нисколько не считался с ним, а он, Макинтош, смущался и злился на себя, будто сам в чем-то виноват. Но в чем? Какая нелепость! Да, все это нелепо, и мистер Макинтош счел за лучшее больше об этом не думать. Томми еще ребенок. Пройдет год, и он образумится, а Дирка определит куда-нибудь, когда будет нужно.
Когда Томми снова приехал на каникулы, мистер Макинтош попросил у него дневник: он всегда с гордостью просматривал его и восхищался успехами мальчика.
Но Томми, который всегда был в классе первым, на этот раз оказался в хвосте, и в дневнике вместо высших баллов и похвальных отзывов появились такие записи, как: «неряшлив», «ленив», «плохо себя ведет». Единственным предметом, по которому там стояли хорошие отметки, был предмет, именуемый «Искусство», но им мистер Макинтош пренебрегал. На вопросы родителей, почему он не занимался, Томми нетерпеливо ответил: «Не знаю», – он и в самом деле не знал и тут же удрал к муравейнику. Дирк был уже там, сгорая от нетерпения получить новые книги, которые Томми всегда привозил ему из города. Томми сразу же потянулся к полочке с матерью Дирка, снял фигурку и осмотрел место, где должно было быть лицо.
– Я знаю теперь, как это сделать, – сказал он Дирку и вытащил из кармана привезенные с собой резцы и стамески.
Так он провел все три недели своих каникул, а когда встречал мистера Макинтоша, то молчал и становился угрюмым и недовольным.
– Тебе надо приналечь на занятия, – заметил мистер Макинтош, когда Томми уезжал в школу, но тот лишь кисло улыбнулся.
Кроме того, что он прочно закрепился в хвосте того самого класса, где совсем еще недавно был первым; в следующем семестре Томми отличился еще кое в чем. Он произнес страстную речь в дискуссионном клубе о несправедливости ограничений для цветных. Речь его, впрочем, имела успех у школьных учителей, ведь все знают, что, прежде чем смириться с существующим порядком, молодежи свойственно переживать такие периоды бунтарства. [46] Да и чем больше молодые люди возмущаются, тем больше оснований полагать, что они впоследствии смирятся.
Втайне от всех Томми брал в городской библиотеке книги, которые мальчики его возраста читают редко. Он вдруг решил ознакомиться с историей Африки и сравнительной антропологией, а прочитав эти книги, заинтересовался историей движения за равенство цветных и белых и заказал сборники законов своей страны. Особенно он интересовался законами, касающимися взаимоотношений между черными, белыми и цветными. Эти сборники он купил, чтобы отвезти Дирку.
Однако вдобавок ко всем этим волновавшим его проблемам существовало еще «Искусство» – так назывались проводившиеся в их школе два раза в неделю уроки рисования, на которых они рисовали бюсты Юлия Цезаря, или же Нельсона, или орнаменты из букетов папоротника или листьев, а иногда какую-нибудь большую вазу или стоявший к ним наискось стол, изучая таким образом, как им говорили, законы перспективы. В школе у них не было ни лепки, да и вообще ничего, что хотя бы отдаленно напоминало искусство ваяния, и, так как рисование было к этому ближе всего, таинственный запрет, который не давал Томми отличаться по геометрии или в английском, терял свою силу, когда он брался за карандаш.
В конце семестра в дневнике оказались только плохие отметки, хотя там и было записано, что он проявил интерес к текущим событиям и одарен в «Искусстве». Это выскочившее два раза подряд слово «Искусство» весьма озадачило и обеспокоило его родителей и мистера Макинтоша.
– Рисовать, конечно, неплохо, но ведь этим не проживешь, – сказал мистер Макинтош Энни.
– Все это хорошо, Томми, но ведь одними картинами не прокормишься, – в свою очередь с упреком заметила сыну миссис Кларк.
– А разве я говорил, что хочу прожить картинами? – жалобно возразил Томми. – Почему я обязательно должен «кем-то быть»? Почему вы все хотите из меня кого-тосделать?
В эти каникулы, пока Дирк изучал привезенные ему парламентские постановления, отчеты комиссий и подкомиссий, Томми пытался вырезать что-нибудь новенькое. В шалаше у них валялся большой квадратный кусок [47] мягкого белого дерева, который Дирк стянул для Томми на прииске; Томми прислонил его к стене и, опустившись на колени, принялся за работу, пытаясь изобразить' что-то вроде барельефа или гравюры. Как называется то, что он делал, Томми не знал. Он вырезал глубокий котлован, окруженный скалами и целыми холмами отработанной породы, и высившиеся вдали горы. У самого его края стоял с дубинкой в руках высокий детина. Черные фигурки людей гуськом подбегали к котловану, бросаясь в бездну. Из глубины вырывались клубы дыма и пламя. Томми растер несколько листьев в кашицу и, смешав эту зеленую массу с глиной, выкрасил горы и края котлована. Затем он подчернил угольком маленькие фигурки, а вырывавшееся снизу пламя покрасил красной масляной краской, которой здесь покрывали машины.
– Все равно муравьи сожрут, если оставить это здесь, – с мрачным удовлетворением разглядывая эту грубоватую, но эффектную картину, заметил Дирк.
Томми только пожал плечами. Он всегда с благоговением отдавался работе и боялся всего, что могло бы ее испортить или же помешать ему, но стоило только завершить работу, как интерес к ней тут же исчезал.
Это уж Дирк позаботился обмазать полку со статуэтками каким-то составом, который отпугивал муравьев, а потом поставил на смазанный тем же составом железный лист деревянный барельеф, чтобы он не касался стенок шалаша, откуда к нему могли подобраться муравьи.
Томми уехал в школу, чтобы снова рисовать осточертевшего ему Юлия Цезаря и вазы с цветами, а Дирк остался со своими книжками и парламентскими актами на прииске. Теперь они увидятся, когда им будет четырнадцать, и оба знали, что впереди у них много испытаний и что нужно решать... Однако, расставаясь, они не сказали друг другу ничего, кроме обычного «ну, пока». Как и прежде, они не собирались переписываться, хотя в этом семестре Дирк просил Томми посылать ему книги и новые решения парламента, необходимые для целей, которые Томми вполне одобрял.
А Дирк между тем выстроил себе в поселке новую хижину и зажил там своею собственной жизнью, отдельно от матери, хотя он и любил ее.
И вот, объединенные желанием послушать его рассказы о парламенских актах и докладах, забывая свою [48] ненависть к этому мулату – этой выросшей в их гнезде кукушке, – новую хижину Дирка посещали по вечерам многие из рабочих. И Дирк рассказывал им все, с чем познакомился сам в своем гордом одиночестве и отчуждении среди всеобщей неприязни.
– Образование, – говорил он, – образование – это ключ ко всему. – Томми разделял его мнение, хотя, если судить по его поведению, сам он отказался от мысли стать образованным. Весь семестр в поселок приходили посылки: «Мистеру Макинтошу (для Дирка)», и мистер Макинтош вручал их, не вдаваясь в расспросы.
И каждый вечер в темной, дымной хижине шесть-семь рабочих с огрызками карандашей в руках корпели над присланными Томми учебниками, чтобы научиться читать, решать задачи и разбираться в законах.
Как-то мистер Макинтош вышел из той другой хижины, где жила мать Дирка, поздно вечером и увидел колеблющиеся красные отблески пламени на неровной земле у дверей хижины Дирка. Во всех других хижинах было темно. Осторожно подойдя поближе, мистер Макинтош остановился в тени у двери и заглянул внутрь. На полу, впившись глазами в газету, окруженный рабочими, на корточках сидел Дирк.
В эту звездную ночь мистер Макинтош шагал домой, глубоко задумавшись. И Дирк рассвирепел бы, знай он только, что думал о нем мистер Макинтош, – ведь все его страстное негодование, все бунтарские речи были направлены против Макинтоша и его тирании. А мистер Макинтош меж тем впервые подумал о своем сыне с каким-то смешанным чувством удивления и гордости. Возможно, дело тут было в том, что он был шотландцем и, как истый шотландец, питал какое-то инстинктивное уважение к учености и к людям с твердой решимостью «пробиться».
Да, хватка у него моя, – подумал мистер Макинтош, вспоминая, как сам он мальчишкой лез из кожи вон, чтобы получить хоть какое-нибудь образование. Ну, а если Дирк не того цвета, так что ж, он – Макинтош – чем-нибудь ему поможет. Об этом он позаботится, когда придет время. А что до тех, которые были с ним, так нет ничего проще, чем уволить рабочего и взять на его место другого.
Мистер Макинтош, как всегда, улегся спать в фуфайке и пижамных брюках, не умываясь и не расходуя зря [49] свечей. Наутро он приказал одному из своих надсмотрщиков привести к нему Дирка. Сердце у него размякло при мысли о собственном великодушии и предстоящей трогательной сцене. Он намеревался предложить Дирку обучать грамоте надсмотрщиков, чтобы с большим толком использовать их на работе. Разумеется, он положил бы Дирку жалованье, а те, скажем, вполне могли бы научиться отмечать расчетные листки.





