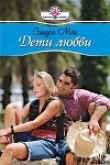Текст книги "Лето перед закатом"
Автор книги: Дорис Лессинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
В тот вечер Кейт присоединилась к маленькой компании, состоявшей из людей, которые, объездив полмира, как-то не удосужились побывать в Стамбуле; едва выйдя из отеля, она очутилась в мире легенд, тайн и романтики – таком, каким его описывают путеводители на всех известных Кейт языках и на многих ей неизвестных. В группу входили мадам Пири, красивая, во французском вкусе негритянка из Сьерра-Леоне, некий мистер Даниэль из Бразилии и сеньор Ферруджа, итальянец. Они посидели в турецком ресторанчике, так как без этого немыслим ни один выход в город, зашли в два ночных клуба, где показывали танец живота и шпагоглотателей, и договорились в том же составе поехать в ближайшее время в деревушку, что в пятидесяти милях от города, и посмотреть там недавние, очень интересные, раскопки. Прощаясь в вестибюле отеля, все четверо заметили, что остались довольны проведенным вечером: видно было, что собрались знатоки и ценители экзотики. Разошлись спать рано, еще не пробило и часа ночи, так как на следующее утро начиналась конференция.
Перед тем как заснуть, Кейт вспомнила о Майкле, находившемся, как она полагала, в Чикаго, где он собирался провести несколько дней у старого коллеги, эмигрировавшего в Штаты. Вспомнились Кейт и четверо ее детей. При воспоминании о них ей взгрустнулось, но это чувство тут же прошло: она знала, что вступила в лучшую пору своей жизни, что настало время расправить крылья, показать себя – она нужна, необходима людям; завтра с раннего утра до поздней ночи – нарасхват.
И теперь, в те короткие мгновения среди дневной суеты, когда она могла подумать о себе, она чувствовала, как в ней нарастает необыкновенный душевный подъем. К счастью, времени у нее было в обрез – ровно столько, чтобы любые мысли, едва родившись, тут же вытеснялись другими заботами; не будь этого и дай она возможность некоторым своим наблюдениям глубже проникнуть в сознание, они бы больно задели ее: сколько радости доставила она своим домашним, сказав, что в ближайшие дни будет по горло занята на конференции, проходящей в Лондоне, и не сумеет вырваться, чтобы собрать их в дорогу. Даже Тим облегченно вздохнул, когда она сказала ему: «Тим, милый, ты все собрал для поездки в Норвегию? Ты уж извини, но я просто не смогу тебе…»
Очевидно, ее представление о себе как об объединяющем начале семьи, источнике тепла, о своем сходстве в этом отношении с королевой термитов, устарело года на два, на три. (Или это память так подшучивает над ней? У Кейт все чаще складывалось впечатление, что в ее памяти неожиданно оказалось несколько обрывков воспоминаний, взаимно исключающих друг друга.) Если говорить со всей откровенностью, то вот уже года два-три, а может быть и больше – во всяком случае с тех пор, как выросли дети, – Кейт постоянно гложет чувство неутолимого голода, какой-то пустоты. Оно пришло не сразу, не в один миг, а исподволь; не было в ее жизни такого момента, чтобы как-то однажды, открыв глаза, она сказала себе: «Ну все, дети выращены – моя миссия окончена». Однако Кейт часто сидела одна в своей комнате, и в ней закипал гнев от чувства вопиющей несправедливости. Ощущение нанесенной ей острой обиды подстерегало ее на каждом шагу все последние годы. Но она не давала ему воли, а если и давала, то ненадолго. Наоборот, она всячески лелеяла в памяти образ своей семьи (соответствующий Десятой или Пятнадцатой фазе?), какой она представлялась ей в результате высокоинтеллектуальных разговоров на эту тему с мужем. Она не допускала, чтобы эти чувства взяли над ней власть – только в пределах иронической гримасы, не более того. Она не могла позволить, чтобы старая обида заслонила сегодняшний день. А одно время Кейт была на грани этого. Теперь, к счастью, она слишком занята – и как приятно занята. Всюду, где бы она ни появилась, ее встречали улыбкой: горничные и официанты, управляющий отелем и дежурные администраторы, шоферы такси и переводчики, и особенно Ахмед, который буквально боготворил Кейт. Равно как и она его. Их отношения походили на отношения двух евнухов в гареме. Он поддерживал все ее начинания, ко всему относился с пониманием, обеспечивал всем, что нужно. Пока шли заседания, Кейт находилась в соседней комнате, ожидая, когда понадобится ее помощь; и как только действительно наступал такой момент, она тут же занимала свое место в кабине и была готова переводить с французского, итальянского, английского на португальский; и все, для кого португальский был родным, считали своим долгом подойти к ней и выразить свое восхищение тем, как она знает и чувствует их язык. В часы коротких перерывов, в любое время дня и ночи, когда делегаты разбегались выпить чашку кофе, аперитив или пообедать, они знали, что всегда могут рассчитывать на услужливую, неизменно ровную в обращении, общую любимицу Кейт Браун.
Прошлым летом во время поездки в Штаты она имела возможность наблюдать нечто подобное…
Там по всему континенту разбросаны однотипные здания, похожие на маленькие городки под одной общей крышей, иногда в несколько миль длиной; внутри помещение разделено на отдельные самоуправляемые секции, каждая из которых обслуживает какую-нибудь авиакомпанию. Крупные компании нанимают на службу девушек, похожих на девиц-тамбурмажоров, непременных участниц всех торжеств, съездов и карнавалов в Новом Свете. Эти девицы, одетые так броско, что не заметить их просто невозможно, патрулируют район конторы своей авиакомпании. Им вменяется в обязанность давать всевозможные справки, служить гидами и всеми иными средствами способствовать приятному путешествию своих клиентов. Когда их набирают на работу, то в первую очередь учитывают приятную внешность, задор и наличие дерзкой, идущей от молодости, а не от опыта чувственности. И вот они дефилируют по коридорам здания поодиночке, парами, а то и втроем и улыбаются, улыбаются, улыбаются (а часы в ожидании вылета идут) и прямо на глазах раздуваются от сознания своей власти над окружающими. Они буквально опьянены – да-да, без преувеличений – собственной неотразимостью и значительностью, которые делают их, соответственно одетых для исполнения соответственной роли, центром внимания публики. Они улыбаются и улыбаются без конца, и у вас создается впечатление, что девушки эти, распираемые любовью к человечеству, подогреваемой, в свою очередь, особым вниманием человечества к ним самим, того и гляди, вспорхнут и вознесутся на небо. Да, просто возьмут и вылетят из окон аэропорта, и будут парить в небе как воздушные шары, и улыбаться в иллюминаторы пассажирам пролетающих мимо самолетов. А на борту самолетов расхаживают точно такие же красотки – хозяйки воздуха, опьяненные ролью благодетельниц, готовые одарить любовью всех и каждого в поле зрения. Вышесказанное не относится к большим международным компаниям, где стюардессам приходится работать не за страх, а за совесть, окружая пассажиров вниманием и любовью, то есть заботясь об их желудках; речь идет о внутренних рейсах, сложной паутиной затянувших все небо над Новым Светом, которое день и ночь бороздят маленькие, верткие самолетики, набитые такими вот девицами, не загруженными, по существу, никакой работой. Время от времени они обносят пассажиров напитками. Заботливо, с интимной улыбкой, раздают подносы с расфасованной еще на земле едой в закрытых индивидуальных пакетах. И нежно произносят в репродуктор: «Мы любим вас, мы нуждаемся в вас, ждем вас снова, любите и вы нас, пожалуйста». И передвигаются по проходу туда-сюда, туда-сюда, расточая по пути улыбки, под восхищенными взглядами мужчин, да и женщин тоже. Вызывать восхищение – их обязанность. По мере того как идет время, начинает казаться, что девушка вот-вот взорвется от избытка восхищения. Ее буквально распирает от самодовольства; у нее, наверное, даже температура поднимается.
И она улыбается. Улыбается. Улыбается.
Легко представить себе, что и дома, после полета, ее не покидает возбуждение, она не может ни есть, ни спать, ни спокойно сидеть, ни перестать улыбаться. Она перевозбуждена, она не может отключиться. Если бы у нее был муж, то разве его будничная, пресная любовь могла бы сравниться с огромным зарядом восхищения множества мужчин, прошедших мимо нее за целый день? Даже представить себе страшно, что это будет за жизнь, если такая девушка выйдет замуж! А это неминуемо произойдет, и очень скоро: процент браков высок в этой среде, равно как и процент разводов. Но в течение года, двух, трех, а то и шести лет такая девица все время на людях, все время в фокусе внимания сотен пар глаз; каждую минуту своего рабочего времени она, с одной стороны, предмет восхищения, желаний и зависти, а с другой – источник тепла, внимания, заботы. Потом – замужество. Для нее этот шаг равносилен уходу от ярких огней рампы, где еще слышны аплодисменты тысячной толпы, в кромешную тьму тесного, маленького мирка. По всей вероятности, она, бедняжка, и сама не способна разобраться в своих чувствах, понять, что с ней происходит, ибо если девушка берется за подобную работу, это значит, что она наивна. За всю свою жизнь она так ни разу и не заподозрит, сколь это чудовищно – использовать живое человеческое существо как приманку, в течение месяцев, а то и лет делать его объектом публичной любви – будь то девица-тамбурмажор, живая реклама или стюардесса, какая разница. Она спешит выскочить замуж, поскольку считается, что рано выйти замуж – значит, утвердить свое женское «я»; а потом вступает в силу закон инерции: она уже не в состоянии остановиться, словно внутри у нее помещен особый орган, впитывающий в себя и отдающий вовне тысячи ватт Любви, Заботы, Лести; он работает на полную мощность, и она не в состоянии его отключить. Что с ней творится? Она не имеет представления. Почему ее гложет беспокойство, почему она не может расслабиться, заснуть, отдохнуть? Она – как маленькая девочка, которой взрослые полюбовались немного, а потом девочка им наскучила, от нее отвернулись, и она уже забыта; и как бы красиво она ни танцевала, как бы ни улыбалась, какими бы способами ни привлекала их внимания и как бы громко ни кричала: «Вот я! Да посмотрите же на меня!» – они будто оглохли. Наконец кто-нибудь снизойдет и скажет: «Ну, ладно, хватит, успокойся. Беги поиграй».
У молодой женщины начинаются головные боли. Холодная по натуре, она вдруг бросается в объятия мужчины и предается любви с такой необузданностью, что тот начинает подозревать измену. Затем следует развод. Она бы и не прочь вернуться на прежнее место, но, оказывается, уже стара для него. Она утратила свою щенячью игривость, и ее место занято девчушкой только что со школьной скамьи.
Скоро уже середина июля. Дня через два закончится конференция; делегаты разъедутся по домам, а на их место приедут новые, вместо них в этом отеле разместятся делегаты симпозиума по холере.
Кейт улыбалась, она вся сияла и, согретая улыбками, обращенными к ней, в свою очередь щедро одаривала теплом окружающих; мысль о том, что скоро она останется в одиночестве, придавала ее поведению что-то неестественное, несколько аффектированное. Она знала об этом. Она увидела себя со стороны – такой, какой казалась сейчас Ахмеду: энергичная, предприимчивая, приветливая особа, которая крутится словно заведенная, хотя завод уже кончился; он предложил ей таблетки от головной боли, признавшись, что сам страдает этим недугом и что вообще, когда такие мероприятия, как эта конференция, подходят к концу, он страшно изматывается, теряет сон, и жена постоянно ворчит на него. Кейт показала ему фотографию своей семьи; он в ответ – своей: на карточке была тихая, аккуратная женщина с маленькой девочкой, застывшей у матери на коленях. Кейт с Ахмедом разговорились в обеденный перерыв – они стояли у окна, на лестничной площадке одного из верхних этажей. Ахмед не имел права сидеть в холлах отеля, как все постояльцы или служащие вроде Кейт. Стоя у окна рядом с Ахмедом, Кейт слушала его наставления о том, что надо, приняв таблетки, лечь спать пораньше, и тогда на следующее утро она будет меньше нервничать.
Кейт слушала и думала, что в данном случае это средство, пожалуй, не поможет: от того, что ее ждет, если только она поддастся слабости, не спасут никакие таблетки. Ей предстоит вернуться в Лондон, поселиться где-нибудь на два месяца и в уединении осмыслить свою жизнь. По окончании конференции Кейт получила немало приглашений от делегатов и делегаток разных стран, с которыми подружилась во время работы – без этого не обошлось – особой дружбой, принятой в этом кругу: легковесной, ни к чему не обязывающей и ничего не требующей взамен, дружбой, которая, в общем, не что иное, как фикция, полное отрицание дружбы. Здесь никого не осуждали. Ни на что не притязали. Здесь не делали различия между нациями и расами. Здесь и в вопросах секса царила демократия. Разбитых сердец не было. И не могло быть, ибо карьера ставилась превыше всего – и любви, и секса. Вероятно, это прообраз интимных отношений будущего: романтическая любовь с её тоской и приступами отчаяния канет в неврастеническое прошлое. Такие друзья, такие любовники – бывшие или будущие – свободно могли после тесных ежедневных контактов расстаться в Буэнос-Айресе, не обменяться ни словом на протяжении многих месяцев или даже лет, ни разу не вспомнить друг о друге за время разлуки, а потом вдруг неожиданно встретиться где-нибудь в Рейкьявике и как ни в чем не бывало, без лишних эмоций пуститься в новое любовное приключение на условиях, удобных для обеих сторон. Как актеры, которых на сцене объединяли минуты интимной близости и сопереживаний, расстаются, чтобы встретиться вновь лет через десять в другой пьесе, в иных костюмах.
А не поехать ли ей в Сьерра-Леоне с очаровательной мадам Пири? Почему бы и нет? Или остаться здесь – не так уж хорошо познакомилась она с Турцией: бегала по знаменитым ресторанам, посмотрела две мечети и одну церковь, только и всего. Правда, Турция – не место для одинокой женщины. Если бы это был Париж или Рим, тогда другое дело… А здесь поехать в глубь страны одной – и то риск; вернее, это риск с точки зрения Кейт, женщины, долго прожившей под крылышком мужа, не привыкшей обходиться без мужской опоры.
Она стояла в вестибюле отеля в ожидании мадам Пири, попросившей записать ее к парикмахеру. Это, конечно, можно было и даже следовало организовать через бюро обслуживания, но у милой Кейт все, за что бы она ни взялась, так складно и ловко получается.
Она стояла и ждала, а мимо проходили, кивая и улыбаясь, знакомые люди. Милая Кейт. Chere Катрин. Голубушка Катя, Катенька, Китти. Дорогая Кэти, моя единственная Катриона. Красавица Катлин, Катерлин, Кит и Катарина, Екатерина, любовь моя, мой ангел-хранитель Кэти. Карен, не представляю, что бы я делала без вас. Я буду скучать без вас, миссис Браун.
Она улыбалась в ответ, улыбалась без устали, мурлыкая от удовольствия про себя – не без смятения, однако:
Я буду скучать без вас, миссис Браун!
О, как я буду тосковать, миссис Браун!
Вы меня кормили, вы меня водили,
Вы меня обеспечили всем необходимым,
Но настало время – вам пришла замена,
И я буду скучать без вас, миссис Браун…
Кейт пришлось ждать мадам Пири гораздо дольше, чем она рассчитывала: та прощалась с кем-то наверху; неожиданно она заметила, что к ней направляется молодой человек, чье лицо показалось ей знакомым; не успела она сообразить, что к чему, как он предложил ей поехать с ним на следующий день в Конью.
[3]3
Конья – крупный город в Турции.
[Закрыть]
Оказывается, он уже и машину заказал.
Впервые они обратили друг на друга внимание неделю тому назад у входа в отель. Хрупкий темноволосый юноша в светлом летнем костюме стоял спиной к потоку машин и разглядывал здание отеля, словно измеряя его высоту. У него был вид постояльца отеля, даже делегата – спокойного тона элегантный костюм выгодно выделял его из толпы одетых кто во что туристов. Потом Кейт встретила его как-то в кафе. Он сидел за соседним столиком в компании своих сверстников и разговаривал. Сейчас же он был одет как все туристы и выглядел растрепанным. Темные волосы, ранее гладко зачесанные назад, мягкими волнами свисали ему на лоб. И он был далеко не юноша – Кейт ошиблась, омолодив его. Он сообщил ей, что он американец, что в Европе он отнюдь не новичок и после Турции намерен поехать в Испанию, где чувствует себя как дома. Она легко поверила ему: он был похож на испанца и в любой латинской стране сошел бы за местного жителя.
Нет, он не постоялец отеля, сказал он: это ему не по карману. Значит, его приглашение на завтра следует расценивать не как минутный порыв, а как заранее запланированный шаг? А он тем временем говорил ей, что увидев ее тогда в кафе, сообразил, – не так уж это трудно в конце концов! – где ее скорее всего можно найти, навел кое-какие справки и вот явился. И пока он уговаривал ее согласиться («Так было бы чудесно, если бы вы смогли поехать, жаль, если пропадет свободное место в машине»), в его глазах, прикованных к глазам Кейт, прыгали чертики, сквозила неприкрытая насмешка – над нелепостью ситуации, над самим собой, но ни намека на тревогу за судьбу «горящего» места в машине. Ведь в машине-то они будут вдвоем. Обязанности Кейт вскоре заканчивались – формально, конечно, ибо она не сомневалась, что до последней минуты будет занята, если сама не поставит точку. И Кейт ответила, что с удовольствием принимает приглашение – несмотря на то, что перед ее мысленным взором, откуда ни возьмись, вдруг предстала Мэри Финчли и заявила, что Кейт окончательно рехнулась. Не желая огорчать Мэри, Кейт уже готова была положить конец знакомству с этим желторотым юнцом – не таким уж желторотым, как оказалось при ближайшем рассмотрении, правда, и сама Кейт выглядела моложе, чем на самом деле, – но тут к ним величаво подплыла мадам Пири, высокая, гибкая, с необыкновенно длинными, унизанными кольцами пальцами, на ходу принося пылкие извинения за то, что заставила Кейт ждать.
Кейт увидела, как ее собеседник окинул оценивающим взглядом с ног до головы эту красивую женщину. Он делал это с подкупающей непосредственностью: в его взгляде не было ничего вызывающего, лишь простодушное восхищение, которое мадам Пири приняла как комплимент; улыбнувшись и забавно кивнув несколько раз головой, она выплыла из вестибюля со словами: «Кейт, дорогая, я, кажется, уже опаздываю…»
– Что ж, – сказала молодому человеку Кейт, – ехать так ехать. Только я не знаю, как вас зовут.
Его звали Джеффри. Он сказал, что позвонит ей вечером, тем самым заявляя первые права на нее с той же прямодушной искренностью, которая минуту назад вызвала улыбку у мадам Пири.
В Конью они так и не попали. Однако поездка, оказавшаяся отнюдь не безоблачной (изнурительная жара в машине, неудобные сиденья, к тому же машина дважды ломалась и под конец остановилась совсем), быстро сблизила наших незадачливых путешественников; именно эти совместно пережитые неудобства да еще необходимость решать на ходу, что же делать дальше – продолжать путешествие на автобусе или нанять другую машину, – и толкнули их друг к другу. На эти-то трудности или на нечто подобное, что непременно должно было случиться в пути, молодой человек, разумеется, и рассчитывал, приглашая Кейт и резонно полагая, что она тоже должна быть к ним морально готова. Он даже не огорчился, что они не доехали до Коньи. Огорчена была Кейт, но досада ее быстро прошла. Они расположились на заднем сиденье машины и разговорились, а шофер тем временем куда-то исчез, чтобы добыть им какое-нибудь средство передвижения.
Темой их беседы был сам Джеффри. Он был уроженцем Бостона, работал в рекламном бюро в Нью-Йорке. Оказался умным, образованным, веселым собеседником, не лишенным чувства юмора, к тому же был очень хорош собой. Особенно привлекало в нем нежелание приспосабливаться к жизни: четыре года назад он решил расстаться с «золотой жилой рекламного бизнеса», как он выразился, словно радуясь лишней возможности посмеяться над собой; и он несказанно возвысился в глазах Кейт, упомянув, что принадлежал к сливкам общества и по собственной воле пренебрег высоким положением, которого добился на поприще рекламы за три коротких, но очень плодотворных года. Его ужаснул успех – и даже не сам успех, а легкость, с какою он его достиг. И он «выбыл из игры». Не впадая при этом, правда, в крайности: ни нищенское существование богемы, ни коммуны хиппи, которые к тому времени стали уже изживать себя, его не прельщали – он считал, что перерос подобные эксперименты. Не последнюю роль в его решении порвать с прошлым сыграло, конечно, то обстоятельство, что его родители были людьми со средствами. Словом, он отказался от карьеры и от прежнего образа жизни. С тех пор он кочует по Европе, спит в палатке и путешествует «автостопом». Ему стукнуло тридцать два года.
Слушая исповедь Джеффри, как если бы он был ее сыном, Кейт поняла, что ее спутник полон смятения и внутренних противоречий. «Выйдя из игры», он еще не нашел своего места в жизни. Все было впереди. В двадцать, двадцать пять лет «выйти из игры» ничего не стоит – все легко и просто. Просто сойтись с приглянувшейся девушкой на Маунт-Шаста – так уже было однажды; или в Вермонте – и так тоже было. Легко транжирить деньги, оставленные в наследство покойной бабушкой, – тут он не преминул оговориться, что живет не на родительские средства, а на «свои собственные». Но дело в том, что ему не двадцать и не двадцать пять, а за тридцать. И он до сих пор не знает, чего хочет от жизни, вот в чем беда. Правда, это участь многих миллионов современных молодых людей, бог знает сколько их таких разбросано по белу свету (к счастью, у самой Кейт дети не относятся к подобной категории, во всяком случае – пока, ибо еще неизвестно, что выйдет из Тима: этот действительно не знает, что ему с собой делать). Речь идет о молодом поколении процветающих стран, богатой трети человечества. Молодежь отсталых стран, где царит голод, выбора не имеет. Им, чтобы выжить, надо грабить, воровать, голодать. Не знать, как жить, – привилегия богатых.
Все это он с юмором излагал Кейт и по дороге в Конью, и когда они сидели в автомобиле, а мимо них со свистом проносились машины, направлявшиеся в Конью, и когда, не вынеся духоты машины, они вышли на обочину. Только к вечеру их шофер договорился со своим другом – владельцем такси, чтобы тот доставил путешественников обратно в Стамбул. Такси оказалось допотопным. Оно то и дело подпрыгивало и конвульсивно содрогалось всем корпусом. Двигаться приходилось в облаке желтой пыли, которая, оседая, сгущала краски опускавшегося на землю и без того удивительно красивого заката. А Джеффри все говорил. Они зашли в придорожный ресторанчик. Недорогой, так как приглашение исходило от Джеффри и ему предстояло расплачиваться, а он не получал жалованья в международной организации. За рестораном последовал ночной клуб, но Джеффри никого не видел и не слышал – ни танцовщиц, ни эстрадных певцов, – а продолжал говорить; слова лились неудержимым потоком. Кейт слушала. Она умела слушать, в этом ей нельзя было отказать. Но в то же время она думала свою думу: стоит ей пустить его к себе в постель или не стоит. Она мысленно обменялась несколькими репликами с Мэри. Кейт знала, что мужчины, которые стали бы увиваться за Мэри, окажись она здесь, были бы совсем иного плана, чем этот молодой человек. Да и самой Мэри – Кейт будто наяву услышала негодующий голос подруги – даже в голову не пришло бы взглянуть в сторону этого Джеффри.
Если бы на месте Кейт была Мэри, все обстояло бы иначе. В один прекрасный день она сказала бы мимоходом: «Помнишь того типа, что я подцепила на пляже в Гастингсе, я тебе еще о нем рассказывала? С таким не заскучаешь!»
Кейт внутренне согласилась с призраком Мэри; она сама уже разобралась, что этому кандидату в любовники, если Кейт позволит событиям принять такой оборот, важно одно: найти хорошего слушателя. Видно, пришло время подумать о предмете, который прежде не очень занимал ее мысли… Но ведь это ложь, очередная ложь. Все тот же обман памяти. Она должна во всех подробностях честно вспомнить, как относились в счастливой и добропорядочной семье Браунов к супружеской неверности.
Позиция, занимаемая супругами в этом вопросе, была ими выработана в ходе самовоспитательных бесед и отличалась большой реалистичностью. И между формулой и действительностью не было никакого несоответствия, так что легкая ироническая гримаса была бы тут неуместна. (Или все-таки уместна? Кейт почувствовала, как один кусочек ее памяти старается вытеснить другой; верх взял более привычный.) Их брак с Майклом был прочным и благополучным благодаря тому, что оба они усвоили и, к счастью, очень рано простую истину: причина зла, неудовлетворенности или своеобразного голода, если угодно, без чего не обходится ни один современный брак – и не только брак, а и вся окружающая нас жизнь, и это главное, – коренится не в самих супругах. И не в институте брака, как таковом. Она вскормлена и взлелеяна привитым нам представлением о семейном счастье как о чем-то хрупком и ненадежном. (О, это уже что-то новое! Как бишь говаривали в старину: жизнь – это юдоль слез?) На брак возложили чрезмерный груз. Все эти проблемы Кейт и Майкл обстоятельно обсудили в начале своего пути. Нет, не в самой Первой фазе, когда им было не до разговоров: они упивались друг другом; и возможно, даже не во Второй (Кейт сознательно умаляла первые две фазы, подтрунивая над своей и Майкла юношеской наивностью), но раньше, чем они достигли Третьей фазы, не говоря уж о Десятой или Пятнадцатой, этот вопрос перестал быть для них вопросом. Словом, вскоре после свадьбы, к чести их обоих будь сказано, они условились не винить друг друга, если окажется, что у одного из них этот так называемый голод не утолен полностью. Но что же все-таки это за чувство, этот голод? Они и сами не отдавали себе в этом отчета – просто не было времени задуматься.
Однажды они пережили целую драму, когда Майкл чуть не потерял голову от любви к одной молоденькой коллеге из больницы, где они вместе работали. К тому времени Брауны уже прошли сквозь множество неожиданностей и жизненных передряг. Они были женаты десять лет; уже появились на свет все их дети. Эта история настолько потрясла душу Кейт, да и Майкла тоже, хотя рассудком они все прекрасно понимали, что ничего подобного в их жизни больше не случалось. Правда, не случалось лишь в такой форме. Позднее Кейт поняла, он сам дал ей понять, что у него время от времени бывали связи – мимолетные, без лишнего шума, чтобы не дай бог не задеть самолюбия жены, – с молодыми женщинами, для которых эти интрижки тоже были чем-то вроде развлечения; приключения такого рода весьма популярны среди делегатов и в аппаратах больших международных организаций. С болью в сердце, хотя эту боль и можно терпеть, Кейт примирилась с таким положением. Правда, боль эту вопреки своей воле Кейт ощущала острее, чем следовало. Однако и после этих переживаний их семейная жизнь протекала довольно гладко. К их обоюдному удивлению, ибо, куда ни глянь, повсюду разведенные пары, чей союз не выдержал испытания супружеской неверностью… На этом месте мысли или воспоминания Кейт сами собой начинали рассеиваться. Кое-что из них соответствовало действительности: молодые Брауны были правы, раз и навсегда договорившись не ожидать слишком многого друг от друга и от семейной жизни. Что касается остального… Кейт потеряла уважение к мужу – вот в чем суть. Спрашивается почему, если он поступал так же, как другие мужчины в его положении. Она стала относиться к нему – и такое отношение сохранилось надолго – как к неисправимому лакомке, который не в силах превозмочь свою слабость. Он упал в ее глазах, это было ясно как день. У нее появилось материнское чувство к нему – раньше она этого за собой не замечала. Полюбить, как заболеть, до боли, до отчаяния – одно дело, Кейт была способна понять такое, у нее самой бывало нечто подобное. Но изворачиваться, лгать и ловчить, сознательно и целеустремленно «заметая следы», чтобы, с одной стороны, по-прежнему выглядеть «чистеньким» в глазах жены, а с другой – бегать за первыми попавшимися юбками, это совсем иное дело; муж стал казаться ей пустым и тривиальным. Вдобавок он еще изменил прическу… Когда он после очередной поездки за границу появился на пороге дома и Кейт впервые увидела новую прическу, которую он себе придумал, пытаясь повернуть время лет на пятнадцать вспять, ее затрясло от гнева и отвращения. Вскоре, правда, Майкл сумел ее переубедить – отнюдь не словами, которых он избегал, а всем своим видом красноречиво намекая, что в ней говорит самая обыкновенная бабья ревность: это мелко с ее стороны.
Однако в ту минуту, когда Кейт поняла, что он такой, какой есть, и вряд ли что-нибудь способно изменить его натуру, кроме старости – если, конечно, он не станет резвиться до гробовой доски, уподобившись молодящимся старушенциям, которые красят волосы во все цвета радуги и носят мини-юбки, дабы щегольнуть вроде бы неплохо сохранившимися ножками, – ей стало ясно, что муж растоптал ее человеческое достоинство, унизил в ней женщину. Она не могла объяснить, почему это вызвало у нее такую реакцию, но факт оставался фактом, и никуда от этого не денешься. И то, что ее Майкл – в общем-то неплохой супруг, за которым она жила как за каменной стеной, – превратился в самого ординарного бабника, в похождениях которого над всеми другими чувствами превалировал секс, ставило Кейт в крайне унизительное положение. Она бы предпочла, чтобы он признался – нет, не признался, а защищал бы свое чувство, кричал, наконец, о своей любви к женщине, пусть даже к двум, трем, неважно, и утверждал бы, что это настоящее, что чувство будет расти и углубляться и потребует не только жертв с его стороны, но и понимания со стороны самой Кейт. Подобное признание не повергло бы Кейт в такое состояние духа, словно у нее открылась рана, через которую капля за каплей уходят все жизненные соки, все силы, пока она сидит у себя дома в южном Лондоне, а муж ее бегает – в свободное, разумеется, время, не жертвуя ради этой прихоти главными интересами, – в поисках легких любовных приключений. Вопреки доводам рассудка и, конечно же, вопреки тому, что предписывают жизненные каноны, она испытывала к мужу чувства, которые испытывают к человеку заблудшему, потерявшему себя.
Глупо давать волю таким чувствам. Противно правилам хорошего тона, вульгарно, невеликодушно даже. Кейт знала, что сказала бы по этому поводу Мэри: все это никчемные умствования, которые только отравляют жизнь. Но Кейт думала и чувствовала именно так, а не иначе и ничего не могла с собой поделать. У нее и в мыслях не было притворяться, будто она относится к этому как-то по-другому. Еще несколько дней тому назад она могла бы смело сказать, что какие бы чувства и мысли ни возникли у нее, когда, скажем, она решит, что довольно ей быть нянькой и улыбаться, улыбаться без конца, или, как сейчас, к примеру, не остановит себя на пороге приключения, обещающего быть трудным, но заманчивым, как вершина высокой горы, к которой не может не тянуть всякого уважающего себя альпиниста, – какими бы эти чувства ни оказались (Кейт так страшилась встречаться с ними лицом к лицу, что готова была на все, лишь бы оттянуть этот момент), они никак не будут связаны с тем обстоятельством, что ее Майкл самый заурядный юбочник. Этот удар она пережила давно. А может быть, именно его и следует считать переломом в ее жизни (коль скоро она дала себе труд над этим задуматься): ее инстинкт, детский и неразумный, но безошибочный, подсказывал ей, что это Майкл – и только он – виноват в том, что она с того времени чувствует себя куклой, из которой медленно высыпаются опилки.