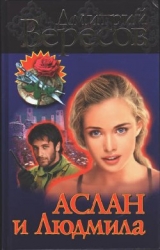
Текст книги "Аслан и Людмила"
Автор книги: Дмитрий Вересов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Глава 9
Было поздно в наших думах.
Пела полночь с дальних башен.
Темный сон домов угрюмых
Был таинственен и страшен…
…Мы не поняли начала
Наших снов и песнопений.
И созвучье отзвучало
Без блаженных исступлений…
Константин Бальмонт
1910 год. Санкт-Петербург
Кто из поэтов не мечтал поселиться в башне из слоновой кости да еще с музой в качестве законной супруги? Алексей и Людмила Борские поселились в странном для Петербурга круглом угловом доме, в квартире верхнего этажа, которая возвышалась над крышами квартала жестяным, пыльным шлемом. Забралом этого шлема был полукруглый балкон, с которого можно было выйти на покатую крышу. В самой квартире было множество неправильной формы комнат. Людмила время от времени нанимала бородатых, краснолицых рабочих, которые ломали какую-нибудь стену, и расширяла таким образом помещения. Но странная замкнутость, закольцованность пространства сохранялась, несмотря на перестройки.
Прошло полгода с тех пор, как кто-то из петербургских литераторов, кажется, поэт Сергей Иволгин назвал их квартиру башней Изиды. Теперь это название было общепринятым не только в среде поэтов-символистов и их литературных противников, но и среди питерских извозчиков, которые, правда, переиначили ее на «башню Зины».
– Так вам, барин, на Шпалерную? Дом Венце-ля? Так это за Зинкиной башней, в аккурат. Домчу за милую душу, коли на водку накинете… Коли повезет, сможете Зинку эту увидать. В прошлый раз я офицера вез, так Зина как раз на балконе стояла, пахпироску курила.
– Что же, голубчик, хороша она, как ты изволишь выражаться, Зина?
– Как же, барин! Очень как хороша! Офицер тот, как увидал ее на балконе, на землю сразу соскочил, кричал ей, руками махал… Видать, сильно она ему понравилась.
– А что же она?
– Зинка-то? Докурила свою пахпироску и пошла себе в дом, а на балкон вышел господин с бородкой. Этот господин как заорет по-козлиному…
– Да ты, братец, брешешь!
– Вот те крест, барин, не брешу. Офицер увидал его, плюнул в сердцах и приказал вести его в ресторацию сей же час. Видать, распереживался. А я так думаю, что там с Зинкой черт живет, а Зинка эта – ведьма и есть…
Башней Изиды квартира Борских была названа не ради красного словца. Впрочем, и ради него тоже. Здесь образовался некий литературно-художественный салон, которых в те годы в Петербурге было немало. Поначалу поэты-символисты приходили сюда к Алексею Борскому, которого считали знаменем символического направления русской поэзии. Но скоро «открыли» и его жену, с которой были уже заочно знакомы по стихам Борского. Сначала их неприятно поразило, что та самая Панна, Новая Мадонна, Христианская Венера, Изида оказалась земной девушкой с золотисто-русой косой и цвета темного пива глазами. Но теоретик символизма, «единственный прямой наследник» философа и поэта Владимира Соловьева, как он сам себя называл, Дмитрий Шпанский сумел теоретически обосновать и русые косы, и темные глаза, и гибкий стан.
По его словам получалось, что Людмила Борская и есть земное воплощение Мировой Души, которую описал в своих философских работах великий философ Соловьев, а явление ее он предчувствовал, предугадывал в своей поэзии. Как Христос когда-то, явилась она – Мировая Душа – на землю, воплощенная в обычную, хотя и красивую, девушку. Идея всеспасительной, всеочищающей любви, в начале двадцатого века выразившаяся в идее Вечной Женственности, жила в неудобной петербургской квартире, замужем за студентом университета. В этом не было никакого чуда. Поэт Алексей Борский, благодаря своей гениальности, поэтической интуиции, узнал ее, принявшую обычный, земной облик и отразил в своих знаменитых теперь стихах.
Культ древней богини Изиды тоже пришелся очень кстати. По теории Шпанского, она была первым дохристианским отражением Мировой Души и Вечной Женственности в мифологии и искусстве. Она оживляла Осириса в Египте, она дала грекам парус, она защищала униженных и угнетенных, покровительствовала женщинам. Теперь она выходила на балкон своей башни в Петербурге и курила тонкую, длинную папироску.
В этот обычный для Петербурга серый вечер, когда небо мокрой застиранной простыней висит на ветках больных деревьев в садах и парках столицы, в башне Изиды, то есть в квартире супругов Борских, собрались близкие им люди. Сегодня гостями были: поэт Сергей Иволгин, их лучший друг, бывший одним из шаферов на свадьбе, философ и публицист Федор Кунак, поэтесса Светлана Цахес и, конечно, универсальный ум эпохи Дмитрий Шпанский.
Сидели беспорядочно на диванах, пили, курили, где и сколько каждый считал нужным, хаотично перемещались из комнаты в комнату. Вообще на их вечерах, по идее великого Шпанского, должна была поначалу присутствовать некая беспорядочность, изначальный хаос. Сам Шпанский вносил больше всего неразберихи. Он то изображал греческого сатира, тряс козлиной бородкой, скакал на полусогнутых кривых ножках, опрокидывал стулья, бил посуду и кричал козлом, то в другой раз ползал на брюхе, изображая рыбу, которую надо ловить сетями Святого Слова. Остальные участники вечеров в башне Изиды не отставали от Шпанского, добиваясь, в конце концов, такой какофонии звуков, что жильцы снизу бежали за дворником и городовым. Но в вые шей точке хаоса рождался свет – появлялась Людмила-Изида. Устанавливался Высший Порядок и начиналось священное благоговение перед идолом.
В этот час Изида уже родилась из хаоса, то есть, дворник уже отзвонил в дверь, пригрозил городовым и, получив на водку, ушел к себе очень довольный. Людмила полулежала в розовом платье на диване. У ее ног сидел верный пес Шпанский – трехглавый Цербер, одной головой кусавший реалистов, другой – акмеистов, а третьей – футуристов. Философ Федор Кунак только что вдохнул носом светлый порошок с ногтя и теперь помалкивал в сладком томлении. Поэт Иволгин прочитал свое новое стихотворение «Плавание корабля Изиды». Поэтесса Светлана Цахес сидела в феминистской позе – нога на ногу, отмеряя поэтические строфы их нервным перекидыванием. Только Борский был сумрачен и смотрел на всех устало и неприветливо.
– Вы видели?! – вскричал вдруг Сергей Иволгин, прерывая свою декламацию. – Она провела ладонью по лицу снизу вверх, поправила волосы и косу опустила на грудь через плечо. Вы видели?!
– Как? Как она это сделала? – Шпанский мгновенно вскочил и забегал вокруг возлежавшей как ни в чем не бывало Изиды.
Изиде не положено было дублировать и трактовать саму себя. Она осталась полулежать, как прежде. По ее нечаянным жестам, которым члены кружка Изиды придавали высший символический смысл, объясняли и предугадывали они грядущие перемены, всемирные катастрофы и тому подобное. На соседний диван поспешно плюхнулся Иволгин и стал повторять ее жесты. Шпанский внимательно наблюдал за ним, теребя козлиную бородку,
– Федор, Федор, светлая голова, – обратился Шпанский к философу Кунаку, – ты как это трактуешь?
Кунак попробовал сфокусировать свой взгляд на Шпанском, потом перевести его на Людмилу, но не смог и расслабленно заулыбался в неопределенное пространство.
– Я, например, полагаю в отношении косы Изиды следующее. Мировая душа, как стремление неопределенное, сама собой не может достигнуть того внутреннего единства, к которому бессознательно стремится. Вот эта коса Изиды и есть символ всеединства, к которому стремятся разбросанные в беспорядке Ее золотые волосы.
– Дмитрий Васильевич, – обратился к Шпанскому лежащий в позе Изиды поэт Иволгин, – в чем же заключено это единство, к которому стремится Мировая душа?
– Оно содержится, голубчик мой Сережа, в Боге, как вечная идея. Оно даст Мировой душе определенную форму.
– Они идут друг другу навстречу, – сказал вдруг философ Кунак, имя в виду свои сходящиеся на переносице глаза.
– Совершенно верно, Федор, – подхватил тут же Шпанский. – Божественное начало стремится к тому же самому, что и Мировая душа. Они стремятся друг к другу. Но Божественное начало пытается воплотить идею всеединства в другом, а Мировая душа хочет получить от другого то, что она не имеет, а, получив эту идею, воплотить ее в материальном хаосе. Это и есть цель мирового движения.
– Прыгают! – воскликнул в этот момент философ Федор Кунак, показывая на стулья.
– Федор опять прав. Приблизиться к истине можно только прыжком, не постепенным накоплением знаний, а прыжком, прозрением. Изида показала нам сейчас, что в мировом абсолютном движении совершился еще один существенный скачок. Мы на пороге великих событий, огромных свершений…
Неожиданно Людмила встала с дивана и вышла на середину комнаты. Присутствующие замолчали, пораженные. Запустив руки в свою толстую косу, она вдруг распустила ее, и на шелковое платье пролился золотой водопад ее волос.
– Дмитрий Васильевич! – закричал в страхе поэт Иволгин. – Что это?! Возвращение первобытного хаоса? Катаклизм вселенский? Мне страшно, братья мои!
В глазах Людмилы блеснул ведьмин огонек. Она опять запрокинула руки, возясь с застежками платья на спине. Близилась кульминация вечера, но в этот момент в дверях позвонили. Изида и ее супруг пошли открывать.
В квартире появился новый гость – профессор Петербургской консерватории Леонтий Нижеглинский, модный композитор, пытавшийся воплотить в музыке символическую картину мира, потому активный участник кружка Изиды. Едва раздевшись, он побежал к роялю впереди хозяев квартиры. Но Нижеглинский бывал здесь нечасто, поэтому проскочил мимо музыкального инструмента, совершил круг по квартире и опять попал в прихожую.
– Людмила Афанасьевна! Алексей Алексеевич! – закричал он сконфуженно. – Меня опять надо встречать…
Когда Нижеглинский, наконец, увидел инструмент, он бросился к нему, как бедуин к колодцу. Звуки новой симфонии распирали его и искали выхода наружу.
– Где же ваши ноты, Леонтий Васильевич? – спросила его Людмила.
– Только жалкий подмастерье нуждается в партитуре, Людмила Афанасьевна, – наставительно сказал консерваторский профессор. – Я же играю по памяти, особенно те вещи, которые написаны сердцем накануне ночью. Господа, позвольте вам представить новую мою вещицу под не очень оригинальным названием «Плавание священного корабля Изиды».
– Ах, как это кстати! – воскликнул Шпанский и, придвинув кресло поближе к роялю, приготовился слушать. Остальные гости тоже расселись в музыкальной гостиной.
– Я думаю, господа, – сказал Нижеглинский, уже занеся над клавишами растопыренные пальцы, как патологоанатом над трупом, – аудитория у нас достаточно подготовленная к новейшей музыке, не говоря уже о мифологической подоплеке моей симфонии. Древние римляне отмечали праздник Изиды спуском на воду ее символического корабля. Это я и постарался отразить при помощи музыки. Итак…
Нижеглинский замер, слушатели тоже. Возникла минута молчания, видимо, в память о сошествии Изиды в царство мертвых. Но когда пауза затянулась, и поэт Сергей Иволгин недоуменно посмотрел на сидевшего рядом Борского, Нижеглинский резко ударил по клавишам.
Людмила с детства занималась музыкой, неплохо играла на фортепьяно. Ей подумалось, что в данном случае ноты, пожалуй, только помешали бы. Нижеглинский извлекал из инструмента не ноты, а стоны о пощаде. Если он пытался изобразить таким образом спуск на воду корабля, то звон разбитой бутылки шампанского о борт ему вполне удался. Но сколько же можно было бить бутылки?!
Люда незаметно встала и вышла из комнаты. Раньше ей были приятны и ученые философские разговоры, и заунывное чтение символистами стихов, и это коллективное камлание вокруг ее персоны, но сейчас она почувствовала, что очень устала, ей стало даже несколько нехорошо, захотелось на свежий воздух. Она закурила папироску и вышла на балкон.
Таврический сад погружался в темноту. Каркали и хлопотали на голых ветках вороны, устраиваясь на ночлег. Самыми темными были сейчас намокшие стволы деревьев, самым светлым пятном казался передник дворника, шаркавшего метлой у ограды. Людмиле было тоскливо и одиноко.
За спиной откинулась портьера, мелькнул свет лампы, кто-то выходил на балкон. Людмила поморщилась. Сейчас ей было приятнее общество мокрых деревьев, ворон и пьяного дворника. На балкон вышла Светлана Цахес. Даже в полумраке были видны ее рыжие волосы и зеленые глаза.
– Мне иногда кажется, Людмила Афанасьевна, – сказала Цахес, прикуривая от ее папиросы, – что чем трезвее и уравновешеннее вы себя ведете, тем они сильнее заводятся. Попробуйте им, например, сказать, что все они вырожденцы и козлы, так они будут на вас молиться и еще в жертву кого-нибудь принесут. Философа Кунака зарежут жертвенным ножом… Не бойтесь, я пошутила. Они и колбасу зарезать не смогут. Куда им! Что вы на меня так смотрите?
– Я, признаться, думала, что вы во всем разделяете их взгляды, – сказала удивленная Людмила.
– А там нечего разделять. Одно сплошное вырождение. Женщине-поэтессе в России… Впрочем, позвольте мне сегодня не плакаться вам о своей бабьей доле. Я больше расположена поговорить о вас, Люда.
– Обо мне?
– О вас. Вы мне кажетесь цельным, целеустремленным человеком, только на время попавшим под влияние этой сумасшедшей компании, совершенно гнилой и бессильной. Ваш муж, по крайней мере, может из этой дребедени выносить на свет прекрасные стихи. Да он и смотрит на всю эту декадентскую чехарду как-то иначе, чем остальные. Я уверена, что он отряхнется и пойдет дальше, настоящая поэзия его выведет в жизнь. А вы? Вы пропадете в этом мистическом болоте, если не поймете себя вовремя.
– Что же мне про себя понимать? – спросила Людмила, невидимо в полумраке покраснев. – Я же не пишу стихов, рассказов, эссе…
– Упаси вас Бог что-нибудь писать. Нет большего несчастья для женщины, поверьте мне. Впрочем, и для мужчины тоже. Я давно за вами наблюдаю, и мне кажется, что ваш талант – свобода, полнокровная жизнь, любовь, безумство, если хотите, пьянство и похмелье. Мне вы представляетесь такой. Знаете, что больше всего меня привлекает в новом искусстве? Пьянящая атмосфера своеволия, беззаконности, мятежности. Ваш муж пытается выразить это в стихах, а вы должны выразить это в жизни…
– Но как? Что вы имеете в виду?
– Мне кажется, вы меня прекрасно понимаете. Если бы я не чувствовала, что все ваше существо стремится к этому, то не заговорила бы с вами. Идите навстречу своим желаньям, не боритесь с ними. Это бесполезно… А форма? Форму, приемлемую для окружающих, можно выбрать любую. Алексей, например, рассказывал мне, что вы были увлечены театром, играли на любительской сцене. Сейчас Мейерхольд набирает труппу из молодых артистов. Хотите, я с ним поговорю? Что с вами, Людмила Афанасьевна? Вы плачете?
– Нет, нет, ничего…
Люда скользнула в комнату и побежала прочь от этой странной женщины, которая толкала ее в ту самую пропасть, в которую она сама часто заглядывала в мечтах и сновидениях. Но в музыкальной гостиной все еще царил Нижеглинский со своим «Кораблем Изиды». Куда же ей деваться?
В прихожей звякнул колокольчик. Приход нового гостя спасал ее. Можно было идти открывать дверь, говорить о нормальных человеческих вещах – погоде, здоровье – пока и этот гость не впадет в мистический транс, оказавшись в гостиной.
На пороге стоял Боря Белоусов. Худой, без фуражки, воротник его студенческой шинели был поднят. Глаза вечного студента и лаборанта странно для представителя точных наук блестели.
– Людмила Афанасьевна, я не войду, не упрашивайте. Но мне необходимо с вами поговорить. Я ведь уезжаю в Берлин, продолжу там свою учебу. Что вы улыбаетесь? А у вас, кажется, слезы на глазах. Вы вот стоите и улыбаетесь со слезами на глазах, а я уезжаю в Берлин. Вы плакали, конечно, не по мне?
– Я не плакала, я смеялась до слез.
– Тогда хорошо, что не надо мной. Давайте немного пройдемся, я хотел бы попрощаться с вами. Или я не вовремя? У вас, кажется, гости…
– Что вы, Боря! Я сейчас спущусь, только оденусь. Подождите меня у подъезда.
Вот и бородатый дворник с метлой идет навстречу. Он вовсе не пьяный. Вороны шумят теперь не внизу, а над головой. А деревья стали еще темнее.
– Помните наш спектакль по Лермонтову в Бобылево? – спросил Белоусов. – Вас тогда схватил Казбич. Я целился в него, а этот дурак Петька все не щелкал пистоны. Как мне тогда хотелось выстрелить в него! Если бы я знал, что все так получится, и вы станете его женой, я бы обязательно выстрелил настоящей пулей. А вы знали тогда, как я к вам отношусь?
– Знала…
– Вот как! Тем лучше. Никаких иллюзий, я ведь очень не люблю иллюзии. Это по части вашего мужа. Знаете, что ваш папенька недавно сказал про него в лаборатории? Рад, говорит, что муж моей дочери хотя бы по трем первым буквам связан с точной наукой. И еще добавил, что если бы не это, нипочем бы вас за него не отдал. Борский… Еще мне кажется, что играй он тогда Печорина, а я Казбича, все было бы по-другому. Совсем по-другому… Скажите, Людмила Афанасьевна, вы счастливы с ним?
Что же это такое? Уж лучше сидеть бы ей дурой-Изидой на диване и корчить этим идиотам символические рожи. Что такое сегодня? Что им надо от нее? Почему они вдруг ополчились на нее, заглядывают туда, куда она никого не пускала, не открывалась ни намеком, ни жестом? Нет, постой, матушка! А кто сегодня распустил волосы и вдруг, ошалев от дерзости, уже расстегивал платье, чтобы предстать перед ними настоящей Изидой, то есть голой, желающей земной любви, девушкой? Вот тут-то ее и разгадали, расшифровали. Налетели теперь бесы, тащат куда-то, подталкивают. Что же это такое?
– Вы плачете, Люда?! – воскликнул Боря Белоусов. – Я обидел вас чем-нибудь? Простите меня. Я не хотел. Не отвечайте на мой дурацкий вопрос, не надо. Бог с ним, со счастьем…
– Отчего же, Боря! – с вызовом в голосе ответила Людмила. – Я отвечу. Отчего же не ответить? Значит, счастье… Вам, позитивисту, практику, это будет интересно. Может, формулу какую-нибудь выведете, или таблицу составите. Счастье… Знайте, что я Борскому никакая не жена!
– Как не жена?! – почти закричал Белоусов, не то в испуге, не то от радости.
– В том самом смысле не жена. Что вы так смотрите? Не понимаете? В биологическом. Между нами ничего еще не было…
– Не понимаю, – растерянно произнес Боря.
– Вы лучше, Боря, вообще молчите. Лучше я буду говорить, а то мне противно слышать в вашем голосе глупую надежду и поддельное сочувствие. Я вас все равно не люблю. Вот вам! Я вам, как другу, рассказываю, или как зеркалу. Неважно. Молчите, и все, безнадежно молчите. Нет, скажите. Вы ходили к проституткам когда-нибудь?
– Нет, Людмила Афанасьевна, никогда, – слишком поспешно отозвался Белоусов.
– Ну, вот и врете. А Алеша никогда не врет. Он мне все рассказал. И про проституток, и про публичные дома, и про ужасные болезни. Что вы не смотрите на меня? Вам странно, что я это вам говорю? Вы же – позитивист, практик. Вам это должно быть интересно. У Алеши были вот такие женщины и вот такие болезни. Если бы я все это понимала! Но я же была такой девчонкой! Да я и сейчас такая же девчонка. Дура-Изида. Алеша не хочет слышать ни о каких супружеских отношениях в известном смысле, он не хочет этой, как он говорит, грязи между нами. Он хочет только чистых, волшебных чувств, не опошленных, не обезображенных голосом плоти. Борский верит в любовь по Соловьеву…
– А вы? – решился подать голос Боря Белоусов.
– Я спорю с ним, доказываю, что возможна гармония земных и небесных, возвышенных чувств. А он говорит, что мы живем на историческом изломе, который проходит через каждую семью, через каждое супружеское ложе. Надо сохранить себя для будущих времен, а не впасть во всеобщий хаос… Я попробовала другое средство, самое надежное мое оружие… Мне почти удалось. Но «почти», как я теперь понимаю, в этом деле еще хуже. И для него, и для меня. Теперь мы в ссоре. Алеша не разговаривает со мной. Ночью он жег какие-то свои стихи, писал опять и опять жег… Это невыносимо! Это мучительно! Если бы вы знали, как это мучительно! Что вы хватаете меня? Отпустите! Вот как вы меня поняли, практик, лаборант! Придумали формулу наших с Алешей отношений? Что вы понимаете, ничтожество?! Что вам всем живой человек?!.
В этот момент из темноты послышался стук копыт. Людмила вздрогнула и отшатнулась. Из-за угла показался экипаж. Он приближался к ним.
– Куда изволите? – спросил извозчик.
– Проезжай, милейший, – ответил Белоусов. – Никто тебя не звал.
– Как же-с не звали?! – изумился извозчик. – Кричали же. Разве я глухой? Разве я не слышал? Эх, господа, баловство одно на уме! Но-о о-о, пошли! Ишь, уши развесили!..








