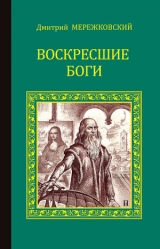
Текст книги "Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
VIII
Восемь дней спустя молодой герцог скончался.
Перед смертью он молил жену о свидании с Леонардо. Она отказала ему: мона Друда уверила Изабеллу, что порченые всегда испытывают неодолимое и пагубное для них желание видеть того, кто навел на них порчу. Старуха усердно мазала больного скорпионовой мазью, врачи до конца мучили его кровопусканиями.
Он умер тихо.
– Да будет воля Твоя! – было последними словами его.
Моро велел перенести из Павии в Милан и выставить в соборе тело усопшего.
Вельможи собрались в Миланский замок. Лодовико, уверяя, что безвременная кончина племянника причиняет ему неимоверную скорбь, предложил объявить герцогом маленького Франческо, сына Джан-Галеаццо, законного наследника. Все воспротивились и, утверждая, что не следует доверять несовершеннолетнему столь великой власти, от имени народа упрашивали Моро принять герцогский жезл.
Он лицемерно отказывался; наконец, как бы поневоле уступил мольбам.
Принесли пышное одеяние из золотой парчи; новый герцог облекся в него, сел на коня и поехал в церковь Сант-Амброджо, окруженный толпою приверженцев, оглашавших воздух криками: «да здравствует Моро, да здравствует герцог!» – при звуке труб, пушечных выстрелах, звоне колоколов и безмолвии народа.
На Торговой площади с лоджии дельи-Озии, на южной стороне дворца Ратуши, в присутствии старейшин, консулов, именитых граждан и синдиков, прочитана была герольдом «привилегия», дарованная герцогу Моро вечным Августом Священной Римской Империи, Максимилианом:
«Maximilianus divina favente dementia Romanorum Rex semper Augustus – все области, земли, города, селения, замки и крепости, горы, пастбища и равнины, леса, луга, пустоши, реки, озера, охоты, рыбные ловли, солончаки, руды, владения вассалов, маркизов, графов, баронов, монастыри, церкви, приходы – всех и все даруем тебе, Лодовико Сфорца, и наследникам твоим, утверждаем, назначаем, возвышаем, избираем тебя и сыновей твоих и внуков, и правнуков в самодержавные власти Ломбардии до скончания веков».
Через несколько дней объявлено было торжественное перенесение в собор величайшей святыни Милана, одного из тех гвоздей, коими распят был Господь на кресте.
Моро надеялся угодить народу и укрепить свою власть этим празднеством.
IX
Ночью, на площади Аренго, перед винным погребом Тибальдо, собралась толпа. Здесь был Скарабулло лудильщик, златошвей Маскарелло, скорняк Мазо, башмачник Корболо и выдувальщик стекла Горгольо.
Посредине толпы, стоя на бочонке, доминиканец фра Тимотео проповедовал:
– Братья, когда св. Елена под капищем богини Венеры обрела живоносное Древо Креста и прочие орудия страстей Господних, зарытые в землю язычниками, – император Константин, взяв единый от святейших и страшных гвоздей сих, велел кузнецам заделать его в удила боевого коня своего, да исполнится слово пророка Захарии: «будет сущее над конскою уздою святыня Господу». И сия неизреченная святыня даровала ему победу над врагами и супостатами Римской Империи. По смерти кесаря гвоздь был утрачен и через долгое время найден великим святителем, Амвросием Медиоланским в городе Риме, в лавке некоего Паолино, торговца старым железом, перевезен в Милан, и с той поры наш город обладает самым драгоценным и святейшим из гвоздей – тем, коим пронзена правая длань всемогущего Бога на Древе Спасения. Точная мера длины его – пять ончий с половиной. Будучи длиннее и толще римского, имеет он и острие, тогда как римский притуплён. В течение трех часов находился наш гвоздь во длани Спасителя, как это доказывает ученый падре Алессио многими тончайшими силлогизмами.
Фра Тимотео остановился на мгновение, потом воскликнул громким голосом, воздевая руки к небу:
– Ныне же, возлюбленные мои, совершается великое непотребство: Моро, злодей, человекоубийца, похититель престола, соблазняя народ нечестивыми праздниками, святейшим гвоздем укрепляет свой шаткий престол!
Толпа зашумела.
– И знаете ли вы, братья мои, – продолжал монах, – кому поручил он устройство машины для вознесения гвоздя в главном куполе собора над алтарем?
– Кому?
– Флорентинцу Леонардо да Винчи!
– Леонардо? Кто такой? – спрашивали одни.
– Знаем, – отвечали другие, – тот самый, что молодого герцога плодами отравил…
– Колдун, еретик, безбожник!
– А как же слышал я, братцы, – робко заступился Корболо, – будто бы этот мессер Леонардо человек добрый? Зла никому не делает, не только людей, но и всякую тварь милует…
– Молчи, Корболо! Чего вздор мелешь?
– Разве может быть добрым колдун?
– О, чада мои, – объяснил фра Тимотео, – некогда скажут люди и о великом Обольстителе, о Грядущем во тьме: «он добр, он благ, он совершенен», – ибо лик его подобен лику Христа, и дан ему будет голос уветливый, сладостный, как звук цевницы. И многих соблазнит милосердием лукавым. И созовет с четырех ветров неба племена и народы, как созывает куропатка обманчивым криком в гнездо свое чужой выводок. Бодрствуйте же, братья мои! Се ангел мрака князь мира сего, именуемый Антихристом, приидет в образе человеческом: флорентинец Леонардо – слуга и предтеча Антихриста!
Выдувальщик стекла Горгольо, который ничего не слыхивал о Леонардо, молвил с уверенностью:
– Истинно так! Он душу дьяволу продал и собственной кровью договор подписал.
– Заступись, Матерь Пречистая, и помилуй! – верещала торговка Барбачча. – Намедни сказывала девка Стамма – в судомойках она у палача тюремного – будто бы мертвые тела этот самый Леонардо, не к ночи будь помянут, с виселиц ворует, ножами режет, потрошит, кишки выматывает…
– Ну, это не твоего ума дела, Барбачча, – заметил с важностью Корболо, – это наука, именуемая анатомией…
– Машину, говорят, изобрел, чтобы по воздуху летать на птичьих крыльях, – сообщил златошвей Маскарелло.
– Древний крылатый змий Велиар восстает на Бога, – пояснил опять фра Тимотео. – Симон Волхв тоже поднялся на воздух, но был низвержен апостолом Павлом.
– По морю ходит, как по суху, – объявил Скарабулло: – «Господь, мол, ходил по воде, и я пойду», – вот как богохульствует!
– В стеклянном колоколе на дно моря опускается, – добавил скорняк Мазо.
– И, братцы, не верьте! На что ему колокол? Обернется рыбой и плавает, обернется птицей и летает! – решил Горгольо.
– Вишь ты, оборотень окаянный, чтоб ему издохнуть!
– И чего отцы инквизиторы смотрят? На костер бы!
– Кол ему осиновый в горло!
– Увы, увы! Горе нам, возлюбленные! – возопил фра Тимотео. – Святейший гвоздь, святейший гвоздь – у Леонардо!
– Не быть тому! – закричал Скарабулло, сжимая кулаки, – умрем, а не дадим святыни на поругание. Отнимем гвоздь у безбожника!
– Отомстим за гвоздь! Отомстим за убитого герцога!
– Куда вы, братцы? – всплеснул руками башмачник. – Сейчас обход ночной стражи. Капитан Джустиции…
– К черту капитана Джустиции! Ступай под юбку к жене своей, Корболо, ежели трусишь!
Вооруженная палками, кольями, бердышами, камнями, с криком и бранью, двинулась толпа по улицам.
Впереди шел монах, держа распятие в руках, и пел псалом:
«Да воскреснет Бог и да расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его».
«Как исчезает дым, да исчезнут, как воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Господня».
Смоляные факелы дымились и трещали. В их багровом отблеске бледнел опрокинутый серп одинокого месяца. Меркли тихие звезды.
X
Леонардо работал в своей мастерской над машиной для подъема святейшего гвоздя. Зороастро делал круглый ящик со стеклами и золотыми лучами, в котором должна была храниться святыня. В темном углу мастерской сидел Джованни Бельтраффио, изредка поглядывая на учителя.
Погруженный в исследование вопроса о передаче силы посредством блоков и рычагов, Леонардо забыл машину.
Только что кончил он сложное вычисление. Внутренняя необходимость разума – закон математики оправдывал внешнюю необходимость природы – закон механики: две великие тайны сливались в одну, еще большую.
«Никогда не изобретут люди, – думал он с тихой улыбкой, – ничего столь простого и прекрасного, как явление природы. Божественная необходимость принуждает законами своими вытекать из причины следствие кратчайшим путем».
В душе его было знакомое чувство благоговейного изумления перед бездною, в которую он заглядывал, – чувство, не похожее ни на одно из других доступных людям чувств.
На полях, рядом с чертежом подъемной машины для святейшего гвоздя, рядом с цифрами и вычислениями, написал он слова, которые в сердце его звучали, как молитва.
«О дивная справедливость Твоя, первый Двигатель! Ты не пожелал лишить никакую силу порядка и качества необходимых действий, ибо, ежели должно ей подвинуть тело на сто локтей, и на пути встречается преграда, Ты повелел, чтобы сила удара произвела новое движение, получая замену непройденного пути, различными толчками и сотрясениями, – о, божественная необходимость Твоя, первый Двигатель!»
Раздался громкий стук в наружную дверь дома, пение псалмов, брань и вопль разъяренной толпы.
Джованни и Зороастро побежали узнать, что случилось.
Стряпуха Матурина, только что вскочившая с постели, полуодетая, растрепанная, бросилась в комнату с криком:
– Разбойники! Разбойники! Помогите! Матерь Пресвятая, помилуй нас!..
Вошел Марко д’Оджоне с аркебузом в руках и поспешно запер ставни на окнах.
– Что это, Марко? – спросил Леонардо.
– Не знаю. Какие-то негодяи ломятся в дом. Должно быть, монахи взбунтовали чернь.
– Чего они хотят?
– Черт их разберет, сволочь полоумную! Святейшего гвоздя требуют.
– У меня его нет: он в ризнице у архиепископа Арчимбольдо.
– Я и то говорил. Не слушают, беснуются. Вашу милость отравителем герцога Джан-Галеаццо называют, колдуном и безбожником.
Крики на улице усиливались:
– Отоприте! Отоприте! Или гнездо ваше проклятое спалим! Подождите, доберемся до шкуры твоей, Леонардо, Антихрист окаянный!
– Да воскреснет Бог и да расточатся враги его! – возглашал фра Тимотео, и с пением его сливался пронзительный свист шалуна Фарфаниккио.
В мастерскую вбежал маленький слуга Джакопо, вскочил на подоконник, отворил ставню и хотел выпрыгнуть на двор, но Леонардо удержал его за край платья:
– Куда ты?
– За беровьеррами: стража капитана Джустиции в этот час неподалеку проходит.
– Что ты? Бог с тобою, Джакопо, тебя поймают и убьют.
– Не поймают! Я через стену к тетке Трулле в огород, потом в канаву с лопухом, и задворками… А если и убьют, лучше пусть меня, чем вас!
Оглянувшись на Леонардо с нежной и храброй улыбкой, мальчик вырвался из рук его, выскочил в окно, крикнул со двора: «Выручу, не бойтесь!» – и захлопнул ставню.
– Шалун, бесенок, – покачала головой Матурина, – а вот в беде-то пригодился. И вправду, пожалуй, выручит…
Зазвенели разбитые стекла в одном из верхних окон.
Стряпуха жалобно вскрикнула, всплеснула руками, выбежала из комнаты, нащупала в темноте крутую лестницу погреба, скатилась по ней и, как потом сама рассказывала, залезла в пустую винную бочку, где и просидела бы до утра, если бы ее не вытащили.
Марко побежал наверх запирать ставни.
Джованни вернулся в мастерскую, хотел опять сесть в свой угол, с бледным, убитым и ко всему равнодушным лицом, но посмотрел на Леонардо, подошел и вдруг упал перед ним на колени.
– Что с тобой? О чем ты, Джованни?
– Они говорят, учитель… Я знаю, это неправда… Я не верю… Но скажите… ради Бога, скажите мне сами!..
И не кончил, задыхаясь от волнения.
– Ты сомневаешься, – молвил Леонардо с печальной усмешкой, – правду ли они говорят, что я убийца?
– Одно слово, только слово, учитель, из ваших уст!..
– Что я могу тебе сказать, друг мой? И зачем? Все равно ты не поверишь, если мог усомниться…
– О, мессер Леонардо! – воскликнул Джованни. – Я так измучился, я не знаю, что со мной… я с ума схожу, учитель… Помогите! Сжальтесь! Я больше не могу… Скажите, что это неправда!..
Леонардо молчал.
Потом, отвернувшись, молвил дрогнувшим голосом:
– И ты с ними, и ты против меня!..
Послышались такие удары, что весь дом задрожал: лудильщик Скарабулло рубил дверь топором.
Леонардо прислушался к воплям черни, и сердце его сжалось от знакомой тихой грусти, от чувства беспредельного одиночества.
Он опустил голову; глаза его упали на строки, только что им написанные:
«О дивная справедливость твоя, первый Двигатель!»
«Так, – подумал он, – все благо, все от Тебя!»
Он улыбнулся и с великой покорностью повторил слова умирающего герцога Джан-Галеаццо:
«Да будет воля Твоя на земле, как на небе».
Шестая книга. Дневник Джованни Бельтраффио
Я поступил в ученики к флорентинскому мастеру Леонардо да Винчи 25 марта 1494 года.
Вот порядок учения: перспектива, размеры и пропорции человеческого тела, по образцам хороших мастеров, рисование с натуры.
* * *
Сегодня товарищ мой Марко д’Оджоне дал мне книгу о перспективе, записанную со слов учителя. Начинается так:
«Наибольшую радость телу дает свет солнца; наибольшую радость духу – ясность математической истины. Вот почему науку о перспективе, в которой созерцание светлой линии – величайшая отрада глаз – соединяется с ясностью математики – величайшею отрадой ума, – должно предпочитать всем остальным человеческим исследованиям и наукам, Да просветит же меня сказавший о Себе: “Я есмь Свет истинный”, и да поможет изложить науку о перспективе, науку о Свете. И я разделяю эту книгу на три части: первая – уменьшение вдали объема предметов, вторая – уменьшение ясности цвета, третья – уменьшение ясности очертаний».
* * *
Мастер заботится обо мне, как о родном: узнав, что я беден, не захотел принять условленной ежемесячной платы.
* * *
Учитель сказал:
– Когда ты овладеешь перспективой и будешь знать наизусть пропорции человеческого тела, наблюдай усердно во время прогулок движения людей – как стоят они, ходят, разговаривают и спорят, хохочут и дерутся, какие при этом лица у них и у тех зрителей, которые желают разнять их, и тех, которые молча наблюдают; все это отмечай и зарисовывай карандашом, как можно скорее, в маленькую книжку из цветной бумаги, которую неотлучно имей при себе, когда же наполнится она, заменяй другою, а старую откладывай и береги. Помни, что не следует уничтожать и стирать эти рисунки, но хранить, ибо движения тел так бесконечны в природе, что никакая человеческая память не может их удержать. Вот почему смотри на эти наброски, как на своих лучших наставников и учителей.
Я завел себе такую книжку и каждый вечер записываю слышанные в течение дня достопамятные слова учителя.
* * *
Сегодня встретил в переулке лоскутниц, недалеко от собора, дядю моего, стекольного мастера Освальда Ингрима. Он сказал мне, что отрекается от меня, что я погубил душу свою, поселившись в доме безбожника и еретика Леонардо. Теперь я совсем один: нет у меня никого на свете – ни родных, ни друзей – кроме учителя. Я повторяю прекрасную молитву Леонардо: «да просветит меня Господь, Свет мира, и да поможет изучить перспективу, науку о свете Его». Неужели это слова безбожника?
* * *
Как бы ни было мне тяжело, стоит взглянуть на лицо его, чтобы на душе сделалось легче и радостнее. Какие у него глаза – ясные, бледно-голубые и холодные, точно лед; какой тихий, приятный голос, какая улыбка! Самые злые, упрямые люди не могут противиться вкрадчивым словам его, если он желает склонить их на «да» или «нет». Я часто подолгу смотрю на него, как он сидит за рабочим столом, погруженный в задумчивость, и привычным медленным движением тонких пальцев перебирает, разглаживает длинную, вьющуюся и мягкую, как шелк девичьих кудрей, золотистую бороду. Ежели с кем-нибудь говорит, то обыкновенно прищуривает один глаз с немного лукавым, насмешливым и добрым выражением: кажется тогда, взор его из-под густых нависших бровей проникает в самую душу.
* * *
Одевается просто; не терпит пестроты в нарядах и новых мод. Не любит никаких духов. Но белье у него из тонкого реннского полотна, всегда белое, как снег. Черный бархатный берет без всяких украшений, медалей и перьев. Поверх черного камзола – длинный до колен темно-красный плащ с прямыми складками, старинного покроя. Движения плавны и спокойны. Несмотря на скромное платье, всегда, где бы ни был он, среди вельмож или в толпе народа, у него такой вид, что нельзя не заметить его: не похож ни на кого.
* * *
Все умеет, знает все: отличный стрелок из лука и арбалета, наездник, пловец, мастер фехтования. Однажды видел я его в состязании с первыми силачами народа: игра состояла в том, что подбрасывали в церкви маленькую монету так, чтобы она коснулась самой середины купола. Мессер Леонардо победил всех ловкостью и силой.
Он левша. Но левою рукою, с виду нежной и тонкой, как у молодой женщины, сгибает железные подковы, перекручивает язык медного колокола и ею же, рисуя лицо прекрасной девушки, наводит прозрачные тени прикосновениями угля или карандаша, легкими, как трепетания крыльев бабочки.
* * *
Сегодня после обеда кончил при мне рисунок, который изображает склоненную голову Девы Марии, внимающей благовестню Архангела. Из-под головной повязки, украшенной жемчугом и двумя голубиными крыльями, стыдливо играя с веянием ангельских крыл, выбиваются пряди волос, заплетенных, как у флорентинских девушек, в прическу, по виду небрежную, на самом деле – искусную. Красота этих вьющихся кудрей пленяет, как странная музыка. И тайна глаз ее, которая как будто просвечивает сквозь опущенные веки с густой тенью ресниц, похожа на тайну подводных цветов, видимых сквозь прозрачные волны, но недосягаемых.
Вдруг в мастерскую вбежал маленький слуга Джакопо и, прыгая, хлопая в ладоши, закричал:
– Уроды! Уроды! Мессер Леонардо, ступайте скорее на кухню! Я привел вам таких красавчиков, что останетесь довольны!
– Откуда? – спросил учитель.
– С паперти у Самт-Амброджо. Нищие из Бергамо. Я сказал, что вы угостите их ужином, если они позволят снять с себя портреты.
– Пусть подождут. Я сейчас кончу рисунок.
– Нет, мастер, они ждать не будут: назад в Бергамо до ночи торопятся. Да вы только взгляните – не пожалеете! Стоит, право же, стоит! Вы себе представить не можете, что за чудовища!
Покинув неоконченный рисунок Девы Марии, учитель пошел в кухню. Я за ним.
Мы увидели двух чинно сидевших на лавке братьев-стариков, толстых, точно водянкою раздутых, с отвратительными, отвислыми опухолями громадных зобов на шее – болезнью, обычною среди обитателей Бергамских гор, – и жену одного из них, сморщенную, худенькую старушонку, по имени Паучиха, вполне достойную этого имени.
Лицо Джакопо сияло гордостью.
– Ну, вот, видите, – шептал он, – я же говорил, что вам понравится! Я уж знаю, что нужно…
Леонардо подсел к уродам, велел подать вина, стал их потчевать, любезно расспрашивать, смешить глупыми побасенками. Сперва они дичились, поглядывали недоверчиво, должно быть, не понимая, зачем их сюда привели. Но когда он рассказал им площадную новеллу о мертвом жиде, изрезанном на мелкие куски своим соотечественником, чтобы избежать закона, воспрещавшего погребение жидов на земле города Болоньи, замаринованном в бочку с медом и ароматами, отправленном в Венецию с товарами на корабле и нечаянно съеденном одним флорентинским путешественником-христианином, – Паучиху стал разбирать смех. Скоро все трое, опьянев, захохотали с отвратительными ужимками. Я в смущении потупил глаза и отвернулся, чтобы не видеть. Но Леонардо смотрел на них с глубоким, жадным любопытством, как ученый, который делает опыт. Когда уродство их достигло высшей степени, взял бумагу и начал рисовать эти мерзостные рожи тем самым карандашом, с той же любовью, с которой только что рисовал божественную улыбку Девы Марии.
Вечером показывал мне множество карикатур не только людей, но и животных – страшные лица, похожие на те, что преследуют больных в бреду. В зверском мелькает человеческое, в человеческом зверское, одно переходит в другое легко и естественно, до ужаса. Я запомнил морду дикобраза с колючими ощетинившимися иглами, с отвислою нижнею губою, болтающеюся, мягкою и тонкою, как тряпка, обнажившею в гнусной человеческой улыбке продолговатые, как миндалины, белые зубы. Я также никогда не забуду лица старухи с волосами, вздернутыми кверху в дикую, безумную прическу, с жидкою косичкою сзади, с гигантским лысым лбом, расплющенным носом, крохотным, как бородавка, и чудовищно толстыми губами, напоминавшими те дряблые, осклизлые грибы, которые растут на гнилых пнях. И всего ужаснее то, что эти уроды кажутся знакомыми, как будто где-то уже видел их, и что-то есть в них соблазнительное, что отталкивает и в то же время притягивает, как бездна. Смотришь, ужасаешься – и нельзя оторвать от них глаз так же, как от божественной улыбки Девы Марии.
И там, и здесь – удивление, как перед чудом.
* * *
Чезаре да Сеето рассказывает, что Леонардо, встретив где-нибудь в толпе на улице любопытного урода, в течение целого дня может следовать за ним и наблюдать, стараясь запомнить лицо его. Великое уродство в людях, говорит учитель, так же редко и необычайно, как великая прелесть: только среднее – обычно.
Он изобрел странный способ запоминать человеческие лица. Полагает, что носы у людей бывают трех родов: или прямые, или с горбинкой, или с выемкой. Прямые могут быть или короткими, или длинными, с концами тупыми или острыми. Горбина находится или вверху носа, или внизу, или посередине – и так далее для каждой части лица. Все эти бесчисленные подразделения, роды и виды, отмеченные цифрами, заносятся в особую разграфленную книжку. Когда художник где-нибудь на прогулке встречает лицо, которое желает запомнить, ему стоит лишь отметить значком соответствующий род носа, лба, глаз, подбородка и, таким образом, посредством ряда цифр закрепляется в памяти как бы мгновенный снимок с живого лица. На свободе, вернувшись домой, соединяет эти части в один образ.
Придумал также маленькую ложечку для безукоризненно точного, математического измерения количества краски при изображении постепенных, глазом едва уловимых, переходов света в тень и тени в свет. Если, например, для того, чтобы получить определенную степень густоты тени, нужно взять десять ложечек черной краски, то для получения следующей степени должно взять одиннадцать, потом двенадцать, тринадцать и так далее. Каждый раз, зачерпнув краски, срезывают горку, сравнивают ее стеклянным наугольником: так на рынке равняют меру, насыпанную зерном.
* * *
Марко д’Оджоне – самый прилежный и добросовестный из учеников Леонардо. Работает, как волк, выполняет с точностью все правила учителя; но, по-видимому, чем больше старается, тем меньше успевает. Марко упрям: что забрал себе в голову, и гвоздем не вышибешь. Убежден, что «терпение и труд все перетрут», – и не теряет надежды сделаться великим художником. Больше всех нас радуется изобретениям учителя, которые сводят искусство к механике. Намедни, захватив с собой книжечку с цифрами для запоминания лиц, отправился на площадь Бролетто, выбрал лица в толпе и отметил их значками в таблице. Но когда вернулся домой, сколько ни бился, никак не мог соединить отдельные части в живое лицо. Такое же горе вышло у него с ложечкой для измерения черной краски: несмотря на то что он в своей работе соблюдает математическую точность, тени остаются непрозрачными и неестественными, так же как лица деревянными и лишенными всякой прелести. Марко объясняет это тем, что не выполнил всех правил учителя, и удваивает усердие. А Чезаре да Сесто злорадствует.
– Добрейший Марко, – говорит он, – истинный мученик искусства! Пример его доказывает, что все эти хваленые правила, и ложечки, и таблицы для носов ни к черту не годятся. Мало знать, как рождаются дети, для того чтобы родить. Леонардо только себя и других обманывает: говорит одно, делает другое. Когда пишет, не думает ни о каких правилах, а только следует вдохновению. Но ему недостаточно быть великим художником, он хочет быть и великим ученым, хочет примирить искусство и науку, вдохновение и математику. Я, впрочем, боюсь, что, погнавшись за двумя зайцами, ни одного не поймает!
Быть может, в словах Чезаре есть доля правды. Но за что он так не любит учителя? Леонардо прощает ему все, охотно выслушивает его злые, насмешливые речи, ценит ум его и никогда не сердится.
* * *
Я наблюдаю, как он работает над Тайной Вечерей. Рано поутру, только что солнце встанет, уходит из дому, отправляется в монастырскую трапезную и в течение целого дня, пока не стемнеет, пишет, не выпуская кисти из рук, забывая о пище и питье. А то проходит неделя, другая – не дотрагивается до кистей; но каждый день простаивает два, три часа на подмостках перед картиной, рассматривая и обсуждая то, что сделано; иногда в полдень, в самую жару, бросая начатое дело, по опустевшим улицам, не выбирая теневой стороны, как будто увлекаемый невидимой силой, бежит в монастырь, взлезает на подмостки, делает два, три мазка и тотчас уходит.
* * *
Все эти дни работал над головой апостола Иоанна. Сегодня должен был кончить. Но, к удивлению моему, остался дома и с утра, вместе с маленьким Джьякопо, занялся наблюдением над полетом шмелей, ос и мух. Так погружен в изучение устройства их тела и крыльев, словно от этого зависят судьбы мира. Обрадовался, как Бог весть чему, когда нашел, что задние лапки служат мухам вместо руля. По мнению учителя, это чрезвычайно полезно и важно для изобретения летательной машины. Может быть. Но все же обидно, что голова апостола Иоанна покинута для исследования мушиных лапок.
* * *
Сегодня новое горе. Мухи забыты, как и Тайная Вечеря. Сочиняет сложный, тонкий узор для герба несуществующей, но предполагаемой герцогом, миланской академии живописи – четырехугольник из переплетенных, без конца, без начала, свивающихся веревочных узлов, которые окружают латинскую надпись: Leonardi Vinci Academia. Так поглощен отделкой узора, как будто ничего более в мире не существует, кроме этой трудной и бесполезной игры. Кажется, никакие силы не могли бы его оторвать от нее. Я не вытерпел и решился напомнить о неоконченной голове апостола Иоанна. Он пожал плечами и, не подымая глаз от веревочных узлов, процедил сквозь зубы:
– Не уйдет, успеем.
Я иногда понимаю злобу Чезаре.
* * *
Герцог Моро поручил ему устройство во дворце слуховых труб, скрытых в толще стен, так называемого Дионисиева уха, которое позволяет государю подслушивать из одного покоя то, что говорится в другом. Сначала мастер с большим увлечением принялся за проведение труб. Но скоро, по обыкновению, охладел и стал откладывать под разными предлогами. Герцог торопит и сердится. Сегодня поутру несколько раз присылали из дворца. Но учитель занят новым делом, которое кажется ему не менее важным, чем устройство Дионисиева уха, – опытами над растениями: обрезав корни у тыквы и оставив один маленький корешок, обильно питает его водой. К немалой радости его, тыква не засохла, и мать, как он выражается, благополучно выкормила всех своих детей – около шестидесяти длинных тыкв. С каким терпением, с какой любовью следил он за жизнью этого растения! Сегодня до зари просидел на огородной грядке, наблюдая, как широкие листья пьют ночную росу. «Земля, – говорит он, – поит растения влагой, небо росой, а солнце дает им душу», ибо он полагает, что не только у человека, но и у животных, даже у растений есть душа – мнение, которое фра Бенедетто считает весьма еретическим.
* * *
Любит всех животных. Иногда целыми днями наблюдает и рисует кошек, изучает их нравы и привычки: как они играют, дерутся, спят, умывают морду лапками, ловят мышей, выгибают спину и ерошатся на собак. Или с таким же любопытством смотрит сквозь стенки большого стеклянного сосуда на рыб, слизняков, волосатиков, каракатиц и всяких других водяных животных. Лицо его выражает глубокое, тихое удовлетворение, когда они дерутся и пожирают друг друга.
* * *
Сразу тысячи дел. Не кончив одного, берется за другое. Впрочем, каждое из дел похоже на игру, каждая игра – на дело. Разнообразен и непостоянен. Чезаре говорит, что скорее потекут реки вспять, чем Леонардо сосредоточится на одном каком-нибудь замысле и доведет его до конца. Называет учителя самым великим из беспутных людей, уверяя, что из всех необъятных трудов его не выйдет никакого толку. Леонардо, будто бы, написал сто двадцать книг «О природе – Delle Cose Naturali». Но все это случайные отрывки, отдельные заметки, разрозненные клочки бумаги – более пяти тысяч листков в таком страшном беспорядке, что сам он иногда не может разобраться, ищет какой-нибудь нужной заметки и не находит.
* * *
Какое у него неутолимое любопытство, какой добрый, вещий глаз для природы! Как он умеет замечать незаметное! Всюду удивляется радостно и жадно, как дети, как первые люди в раю.
Иногда о самом будничном такое слово скажет, что потом, хоть сто лет живи, не забудешь – прилипнет к памяти и не отвяжется.
Намедни, войдя в мою келью, учитель сказал: «Джованни, обратил ли ты внимание на то, что маленькие комнаты сосредоточивают ум, а большие – возбуждают его к деятельности?»
Или еще: «В тенистом дожде очертания предметов кажутся яснее, чем в солнечном».
А вот из вчерашнего делового разговора с литейным мастером о каких-то заказанных ему герцогом военных орудиях: «Взрыв пороха, сжатого между тарелью бомбарды и ядром, действует, как человек, который, упершись задом в стену, изо всей силы толкал бы перед собой руками тяжесть».
Говоря однажды об отвлеченной механике, сказал: «Сила всегда желает победить свою причину и, победив, умереть. Удар – сын Движения, внук Силы, а общий прадед – Вес».
В споре с одним архитектором воскликнул с нетерпением: «Как же вы не понимаете, мессере? Это ясно, как день. Ну, что такое арка? Арка не что иное, как сила, рождаемая двумя соединенными и противоположными слабостями». Архитектор даже рот разинул от удивления. А для меня все в их разговоре сразу сделалось ясным, как будто в темную комнату свечку внесли.
* * *
Опять два дня работы над головою апостола Иоанна.
Но, увы, что-то потеряно в бесконечной возне с мушиными крыльями, тыквою, кошками, Дионисиевым ухом, узором из веревочных узлов и тому подобными важными делами. Опять не кончил, бросил и, по выражению Чезаре, весь ушел в геометрию, как улитка в свою раковину, полный отвращения к живописи. Говорит, будто бы самый запах красок, вид кистей и полотна ему противны.
Вот так мы и живем, по прихоти случая, изо дня в день, предавшись воле Божьей. Сидим у моря и ждем погоды. Хорошо, что еще до летательной машины не дошло, а то пиши пропало – так зароется в механику, что только мы его и видали!
* * *
Я заметил, что всякий раз, как после долгих отговорок, сомнений и колебаний он приступает, наконец, к работе, берет кисть в руки, – чувство, подобное страху, овладевает им. Всегда недоволен тем, что сделал. В созданиях, которые кажутся другим пределом совершенства, замечает ошибки. Стремится все к высшему, к недосягаемому, к тому, чего рука человеческая, как бы ни было искусство ее бесконечно, выразить не может. Вот почему почти никогда не кончает.








