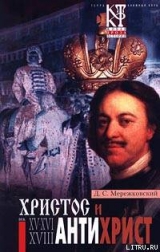
Текст книги "Антихрист (Петр и Алексей)"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– С Богом не поспоришь! Праведен гнев Его. Истребился город сей с лица земли, как Содом и Гоморра. Воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог: конец всякой плоти пришел пред лице Мое. Я наведу на землю потоп водный и истреблю все сущее с лица земли…
И слушая эти пророчества, люди испытывали новый неведомый ужас, как будто наступал конец мира, светопреставление.
В слуховом окне вспыхнуло зарево на черном небе. Сквозь шум урагана послышался колокол. То били в набат. Пришедшие снизу конюхи сказали, что горят избы рабочих и канатные склады в соседней Адмиралтейской слободке. Несмотря на близость воды, пожар был особенно страшен при такой силе ветра: пылающие головни разносились по городу, который мог вспыхнуть каждую минуту со всех концов. Он погибал между двумя стихиями – горел и тонул вместе. Исполнялось пророчество: «Питербурху быть пусту».
К рассвету буря утихла. В прозрачной серости тусклого дня кавалеры в париках, покрытых пылью и паутиною, дамы в робронах и фижмах «на версальский манир», под овечьими тулупами, с посиневшими от холода лицами, казались друг другу привидениями.
Монс выглянул в слуховое окно и увидел там, где был город, безбрежное озеро. Оно волновалось – как будто не только на поверхности, но до самого дна кипело, бурлило, и клокотало, как вода в котле над сильным огнем. Это озеро была Нева – пестрая, как шкура на брюхе змеи, желтая, бурая, черная, с белыми барашками, усталая, но все еще буйная, страшная под страшным, серым как земля и низким небом.
По волнам носились разбитые барки, опрокинутые лодки, доски, бревна, крыши, остовы целых домов, вырванные с корнем деревья, трупы животных.
И жалки были, среди торжествующей стихии, следы человеческой жизни – кое-где над водою торчавшие башни, шпицы, купола, кровли потопленных зданий.
Монс увидел вдали на Неве, против Петропавловской крепости, несколько гребных галер и буеров. Поднял валявшийся на полу чердака длинный шест из тех, которыми гоняют голубей, привязал к нему красную шелковую косынку Настеньки, высунул шест в окно и начал махать, делая знаки, призывая на помощь. Одна из лодок отделилась от прочих и, пересекая Неву, стала приближаться к ассамблейному домику. Лодки сопровождали царский буер. Всю ночь работал Петр без отдыха, спасая людей от воды и огня. Как простой пожарный, лазил на горящие здания; огнем опалило ему волосы; едва не задавило рухнувшей балкою. Помогая вытаскивать убогие пожитки бедняков из подвальных жилищ, стоял по пояс в воде и продрог до костей. Страдал со всеми, ободрял всех. Всюду, где являлся царь, работа кипела так дружно, что ей уступали вода и огонь.
Царевич был с отцом в одной лодке, но всякий раз, как пытался чем-либо помочь, Петр отклонял эту помощь, как будто с брезгливостью.
Когда потушили пожар и вода начала убывать, царь вспомнил, что пора домой, к жене, которая всю ночь провела в смертельной тревоге за мужа.
На возвратном пути захотелось ему подъехать к Летнему саду, взглянуть, какие опустошения сделала вода. Галерея над Невою была полуразрушена, но Венера Цела. Подножие статуи – под водою, так что казалось, богиня стоит на воде, и, Пенорожденная, выходит из волн, нo не синих и ласковых, как некогда, а грозных, темных, тяжких, точно железных, Стиксовых волн. У самых ног на мраморе что-то чернело. Петр посмотрел в подзорную трубу и увидел, что это человек. По указу царя, солдат днем и ночью стоял на часах у драгоценной статуи. Настигнутый водою и не смея бежать, он залез на подножие Венеры, прижался к ногам ее, обнял их, и так просидел, должно быть, всю ночь, окоченелый от холода, полумертвый от усталости. Царь спешил к нему на помощь. Стоя у руля, правил буер наперерез волнам и ветру. Вдруг налетел огромный вал, хлестнул через борт, обдал брызгами и накренил судно так, что, казалось, оно опрокинется. Но Петр был опытный кормчий. Упираясь ногами в корму, налегая всею тяжестью тела на руль, побеждал он ярость волн и правил твердою рукою прямо к цели. Царевич взглянул на отца и вдруг почему-то вспомнил то, что слышал однажды в беседе «на подпитках» от своего учителя Вяземского:
– Федос, бывало, с певчими при батюшке твоем поют: Где хочет Бог, там чин естества побеждается – и тому подобные стихи; и то-де поют, льстя отцу твоему: любо ему, что его с Богом равняют; а того не рассудит, что не только от Бога, – но и от бесов чин естества побеждается: бывают и чуда бесовские!
В простой шкиперской куртке, в кожаных высоких сапогах, с развевающимися волосами, – шляпу только что сорвало ветром – исполинский Кормчий глядел на потопленный город – и ни смущения, ни страха, ни жалости не было в лице его, спокойном, твердом, точно из камня изваянном – как будто, в самом деле, в этом человеке было что-то нечеловеческое, над людьми и стихиями властное, сильное, как рок. Люди смирятся, ветры утихнут, волны отхлынут – и город будет там, где он велел быть городу, ибо чин естества побеждается, где хочет…
«Кто хочет?» – не смея кончить, спросил себя царевич: «Бог или бес?»
* * *
Несколько дней спустя, когда обычный вид Петербурга уже почти скрыл следы наводнения, Петр писал в шутливом послании к одному из птенцов своих:
«На прошлой неделе ветром вест-зюйд-вестом такую воду нагнало, какой, сказывают, не бывало. У меня в хоромах было сверху пола 21 дюйм; а по огороду и по другой стороне улицы свободно ездили в лодках. И зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа сидели, не только мужики, но и бабы. Вода, хотя и зело велика была, а беды большой не сделала».
Письмо было помечено: Из Парадиза.
II
Петр заболел. Простудился во время наводнения, когда, вытаскивая из подвалов имущество бедных, стоял по пояс в воде. Сперва не обращал внимания на болезнь, перемогался на ногах; но 15 ноября слег, и лейб-медик Блюментрост объявил, что жизнь царя в опасности.
В эти дни судьба Алексея решалась. В самый день похорон кронпринцессы, 28 октября, возвратясь из Петропавловского собора в дом сына для поминальной трапезы, Петр отдал ему письмо, «объявление сыну моему». в котором требовал его немедленного исправления, под угрозой жестокого гнева и лишения наследства.
– Не знаю, что делать, – говорил царевич приближенным, – нищету ли принять, да с нищими скрыться до времени, отойти ли куда в монастырь, да быть с дьячками. или отъехать в такое царство, где приходящих принимают и никому не выдают?
– Иди в монахи, – убеждал адмиралтейц-советник Александр Кикин, давний сообщник и поверенный Алексея. – Клобук не прибит к голове гвоздем: можно его и снять. Тебе покой будет, как ты от всего отстанешь…
– Я тебя у отца с плахи снял, – говорил князь Василий Долгорукий. – Теперь ты радуйся, дела тебе ни до чего не будет. Давай писем отрицательных хоть тысячу. Ежели когда что будет; старая пословица: улита едет, коли-тo будет. Это не запись с неустойкою…
– Хорошо, что ты наследства не хочешь, – утешал князь Юрий Трубецкой. – Рассуди, чрез золото слезы не текут ли?..
С Кикиным у царевича были многие разговоры о бегстве в чужие края, «чтоб остаться там где-нибудь, ни для чего иного, только бы прожить, отдалясь от всего, в покое».
– Коли случай будет, – советовал Кикин, – поезжай в Вену к цесарю. Там не выдадут. Цесарь сказал, что примет тебя как сына. А не то к папе, либо ко двору французскому. Там и королей под своею протекцией держат, тебя бы им было не великое дело…
Царевич слушал советы, но ни на что не решался и жил изо дня в день, «до воли Божьей».
Вдруг все изменилось. Смерть Петра грозила переворотом в судьбах не только России, но и всего мира. Toт, кто вчера хотел скрыться с нищими, мог завтра вступить на престол.
Внезапные друзья окружили царевича, сходились, шептались, шушукались.
– Ждем подождем, а что-то будет.
– Вынется – сбудется, а сбудется – не минуется.
– Доведется и нам свою песенку спеть.
– И мыши на погост кота волокут.
В ночь с 1 на 2 декабря царь почувствовал себя так плохо, что велел позвать духовника, архимандрита Федоса, исповедался и приобщился. Екатерина и Меншиков не выходили из комнаты больного. Резиденты иностранных дворов, русские министры и сенаторы ночевали в покоях Зимнего дворца. Когда поутру приехал царевич узнать о здоровье государя, тот не принял его, но, по внезапному безмолвию расступившейся толпы, по раболепным поклонам, по ищущим взорам, по бледным лицам, особенно мачехи и светлейшего, Алексей понял, как близко то, что всегда казалось ему далеким, почти невозможным. Сердце у него упало, дух захватило, он сам не знал отчего – от радости или ужаса.
В тот же день вечером посетил Кикина и долго беседовал с ним наедине. Кикин жил на конце города, прямо против Охтенских слобод, недалеко от Смольного двора. Оттуда поехал домой.
Сани быстро неслись по пустынному бору и столь же пустынным, широким улицам, похожим на лесные просеки, с едва заметным рядом темных бревенчатых изб, занесенных снежными сугробами. Луны не было видно, но воздух пропитан был яркими лунными искрами, иглами. Снег не падал сверху, а снизу клубился по ветру столбами, курился как дым. И светлая лунная вьюга играла, точно пенилась, в голубовато-мутном небе, как вино в чаше.
Он вдыхал морозный воздух с наслаждением. Ему было весело, словно в душе его тоже играла светлая вьюга, буйная, пьяная и опьяняющая. и как за вьюгой луна, так за его весельем была мысль, которой он сам еще не видел, боялся увидеть, но чувствовал, что это ему от нее так пьяно, страшно и весело.
В заиндевелых окнах изб, под нависшими с кровель сосульками, как пьяные глаза под седыми бровями, тускло рдели огоньки в голубоватой лунной мгле. «Может быть, – подумал он, глядя на них, – там теперь пьют за меня, за надежду Российскую!» И ему стало еще веселее.
Вернувшись домой, сел у камелька с тлеющими углями и велел камердинеру Афанасьичу приготовить жженку. В комнате было темно; свечей не приносили; Алексей любил сумерничать. В розовом отсвете углей забилось вдруг синее сердце спиртового пламени. Лунная вьюга заглядывала в окна голубыми глазами сквозь прозрачные цветы мороза, и казалось, что там, за ними, тоже бьется живое огромное синее пьяное пламя.
Алексей рассказывал Афанасьичу свою беседу с Кикиным: то был план целого заговора, на случай если бы пришлось бежать и, по смерти отца, которой он чаял быть вскоре – у царя-де болезнь эпилепсия, а такие люди не долго живут – вернутся в Россию из чужих краев: министры, сенаторы – Толстой, Головкин, , Шафиров, Апраксин, Стрешнев, Долгорукие – все ему друзья, все к нему пристали бы – Боур в Польше, архимандрит Печерский на Украйне, Шереметев в главной армии:
– Вся от Европы граница была бы моя!
Афанасьич слушал со своим обычным, упрямым и угрюмым видом: хорошо поешь, где-то сядешь?
– А Меншиков? – спросил он, когда Алексей кончил.
– А Меншикова на кол!
Старик покачал головою:
– Для чего, государь-царевич, так продерзливо говоришь? А ну, кто прислушает, да пронесут? В совести твоей не кляни князя и в клети ложницы твоей не кляни богатого, яко птица небесная донесет…
– Ну, пошел брюзжать! – махнул рукою царевич с досадою и все-таки с неудержимою веселостью.
Афанасьич рассердился:
– Не брюзжу, а дело говорю! Хвали сон, когда сбудется. Изволишь, ваше высочество, строить гишпанские замки. Нашего мизерства не слушаешь. Иным веришь, а они тебя обманывают. Иуда Толстой, да Кикин безбожник – предатели! Берегись, государь: им тебя не первого кушать…
– Плюну я на всех: здорова бы мне чернь была! – воскликнул царевич.
– Когда будет время без батюшки – шепну архиереям, архиереи приходским священникам, а священники прихожанам. Тогда учинят меня царем и нехотя!
Старик молчал, все с тем же упрямым и угрюмым видом: хорошо поешь, где-то сядешь?
– Что молчишь? – спросил Алексей.
– Что мне говорить, царевич? Воля твоя, а чтоб от батюшки бежать, я не советчик.
– Для чего?
– Того ради: когда удастся, хорошо; а если не удастся, ты же на меня будешь гневаться. Уж и так от тебя принимали всячину. Мы люди темненькие, шкурки на нас тоненькие…
– Однако же, ты смотри, Афанасьич, никому про то не сказывай. Только у меня про это ты знаешь, да Кикин. Буде скажешь, тебе не поверят я запруся, а тебя станут пытать…
О пытке царевич прибавил в шутку, чтобы подразнить старика.
– А что, государь, когда царем будешь, да так говорить и делать изволишь – верных слуг пыткой стращать?
– Небось, Афанасьич! Коли будем царем, честью вас всех удовольствую…
– Только мне царем не быть, – прибавил он тихо.
– Будешь, будешь! – возразил старик с такою уверенностью, что у Алексея опять, как давеча, дух захватило от радости.
Бубенчики, скрип саней по снегу, лошадиное фырканье и голоса послышались под окнами. Алексей переглянулся с Афанасьичем: кто мог быть в такой поздний час? Уж не из дворца ли, от батюшки?
Иван побежал в сени. Это был архимандрит Федос. Царевич, увидев его, подумал, что отец умер – и так побледнел, что, несмотря на темноту, монах заметил это, благословляя его, и чуть-чуть усмехнулся.
Когда они остались с глазу на глаз, Федоска сел у камелька против царевича и, молча поглядывая на него, все с тою же, едва заметною усмешкою, начал греть озябшие руки над углями, то разгибая, то сгибая кривые пальцы, похожие на птичьи когти.
– Ну, что, как батюшка? – проговорил, наконец, Алексей, собравшись с духом.
– Плохо, тяжело вздохнул монах, – так плохо, что и в живых быть не чаем…
Царевич перекрестился:
– Воля Господня. – Видех человека, яко кедры Ливанские, – заговорил Федос нараспев, по-церковному, – мимо идох – и се не бе. Изыдет дух его и возвратится в землю свою; в той же день погибнут все помышления его…
Но вдруг оборвал, приблизил крошечное сморщенное личико свое к самому лицу Алексея и зашептал быстрым-быстрым, вкрадчивым шепотом:
– Бог долго ждет, да больно бьет. Болезнь государю пришла смертельная от безмерного пьянства, женонеистовства и от Божиего отмщения за посяжку на духовный и монашеский чин, который хотел истребить. Доколе тиранство будет над церковью, дотоле добра ждать нечего. Какое тут христианство! Нешто турецкая хочет быть вера, но и в турках того не делается. Пропащее наше государство!..
Царевич слушал и не верил ушам своим. Всего ожидал он от Федоскиной наглости, только не этого.
– Да вы-то сами, архиереи, церкви Российской правители, чего смотрите? Кому бы и стоять за церковь, как не вам? – произнес он, глядя в упор на Федоску.
– И, полно, царевич! Какие мы правители? Архиереи наши так взнузданы, что куда хошь поведи. Что земские ярыжки, наставлены. От кого чают, того и величают. И так, и сяк готовы в один час перевернуться. Не архиереи, а шушера…
И, опустив голову, прибавил он тихо, как будто про себя – Алексею послышался голос веков в этом тихом слове монаха:
– Были мы орлы, а стали ночные нетопыри!
В черном клобуке, с черными крыльями рясы, с безобразным востреньким личиком, озаренный снизу красным отсветом потухающих углей, он, в самом деле, походил на огромного нетопыря. Только в умных глазах тускло тлел огонь, достойный орлиного взора.
– Не тебе бы говорить, не мне бы слушать, ваше преподобие! – не выдержав, наконец, воскликнул царевич. – Кто церковь царству покорил? Кто люторские обычаи в народ вводить, часовни ломать, иконы ругать, монашеский чин разорять царю приговаривал? Кто ему разрешает на вся?..
Вдруг остановился. Монах глядел на царевича таким пристальным, пронзающим взором, что ему стало жутко. Уж не хитрость ли, не ловушка ли все это? Не подослан ли к нему Федос шпионом от Меншикова, или от самого батюшки?
– А знаешь ли, ваше высочество, – начал Федоска, прищурив один глаз, с бесконечно лукавой усмешкой, – знаешь ли фигуру, в логике именуемую reducto ad absurdum, сведение к нелепому? Вот это самое я и делаю. Царь на церковь наступил, да явно бороть не смеет, исподтишка разоряет, гноит, да гношит. А по мне, ломать – так ломай! Что делаешь, делай скорее. Лучше прямое люторство, нежели кривое православие; лучше прямое атейство, нежели кривое люторство. Чем хуже, тем лучше! К тому веду. Что царь начинает, то я кончаю; что на ухо шепчет, то я во весь народ кричу. Им же самим его обличаю: пусть ведают все, как церковь Божия поругана. Слюбится – стерпится, а не слюбится – дождемся поры, так и мы из норы. Отольются кошке мышкины слезки!..
– Ловко! – рассмеялся царевич, почти любуясь Федоскою и не веря ни единому его слову. – Ну и хитер же ты, отче, как бес…
– А ты, государь, не гнушайся и бесами. Нехотя черт Богу служит…
– С чертом, ваше преподобие, себя равняешь?
– Политик я, – скромно возразил монах. – С волками жить, по-волчьи выть. Диссимуляцию не только учителя политичные в первых царствования полагают регулах, но и сам Бог политике нас учит: яко рыбарь облагает удильный крюк червем, так обложил Господь Дух Свой Плотью Сына и впустил уду в пучину мира и прехитрил, и уловил врага-диавола. Богопремудрое коварство! Небесная политика!
– А что, отче святый, в Бога ты веруешь? – опять посмотрел на него царевич в упор.
– Какая же, государь, политика без церкви, а церковь без Бога? Несть, бо власть, аще не от Бога…
И странно, не то дерзко, не то робко, хихикнув, прибавил:
– А ведь и ты умен, Алексей Петрович! Умнее батюшки. Батюшка, хотя и умен, да людей не знает – мы его, бывало, частехонько за нос поваживаем. А ты умных людей знать будешь лучше… Миленький!..
И вдруг, наклонившись, поцеловал руку царевича так быстро и ловко, что тот не успел ее отдернуть, только весь вздрогнул.
Но, хотя он и почувствовал, что лесть монаха – мед на ноже, все же сладок был этот мед. Он покраснел и, чтобы скрыть смущение, заговорил с притворною суровостью:
– Смотри-ка ты, брат Федос, не сплошай! Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить. Ты-де царя батюшку, словно кошка медведя, задираешь лапою, а как медведь тот, обратясь, да давнет тебя – и дух твой не попахнет!..
Личико Федоски болезненно сморщилось, глаза расширились, и, оглядываясь, точно кто-то стоял у него за спиною, зашептал он, как давеча, быстрым, бессвязным, словно горячечным шепотом:
– Ох, миленький, ох, страшно, и то! Всегда я думал, что мне от его руки смерть будет. Как еще в младых летах приехал на Москву с прочею шляхтою, и приведены в палату и пожалованы к ручке, кланялся я дяде твоему, царю Иоанну Алексеевичу; а как пришел до руки царя Петра Алексеевича – такой на меня страх напал, такой страх, что колена потряслися, едва стою, и от сего времени всегда рассуждал, что мне от той же руки смерть будет!..
Он и теперь весь дрожал от страха. Но ненависть была сильнее страха. Он заговорил о Петре так, что Алексею почудилось, будто Федоска не лжет, или не совсем лжет. В мыслях его узнавал он свои собственные самые тайные, злые мысли об отце:
– Великий, говорят, великий государь! А в чем его величество? Тиранским обычаем царствует. Топором да кнутом просвещает. На кнуте далеко не уедешь. И топор – инструмент железный – не велика диковинка: дать две гривны! Все-то заговоров, бунтов ищет. А того не видит, что весь бунт от него. Сам он первый бунтовщик и есть. Ломает, валит, рубит с плеча, а все без толку. Сколько людей переказнено, сколько крови пролито! А воровство не убывает. Совесть в людях незавязанная. И кровь не вода – вопиет о мщении. Скоро, скоро снидет гнев Божий на Россию, и как станет междоусобие, тут-то и увидят все, от первых до последних; такая раскачка пойдет, такое глав посечение, что только – швык – швык – швык…
Он проводил рукою по горлу и «швыкал», подражая звуку топора.
– И тогда-то, из великих кровей тех, выйдет церковь Божия, омытая, паче снега убеленная, яко Жена, солнцем одеянная, над всеми царящая…
Алексей глядел на лицо его, искаженное яростью, на глаза, горевшие диким огнем, – и ему казалось, что перед ним сумасшедший. Он вспомнил рассказ одного из келейников Лаврских: «бывает над ним, отцом Феодосием, меленколия, и мучим бесом, падает на землю, и что делает, сам не помнит».
– Сего я чаял, к сему и вел, – заключил монах. – Да сжалился, видно. Бог над Россией: царя казнил, народ помиловал. Тебя нам послал, тебя, избавитель ты наш, радость наша, дитятко светлое, церковное, благочестивый государь Алексей Петрович, самодержец всероссийский, ваше величество!..
Царевич вскочил в ужасе. Федоска тоже встал, повалился ему в ноги, обнял их и возопил с неистовою и непреклонною, точно грозящею, мольбою:
– Призри, помилуй раба твоего! Все, все, все тебе отдам! Отцу твоему не давал, сам хотел для себя, сам думал патриархом быть; а теперь не хочу, не надо мне, не надо ничего!.. Все – тебе, миленький, радость моя, друг сердечный, свет-Алешенька! Полюбил я тебя!.. Будешь царем и патриархом вместе! Соединишь земное и небесное, венец Константинов, Белый Клобук с венцом Мономаховым! Будешь больше всех царей на земле! Ты – первый, ты – один! Ты, да Бог!.. А я – раб твой, пес твой, червь у ног Твоих, Федоска мизерный! Ей, ваше величество, яко самого Христа ножки твои объемля, кланяюсь!
Он поклонился ему до земли, и черные крылья рясы распростерлись, как исполинские крылья нетопыря, и алмазная панагия с портретом царя и распятием, ударившись об пол, звякнула. Омерзение наполнило душу царевича, холод пробежал по телу его, как от прикосновения гадины. Он хотел оттолкнуть его, ударить, плюнуть в лицо; но не мог пошевелиться, как будто в оцепенении страшного сна. И ему казалось, что уже не плут «Федоска мизерный», а кто-то сильный, грозный, царственный лежит у ног его – тот, кто был орлом и стал ночным нетопырем – не сама ли Церковь, Царству покоренная, обесчещенная? И сквозь омерзение, сквозь ужас безумный восторг, упоение властью кружили ему голову. Словно кто-то подымал его на черных исполинских крыльях ввысь, показывал все царства мира и всю славу их и говорил: Все это дам тебе, если падши поклонишься мне.
Угли в камельке едва рдели под пеплом. Синее сердце спиртного пламени едва трепетало. И синее пламя лунной вьюги померкло за окнами. Кто-то бледными очами заглядывал в окна. И цветы мороза на стеклах белели, как призраки мертвых цветов.
Когда царевич опомнился, никого уже не было в комнате. Федоска исчез, точно сквозь землю провалился, или рассеялся в воздухе.
«Что он тут врал? что он бредил? – подумал Алексей, как будто просыпаясь от сна. – Белый Клобук… Венец Мономахов… Сумасшествие, меленколия!.. И почем он знает, почем знает, что отец умрет? Откуда взял? Сколько раз в живых быть не чаяли, а Бог миловал»…
Вдруг вспомнил слова Кикина из давешней беседы:
– Отец твой не болен тяжко. Исповедывается и причащается нарочно, являя людям, что гораздо болен, а все притвор; тебя и других испытывает, каковы-то будете, когда его не станет. Знаешь басню: собралися мыши кота хоронить, скачут, пляшут, а он как прыгнет, да цапнет – и пляска стала… Что же причащается, то у него закон на свою стать, не на мышиную…
Тогда от этих слов что-то стыдное и гадкое кольнуло царевичу сердце. Но он пропустил их мимо ушей нарочно: уж очень ему было весело, ни о чем не хотелось думать.
«Прав Кикин! – решил он теперь, и словно чья-то мертвая рука сжала сердце. – Да, все – притвор, обман, диссимуляция, чертова политика, игра кошки с мышкою. Как прыгнет, да цапнет… Ничего нет, ничего не было. Все надежды, восторги, мечты о свободе, о власти – только сон, бред, безумие»…
Синее пламя в последний раз вспыхнуло и потухло. Наступил мрак. Один только рдеющий под пеплом уголь выглядывал, точно подмигивал, смеясь, как лукаво прищуренный глаз. Царевичу стало страшно; почудилось, что Федоска не уходил, что он все еще тут, где-то в углу – притаился, пришипился и вот-вот закружит, зашуршит, зашелестит над ним черными крыльями, как нетопырь, и зашепчет ему на ухо: Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она передана мне, и я, кому хочу, даю ее…
– Афанасьич! – крикнул царевич. – Огня! Огня скорее!
Старик сердито закашлял и заворчал, слезая с теплой лежанки.
«И чему обрадовался? – спросил себя царевич в первый раз за все эти дни с полным сознанием. – Неужели?..»
Афанасьич, шлепая босыми ногами, внес нагоревшую сальную свечку. Прямо в глаза Алексею ударил свет, после темноты, ослепительный, режущий.
И в душе его как будто блеснул свет: вдруг увидел он то, чего не хотел, не смел видеть – от чего ему было так весело – надежду, что отец умрет.








