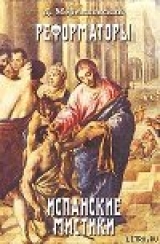
Текст книги "Маленькая Тереза"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
6
Маленькая Тереза продолжит в XIX в. дело Реформы, начатое за четыре века назад св. Терезой Испанской и св. Иоанном Креста, выход из настоящей Римской Церкви в будущую Церковь Вселенскую. Чтобы увидеть и понять, что выход этот хотя им самим еще невидим и непонятен, но уже действителен, стоит только пристальней вглядеться в эти три лица, уже озаренные новым, никогда еще людьми не виданным, розовеющим светом восходящего великого Солнца – Третьего Царства Трех.
Между этими тремя на земле – св. Терезой Испанской, св. Иоанном Креста и св. Терезой Лизьеской – такое же «противоположное согласие», antixon sympheron, по слову Гераклита, как и между Теми Тремя на небе, Отцом, Сыном и Духом. Главную силу св. Иоанна Креста, созерцание, Маленькая Тереза соединяет с главною силою св. Терезы Испанской, действием, как Отца и Сына соединяет Дух. Но так – в последнем пределе, в вечности, а в земных путях, во времени, Маленькая Тереза ближе все-таки к св. Иоанну Креста, чем к св. Терезе Испанской, может быть, потому, что разум и вера, уже у того соединенные, еще разделены у этой.
«О, каким светом озарило меня учение св. Иоанна Креста! – вспоминает Маленькая Тереза в „Истории одной души“. – Не было у меня, от семнадцати до восемнадцати лет, другого чтения. Но впоследствии все духовные учителя ничего не рождали в душе моей, кроме сухости… Так уж и теперь: если я читаю и прекраснейшую книгу, сердце у меня сжимается, и я читаю бессмысленно, а если даже кое-что и понимаю, то все-таки бросаю книгу, чтобы созерцать и молиться… Только в одном Евангелии нахожу все, что нужно для бедной, маленькой души моей… Чтобы человеческие души учить и спасать, не нуждается Христос ни в каких учителях и книгах: сам Он учит, без слов. Я никогда не слышала (в видениях), как Он говорит, но знаю, что Он во мне, и что Он всегда ведет меня за руку. Вижу я Его именно в эту минуту, когда нуждаюсь в Нем больше всего, и вижу всегда в новом, от Него идущем свете. Чаще всего озаряет меня этот свет не во время молитвы в церкви, а в самых простых, повседневных делах». – «Я не ищу молитв в церковных книгах: только голова болит у меня от этих молитв… Я, как маленькие дети, которые еще не умеют читать, говорю Богу все, что мне хочется, и Он меня понимает». – «Путь, которым я шла, был так ясен и прям, что я не чувствовала нужды ни в каком посреднике, кроме Иисуса… Сам Он, казалось мне, действует на меня, без всяких посредников» (Mardrus, 100). Здесь уже начало такого же выхождения из католической Церкви, такой же «ереси», как у Лютера и Кальвина, хотя и под совсем иным, противоположным знаком – не Разделения, а Соединения Церкви. Если эту линию продолжить, то будет повторение того, что уже сделал св. Бернард Клервосский и сделает Паскаль, – обращение от суда Римской Церкви к суду Господню: «К Твоему суду взываю, Господи! ad Tuum, Domine, tribunal appello!» Будет и ответ Жанны д'Арк на вопрос судей-палачей: «Власть св. Матери нашей, Церкви, готовы ли вы признать, Жанна?» – «Да, готова, но Богу послуживши первому!» Будут и слова Лютера на Соборе в Вормсе: «Я здесь стою; Бог да поможет мне; я не могу иначе! Аминь».
Но ближе и роднее всего Маленькая Тереза к св. Иоанну Креста в том, что он называет «преисподним опытом», experientia abismal, и что пугало в нем св. Терезу Испанскую так, что это ей казалось иногда «искушением дьявола», – действительно страшной и небывалой ни у кого из святых воли к потере веры. В опыте этом та же у обоих, у св. Иоанна Креста и Маленькой Терезы, безграничная отвага.
«Сколько раз говорила я Богу… что ни откровений, ни видений, ни чудес я здесь, на земле, не хочу!» «Бога не видеть и не верить в Него я больше хотела, чем другие хотят все видеть и все понимать», – признается она почти накануне смерти. Если вдуматься как следует в эти слова: «В Бога я хотела не верить», – то кружится голова, как над самым краем зияющей пропасти. Но эта-то именно вольная потеря веры Маленькой Терезы, может быть, нужнее всех святых людям наших дней; в той же потере, но уже невольной – большое значение.
Кто-то из монахинь, чтобы утешить ее, тоже почти накануне смерти, говорил ей, что «душу ее вознесут на небо прекраснейшие, с лучезарными лицами, Ангелы». «Все эти образы мне не нужны; я хочу одной только истины, – ответила она. – Бог и Ангелы – чистейшие Духи: плотскими очами никто не может их видеть. Вот почему видений земных я никогда не желала; лучше я дождусь Видения вечного». «Вещие видения, откровения?.. Если бы вы только знали, как мало их у меня! Я ничего не знаю… знаю только то, что вижу и чувствую, но душа моя, и в этом случае неведения, совершенно спокойна». Но под этим наружным спокойствием скрывает она, чтобы не соблазнить верующих, то, что происходит у нее внутри.
«Я была, как в буре утлая ладья без кормчего. Я знаю, что спавший в ладье Иисус был и тогда со мной, но как могла бы я увидеть Его в такой темной ночи?.. О, если бы блеснула хоть молния… я бы Его увидела, моего Возлюбленного! Но и молнии не было, а была только черная-черная тьма, совершенная богоотверженность, безнадежная смерть. Чувствовала я себя такой же одинокой, как Иисус в Гефсиманской ночи, и так же, как Он, не находила себе утешения ни на земле, ни на небе».
Теми же почти словами, как и св. Иоанн Креста о Темной Ночи Духа, Noche Oscura del Espiritu, говорит здесь и Маленькая Тереза.
«Господи, Ты знаешь, что я всегда хотела одной только истины». – «Рук я никогда не умывала, как Пилат, но всегда говорила: „Господи, скажи мне, что есть истина!“ „Пусть же идут ко мне лишь те, кто хочет знать истину“, – говорит она уже после потери веры; после той же потери мог бы это сказать и св. Иоанн Креста, сделавший для критики чистой мистики то же, что сделал Кант для критики чистого разума. Но если бы даже математически было доказано, что Христос ошибался, то Маленькая Тереза и св. Иоанн Креста были бы все-таки с Ним; в этом их коренное отличие от Канта.
7
«Кто такой Иоанн Креста? Довольно плохой монах!» – говорили о св. Иоанне Креста. «Это больше всего поразило меня в его житии», – вспоминает Маленькая Тереза, тоже накануне смерти и тоже после потери веры, может быть, думая, что и о ней самой могли бы сказать: «Кто Маленькая Тереза Младенца Иисуса? Довольно плохая монахиня, да и католичка иногда довольно сомнительная!»
«Бог не нуждается в наших добрых делах». «Хочет Бог спасти нас даром». Кто это говорит? «Я хочу не верить в Бога». «В наших добрых делах не нуждается Бог». – Лютер или Кальвин? Нет, св. Тереза Лизьеская.
Меньшего было бы достаточно, чтобы в XIX веке отлучить ее от Церкви, а в XVI – сжечь на костре, как св. Терезу Испанскую и св. Иоанна Креста. Римской Церкви надо было сделать выбор для Маленькой Терезы: или отлучить ее, или увенчать венцом святости. Если Церковь выбрала последнее, то, может быть, только потому, что к этому ее принудил погибающий мир, который понял, или когда-нибудь поймет, что без Маленькой Терезы ему не спастись.
Вот что, может быть, угадал папа Лев XIII, пристально вглядываясь пронзительно острыми глазами в страшное и чудесное лицо четырнадцатилетней девочки, будущей великой Святой, которая целовала ему туфлю на аудиенции; вот почему принял он, в этом лице, может быть, за багровый свет адского пламени розовеющий свет восходящего солнца Трех.
Мучилась она от невидимого ей самой и непонятного выхождения из Церкви так, что от этой муки и умерла или, по крайней мере, больше всего умерла от нее.
Самое страшное в муке этой было то, что умирающая сама не знала, вышла ли она из Церкви, и если вышла, то в какую тьму кромешную, к дьяволу, или в какой свет лучезарный, к Богу. Этого не знала она до последнего вздоха во времени, но узнала в вечности, когда начала спасать души отдельных людей и душу всего человечества так, как, может быть, не спасал никто после Христа. Если когда-нибудь люди выйдут в Церковь Вселенскую, начало Царства Божия здесь уже, на земле, то потому, что Маленькая Тереза приняла эту муку за них и за Церковь. Большую муку, может быть, принял только один Человек на земле, Тот, Кто в Гефсиманской ночи был в смертном борении до кровавого пота.
Но чтобы понять и пережить (потому что иначе понять нельзя), как и за что Маленькая Тереза умирала, надо сначала узнать, как и для чего она жила.
8
Жизнь свою, от самого раннего детства до предсмертной болезни, рассказала она в книге, озаглавленной «История одной души». Книгу эту она могла бы озаглавить и так, как св. Тереза Испанская озаглавила свою: «Моя Душа», «Mi Alma». Это она почти и сделает, когда, накануне смерти, скажет: «То, что в этих тетрадях записано, есть, воистину, моя душа».
Как-то раз, во время уставного отдыха, тихо беседуя с двумя своими младшими сестрами, вспоминала она детские годы свои так хорошо, что одна из любимых подруг ее, сестра Мария-Св. Сердца, восхитилась и, обращаясь к одной из двух сестер ее, Полине, в монашестве Агнессе, бывшей тогда игуменьей, воскликнула: «Вам бы следовало, матерь моя, приказать, чтобы она записала все это!»
Так и сделала Агнесса. Нехотя, только по долгу святого послушания, согласилась на это Тереза, может быть, потому, что чувствовала в этих воспоминаниях о далеком прошлом те искушения, которых все еще не победила.
Каждую ночь, в ледяной келье своей садилась она на скамейку у соломенной койки, ставила себе на колени старенький аналойчик, клала на него школьную тетрадку и мелким, четким, бисерным почерком начинала писать воспоминания свои очень быстро, почти без помарок.
Это продолжалось в течение целого года. Кончив писать, в последние дни 1894 года, отдала она тетрадки игуменье Агнессе, а та, передавая их новой игуменье Марии Гонзага, при этом сказала: «Это очень мило, но многого отсюда извлечь нельзя!» «C'est gentil, mais vous ne pourrez pas en tirer grand-chose».
Этому поверила Гонзага и за два года не удосужилась прочесть тетрадки, так что книга эта, одна из величайших и нужнейших человечеству книг, могла бы истлеть где-нибудь в сыром углу монашеской кельи, если бы однажды ночью, в 1897 г., не вспомнила о ней Агнесса-Полина, не испугалась, что книга пропадет, потому ли, что пожалела столько «милого» в ней, или потому, что лучше поняла ее, за эти два года; если бы от этого страха не вскочила с постели, не побежала, несмотря на неурочный час, к матери игуменье, не напомнила и ей о книге и не сказала, кстати, какая будет потеря, если останется она неконченной, потому что Тереза довела воспоминания свои только до пострига, главная же часть жизни ее, в Братстве Кармеля, осталась незаписанной.
Матерь игуменья, на следующее же утро, велела Терезе продолжать воспоминания, что было для той теперь, может быть, тяжелее, чем прежде, не только потому, что она была тогда уже смертельно больна, но и потому, что те искушения, которых боялась она в прошлой жизни своей, теперь усилились у нее так, как еще никогда. Но опять, по обету святого послушания, принялась она писать, лежа в постели, сначала пером, а когда уже не имела сил макать перо в чернильницу, карандашом. Так написала страниц пятьдесят, пока, наконец, и карандаш из ослабевших рук ее не выпал. Но кажется, если бы и могла дописать книгу физически, то не могла бы нравственно, по той же причине, по какой не могли быть дописаны три книги, внешне очень далекие от этой, но внутренне ближайшие к ней: Книга Иова (конченная не теми, кто начал ее), «Темная ночь» св. Иоанна Креста и «Мысли» Паскаля; по той же причине, по которой, может быть, самые глубокие и нужные людям книги – неоконченные, бесконечные.
«Книгу эту люди будут читать, пока есть у них глаза», – верно заметил кто-то об «Истории одной души». Кажется, в самом деле книга эта, после Евангелия, наиболее читаемая сейчас на всех языках и во всех странах, от Нормандии до Внутренней Африки, и оказывающая на души человеческие наибольшее действие.
9
Книга – бездонно-ясная, бездонно-темная, как звездное небо, чем глубже заглядываешь в нее, тем она бездоннее. Детски ангельски просто и райски невинно, райски блаженно все на поверхности, а в глубине – ужас «преисподнего опыта», такой же, или даже еще больший, чем в Терезе Испанской и св. Иоанне Креста, главный невыносимейший, душу человеческую уничтожающий ужас этого опыта в противоречии того, чем жизнь начинается, – идущей от Отца радости, благословения земли, бесконечного и того, чем жизнь кончается, – от Сына идущей скорби, такого же, той же земли проклятия бесконечного, как будто Сын против Отца и Отец против Сына, – как будто, или действительно, – в этом «или» незримое и ядовитейшее жало книги. Этими-то именно согласнейшими противоположностями, противоположнейшими согласиями, или (опять «или» – жало смерти опять) несогласуемыми противоречиями, сердце человеческое раздирающими антиномиями, книга эта ближе всего к темной половине Евангелия, к Распятию до Воскресения и к Гефсиманской ночи особенно, к неисполненной, или неисполнимой Отцом, молитве Сына: «Да идет чаша сия мимо Меня», к смертному борению Сына – с кем? – только ли с самим Собою, или также с Отцом? Между этими «или – или» бесконечными душа человека и всего человечества, как на исполинских Божеских или диавольских качелях, качается; с каждым размахом все выше и выше, до самого неба, взлетает, все ниже и ниже, до самого ада, падает. «Чем же это кончится и где, – с ужасом думает кающийся, – на небе или в аду, у Бога или у диавола?» Эту муку раздвоения знают более или менее все люди, но святые – больше всех; чем больше святость, тем и мука эта больше. Именно о ней-то и говорит Черт Ивана Карамазова на подлом и как будто плоском, а на самом деле страшно глубоком языке своем:
«Весь мир и миры забудешь, а к одному этакому (святому) прилепишься, потому что бриллиант-то уж очень драгоценен; ведь стоит иной раз одна такая душа целого созвездия – у нас ведь своя арифметика… И ведь иные из них, ей-Богу, не ниже тебя по развитию, хоть ты этому и не поверишь: такие бездны веры и безверия могут созерцать в один и тот же момент, что, право, иной раз кажется, только бы еще один волосок – и полетит человек „вверх тормашки“, как говорит актер Горбунов» (Достоевский. Братья Карамазовы, кн. XI, гл. IX. «Черт. Кошмар Ивана Федоровича»).
Вот какие пропасти зияют в этой книге Маленькой Терезы, как будто простейшей и наивнейшей, а на самом деле одной из глубочайших и неразгаданнейших, когда-либо рукой человеческой написанных книг. Если прочесть ее как следует, то, может быть, не в уме, а где-то в самой темной глубине сердца зашевелится безумный и невыносимо кощунственный, но незаглушимый вопрос: а что, если грешная-святая Тереза Неизвестная – отравительница колодцев? И вопрос, еще более безумный и кощунственный, – такой, что, может быть, и произносить его нельзя? Нет, можно и должно, потому что такое Существо, как Иисус, кем бы ни было Оно, всей Божеской и человеческой правды достойно, – зашевелится еще более кощунственный, душу человеческую уничтожающий вопрос: что, если и Он, и Он, Иисус Неизвестный, – тоже Отравитель колодцев? «Боже мой, Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» – этот вечный вопрос без ответа, в устах Человека и Человечества Распятого, слишком понятен. Можно сказать, что вся жизнь и еще более смерть Маленькой Терезы есть не что иное, как повторение этого вопроса, с таким отчаянием и с такой надеждой, которая, кажется, все-таки больше отчаяния, что будет ответ, как еще никогда.
«Право, я не знаю, что можно будет сказать о ней после смерти ее, потому что она ничего не сделала, о чем бы стоило вспоминать» – эти слова одной из сестер, сказанные в соседней комнате, услышала Маленькая Тереза с больничной койки за несколько дней до смерти и обрадовалась им так же, как тому, что люди говорили о «довольно плохом монахе» св. Иоанне Креста.
Внешняя жизнь ее, в самом деле, так коротка и проста, что сводится к двум-трем строкам: маленькая девочка из благочестивой мещанской семьи, любившая отца, мать и сестер, в пятнадцать лет постригается в монахини и через девять лет умирает от чахотки, – затворилась за нею дверь обители, как внешняя жизнь ее кончилась и началась внутренняя; та – кратчайшая, а эта – бесконечная.
«Было мне только тогда хорошо, если никто не видел и не слышал меня», – вспоминает она о самом начале жизни своей и в день пострижения молится: «Сделай так, Иисус, чтобы я была людьми забыта, как песчинка пыли!» И в самом конце жизни скажет: «Я хотела одного, чтобы лицо мое, так же как лицо Иисуса, скрыто было от всех человеческих глаз и чтобы никто в мире не знал обо мне; я жаждала забвения» (R. Zeller, L'Evangeliste de Lisieux, 1937, p. 13, 33).
Жажда эта утолится, но не так, может быть, думала она, – не в глубочайшем мраке забвения, а в ярчайшем свете славы. «Маленький Цветок» – лицо ее – увеется такою бурею славы, что его самого уже совсем не видно будет, будет видно только, чем оно казалось людям, но не чем было для нее самой и для Бога. Тайна Терезы Неизвестной так же не разгадана, как и тайна Иисуса Неизвестного, Неузнанного:
В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не узнал (Ио., 1, 10).
«Многие страницы этой книги останутся здесь, на земле, навсегда неизвестными». Вспоминая эти слова Маленькой Терезы, сестра ее, Полина-Агнесса, объясняет их так: «Есть у святых такие страдания, которых не должно людям открывать здесь, на земле, потому что Бог хранит их в тайне, чтобы открыть только тогда, когда все тайны будут открыты». Но только ли самые святые страницы книги этой остались неизвестными? Не самые ли грешные тоже? Кажется, уже и в те дни, когда книга писалась, тот же страх удерживал писавшую от последних признаний, как и в предсмертные дни: «Все, что я говорю о моих искушениях, слишком слабо, по сравнению с тем, что я чувствую, но я не хочу больше говорить; я боюсь, что и так я слишком много сказала; я боюсь кощунства». Кажется, «кощунство» это связано все с тем же невыносимым, душу человеческую уничтожающим ужасом: что, если Иисус не Утолитель всех жажд, а Отравитель всех колодцев; не Врач всех болезней, а сам – Больной, Прокаженный? «Некогда божественное Лицо Твое сделалось для меня теперь как лицо прокаженного», – молится Маленькая Тереза Тому, о Ком сказано:
был обезображен больше всякого человека лик Его, и вид Его – больше сынов человеческих (Ис., 52, 14).
Но и в этом ужасе она не помнит Его: если Он – Отравитель колодцев, то и она; если Он – Прокаженный, то и она. Только такая бесконечная, такой ужас преодолевающая отвага любви достойна Возлюбившего нас так, что «сделался Он за нас проклятием», потому что «проклят висящий на древе», Распятый (Гал., 3, 13). Будет до конца Маленькая Тереза с Ним, Иисусом Проклятым, Прокаженным, Отравителем колодцев, потому что больше, чем верит, – знает она, или узнает, если не в жизни, во времени, то в вечности, что мнимое проклятие Его – Благословение, мнимая проказа Его – исцеление, – «язвами Его мы исцелились (Ис., 53, 5), мнимая отрава – противоядие от сильнейшего из всех ядов – смерти».
Если этот религиозный опыт свой могла она сообщить в тех ненаписанных, может быть, не самых святых, а самых грешных страницах книги своей, то это вознаградимая потеря для нас, все еще погибающих от того, от чего она уже спаслась. Но, может быть, умолчанное ею здесь, на земле, во времени, она могла говорить нам из вечности, и если бы мы ее только услышали, то могли бы спастись так же и тем же, как и чем она спаслась.
* * *
Так же как в спектральном анализе по лучу бесконечно от нас далекой звезды мы узнаем ее химический состав, но возможная на ней органическая и тем более духовная жизнь ее обитателей остаются для нас неизвестными, так по словам и делам Маленькой Терезы мы узнаем, чем была святость ее во времени, но что она такое в вечности, этого мы никогда не узнаем.
Чувственно люди живут во времени, а о вечности лишь отвлеченно мыслят. Но Маленькая Тереза в этом совсем иное, на людей непохожее, двуестественное существо, амфибия, живущая в воде и в воздухе – во времени и в вечности. Вот почему самые близкие к ней люди – отец, мать, сестры – так же далеки от нее, как обитатели другой планеты: видят и слышат ее, но не понимают и не чувствуют; она проходит сквозь них, как дух сквозь вещество (стену); между нею и ними такая же непереступная черта, как между тем миром и этим. Вот почему и внутренняя жизнь ее непонятна для нас; мы ее не видим, не слышим и только иногда осязаем, как движущееся тело сквозь ткань. В славе своей величайшей остается она не только для мира, но и для Церкви, вечною тайною, которая, может быть, откроется людям только в будущей Церкви Вселенской.








