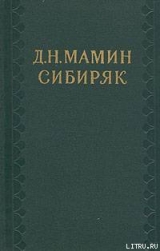
Текст книги "Родительская кровь"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
Даже такой независимый человек, как Важенин, и тот чуть не оправдывал зверства вечно улыбавшегося крепостного управителя.
– Помилуйте, тогда кругом темнота была, – объяснял Важенин, встряхивая волосами. – Разве бы Иван Антоныч стал зверствовать, ежели бы не тогдашняя темнота?.. На других-то заводах не лучше нашего было. А все потому, что с управителей спрашивали: подай столько-то дивиденту, хоша расколись. Ну, и драл Иван Антоныч… тоже ему не свою спину было подставлять за нашего брата. А нынче совсем другое дело: господам закон и нам закон… да. Им ихнее, а нам наше… Конечно, немцы теперь большую силу забрали, а только старинные люди говорили так: «Клоп клопа ест, последний сам себя съест».
В этой запутанной и перепутанной истории было замечательно особенно то, каким способом, при расстроенных заводских делах, получались сравнительно высокие доходы. Секрет, как все великие открытия, был очень прост: заводская администрация не делала никаких нововведений, не заводила ничего, что пахло большими издержками, и даже на ремонт списывала самые незначительные суммы и благодаря такому хозяйству возвышала доход. Кроме печей Сименса и горячего дутья, не было капитальных усовершенствований, да и эти новинки были устроены только ввиду самой настоятельной и вопиющей нужды в древесном топливе, на котором исключительно работают все уральские заводы. Собственно, эта система практикуется и на других заводах, и было уже несколько примеров полного краха целых заводских округов, но разорившие таким образом заводы главные управляющие получили свои десятки тысяч – «что и требовалось доказать», как говорится в учебниках математики. Роковым вопросом, conditio sine qua поп[4]4
Непременным условием (лат.).
[Закрыть] для всех уральских заводов является переход с древесного топлива на каменный уголь, но все заводы тянутся из последнего, чтобы хотя на неделю отсрочить неизбежное решение этого вопроса, потому что такой переход потребует сразу громадных затрат на приспособление всех огнедействующих заведений к употреблению каменного угля, а это неизбежно отразится на количестве получаемого дохода с заводов, – какой же управляющий решится не только взять на свою ответственность подобный риск, но даже просто посоветовать владельцу. Это было бы двойным самоубийством: лишить заводовладельцев их доходов и, главное, лишить самих себя министерских окладов. Остается только идти вперед до последнего полена дров, что и практикуется всеми заводчиками в одинаковой мере.
Таким образом, вопрос о лесе является в уральском горнозаводском хозяйстве самым больным местом: заводы увеличивают свою производительность, параллельно идет уменьшение лесных дач, и впереди полный крах. Но упорное нежелание переходить на минеральное топливо имеет еще и другую сторону: все заводчики вопиют о недостатке лесов, и поэтому замедляется надел заводского населения землей, потому что такой надел Должен ipso facto[5]5
Тем самым (лат.).
[Закрыть] уменьшить лесные дачи. Этим путем аграрный вопрос на Урале получил совершенно особенные Осложнения и в недалеком будущем должен повести к очень печальным недоразумениям. Трудность размежевания увеличивается еще и тем обстоятельством, что, кроме частных и казенных земель, сотни квадратных верст принадлежат своим владельцам на посессионном праве, которое само по себе является почти неразрешимой юридической загадкой. Пластунские заводы в этом случае были не лучше и не хуже других посессионных заводов, хотя и с некоторым специальным «букетом» в виде «сплошного немца», как выражался Секрет.
IV
На другой день утром, когда я пил чай в задней избе, туда вошел Важенин, огляделся, припер дверь поплотнее и присел к моему столу с видом человека, который желает что-то сказать, но не решается.
– Погодка-то как будто успокоилась… – тянул он, заглядывая в окошко. – Вот все я собираюсь как-нибудь внутренные ставешки наладить, железные… Очень даже это способно по нашему делу, а то неровен час – пошаливают у нас на Пластунском: недавно четверых зарезали. Вот этак же во втором этаже: намазали медом лист бумаги, прилепили к стеклу, выдавили и в лучшем виде залезли…
Поговорив о разных пустяках и еще раз оглянувшись кругом, Важенин достал из кармана своего длиннополого сюртука вчетверо сложенный лист и, развернув его, подал мне. Бумага начиналась стереотипной фразой: «Во имя отца и сына и святого духа. Находясь в здравом уме и твердой памяти, я при живности своей» и т. д. Это было форменное духовное завещание, составленное Важениным на имя жены Платониды Васильевны, причем он отказывал ей все движимое и недвижимое, с условием, чтобы она по смерть «воспитывала» старушку свекровь, оказывала ей «всякую покорность и почтение». Завещание было подписано тремя душеприказчиками.
– Все форменно? – шепотом спрашивал Важенин, оглядываясь на двери. – Ежели в случае, например, меня сцапали бы, как родителя… Не отберут от жены-то дом и лавку?
– Да зачем вас сцапают?
– Ну, так, я это к примеру только… Форменно все?
– Нет, не совсем форменно… Это духовное завещание составлено домашним образом и может всегда возбудить спор со стороны родственников, племянников, например, а чтобы окончательно обеспечить себя – вы засвидетельствуйте это же завещание у городского нотариуса.
– И тогда уже форменно будет? То есть ни под каким видом, чтобы племянники… как вон Харитину пустили по миру?
– Да вы напрасно беспокоитесь, Евстрат Семеныч: никакой опасности нет.
– Уже вы, пожалуйста, не говорите такие слова, – шепотом отвечал Важенин, придвигаясь ко мне ближе. – Были уж такие случаи-то… Ей-богу! На – ских заводах этак же мужичок вздумал хлопотать насчет земли, ну, его сцапали, да и выслали административным порядком тысячи за две верст. Это как? Все под богом ходим… Меня-то высылай, да только жену, да вот мамыньку не тронь. Про себя-то я уж порешил… Будет уж мне… да.
– Чаю не хотите ли?
– Благодарствуйте, я уж напился… По-деревенски рано встаем, да и сну у меня нынче настоящего не стало! Вертишься-вертишься ночь-то.
– Вероятно, нездоровы?
– Нет, ничего, слава богу, не могу пожаловаться, а так… от мыслей. Раздумаешься да раздумаешься…
– Послушайте, Евстрат Семеныч, меня удивляет, как это вы так вдруг… переменились?
Важенин внимательно посмотрел на меня и улыбнулся.
– Да и сам я дивлюсь… – ответил он после короткой паузы. – Так уж, видно, кому что на роду написано. Видите ли, случай тут был… Долго, пожалуй, рассказывать-то.
Для безопасности Важенин припер дверь на крюк, подсел опять к столу и заговорил:
– Помните, тогда встретились в середовине-то у Секрета? Пировал я тогда до неистовства… страсть пировал. Ну, известно– мужик могутный из себя, недели две без просыпу закачиваешь. А охота, это уж другое… Оно одно к одному, пожалуй, шло. Про Боровки-то, чай, слыхали? Мы с Секретом будто на охоту уйдем, а сами в Боровки и закатимся. Есть там четыре братана Мяконьких, а у них есть сестра Ульяна… Только и семейка: здоровенные все, могутные, красавцы, а всех лучше эта самая Ульяна. Мы ведь тоже из Боровков, и я эту самую Ульяну махонькой еще знал, а как выросла высокая, да широкая, румяная, руки у ней, ну, одним словом, богатырь-девка.
И на речах при этом очень бойка, да и веселая-развеселая – только слушай… Ну, и запади эта самая Ульяна мне в башку: думаю об ней день и ночь, и шабаш. По душе пришлась… Ну, уж я около Ульяны и так и этак – ничего не берет. На заводах-то у нас балованный народ, и насчет женского полу даже весьма свободно, а тут не дается девка в руки, и меня уж озарки взяли, себя не помню, как другой бык, например. Здоров я был, ну, кровь-то как заходила – смерть… Уж я гонял-гонял Секрета с гостинцами и с подарками – толку все мало: возьмет, поблагодарит, а настоящего дела нет. Все мне хотелось Ульяну в лесу где-нибудь взловить, когда она по ягоды пойдет, – так нет, дошлая, шельма, не идет в лес. Кружили мы таким! манером, кружили с Секретом, дело хоть брось. Зима наступила, слышу – сватают Ульяну… После рождества свадьба. Меня это из ума вышибло: будет моя Ульяна… Подослал к ней Секрета выспросить, а Ульяна и говорит ему: «Кланяйся Евстрату Семенычу… люб он мне, да не умел взять девку, а теперь братаны замуж отдают». Запировал я пуще прежнего, а тут и святки на носу… Ну, и укололи мы с Секретом штуку!.. Тоже придумали: напоим, мол, всех четырех братанов и Ульяну выкрадем. Ей-богу… чистое зверье какое-нибудь, такое рассуждение имели. Хорошо. Была у меня лошадка припасена нарочно для этого случая – невеличка из себя, а так бегала, так бегала – стрела, а не лошадь. Ну, этого бегунчика заложили в кошовку, поставили ведро водки и сейчас в Боровки, к Мяконьким… Они по лесоворной части, и я прикинулся, что сруб мне надо поставить. Давай мы пировать в избе у Мяконьких – праздничное дело… А Ульяна тут же в избе вертится и будто сном дела не знает. Ну, удовлетворили мы братанов так, что ухом по земле. Выхожу я в сени, свистнул Секрета, а он мне и говорит: «Ульяшка-то убежала…» – «Куда?» – «Да куда, говорит, ей убежать, здесь где-нибудь в деревне же, не велико место». Отправились мы искать ее и, точно, на вечорке нашли в одной избе, и как была в одном сарафане, так мы ее и заполучили, завязали рот платком да в кошовку: трогай в середовину… Секрет на козлах, а я снял с себя шубу и в шубу завернул Ульяну, чтобы не замерзла. Сначала сильно билась, а потом присмирела и сидит вроде как деревянная. Ну, а там, в Боровках-то, все на ноги, сказали братанам, те кое-как прочухались и сейчас на лошадей: два брата по дороге в Пластунский завод погнали, а двое в середовину к Секрету. Место тоже не близкое, едем мы и слышим, что за нами погоня, а у Мяконьких кони первые по деревне – потому по лесоворной части это первое дело. Тут уж и моя Ульяна всполыхнулась: «Ох, убьют тебя братаны… дай. я лучше убегу в лес, тогда им нечего с вас взять». – «Куда ты, говорю, дура, в лес пойдешь, когда везде снег по пояс… Оборонимся, говорю, да и середовина недалеко…» Совестно тоже загородиться девкой-то: наша вина – наш и ответ. А погоня все ближе… Видим, наша лошадка из сил выступает, тоже трое нас, чертей, – добрый воз. Не доехали мы до середовины будет – не будет с версту, как братаны Мяконькие налетели на нас… Ну, повернули мы лошадь поперек дороги, у меня с собой оборонка была маленькая, леварверт-кулачок, шестицволый, значит – и пошла свалка. Нагнали нас двое братанов: большак Мишка и середняк Прошка – и приняли нас в стяги… Выпалил я разика два, а потом как царапнули меня стягом по плечу – кулачок вылетел… Ну и били они нас– страсть!.. Сначала все стягами, а потом по дороге за волосы да топтать… Здоровенный народ, чисто два медведя из берлоги вырвались. Помню только, как перво меня полыхнули стягом по правому плечу, а потом по крыльцам. Так замертво нас бросили в кошовку, понужнули лошадь, ну, она нас и предоставила прямо к Секретовой сторожке, – потому дело знакомое. Ну, очнулся я у Секрета в избушке и не думал, что жив останусь: ни рукой, ни ногой, ни шеей повернуть, а рожа, как чугунный котел. И Секрет тоже в лучшем виде… Одним словом сказать, братаны Мяконькие чистенько свое дело сделали…
Важенин перевел дух, встряхнул волосами и даже засмеялся, вероятно от удовольствия, что братаны Мяконькие очень уж «чистенько» поучили его с Секретом.
– Ну, привезла меня Власьевна прямо к жене: «на, получай любезного супруга», и, натурально, все дело ей начистоту выложила… Мамынька ревет, жена ревет, а я лежу и пальцем пошевелить не мюгу. Позвали этого доктора, Абрагамсона, поглядел-поглядел он на меня и только головой покачал: «Ловко, говорит, устряпали… это, говорит, не человек, а котлетка». Ейбогу, так и сказал… Не стал и лечить, все равно, говорит, помрет; ну, так мамынька догадалась, сгоняла за одной старухой и предоставила ей пользовать меня… Уж и принял я только муки от этой старухи: в баню да в баню, да травами меня натирать, да мазями мазать, да пластырями облепила, да поит какой-то такой дрянью, что с души воротит. Ну, известно, дело смиренное мое было: что хотят, то и делают – ихняя воля вполне, потому как я ни рукой, ни ногой, все равно. И ведь отлежался… три месяца вылежал, а все-таки стал на ноги. Ну, шея с год не ворочалась, а потом ничего, отлежался, только вот к ненастью каждая косточка ломит да ноет. Нарошно после сходил к этому самому Абрагамсону и отрекомендовался в полной форме, так он только ахнул: «Ну, говорит, вы, подлецы, из котельного железа, надо полагать, сделаны… Поглядел бы, говорит, ты на себя-то, в каком ты, например, образе был: весь под один пузырь и при этом чернее опойка… Кто это тебя так уважил?» – «Есть, говорю, ваше благородие, добрых-то людей…»
Важенин опять засмеялся и прибавил:
– Секрет скорее мого выправился и все водкой: и снаружи водкой мазался и внутрь принимал… Ему все-таки меньше моего досталось, потому он только так, под руку подвернулся. Потом меня проведовать приходил, пес, да моя жена его в три шеи… известно, женская часть, тоже обидно…
– Ну-с, так вот, например, когда я лежал, все мне проволоки представлялись, – продолжал Важенин после небольшой передышки. – И не то чтобы настоящие проволоки, а вроде как мысли у меня в голове проволоками тянулись… Ей-богу! Лежу я в собственном доме, на своей кровати, ходит за мной моя собственная жена, и я слышу, как она вздыхает… Должон был я восчувствовать себя подлецом али нет? Даже очень восчувствовал: не только подлец, но и душегуб… Еще господь сохранил, а то бы прощай, Ульяна. Вот до чего дошло!.. И стал я думать, стал думать. Как-то этак забылся немножко, открыл глаз, а она стоит передо мной…
– Ульяна?
– Нет, Харитина Петровна… значит, жена Ивана-то Антоныча, у них я в казачках состоял. И с чего приснилось, подумаешь! Гляжу, а за ней покойный мой родитель, Семен Евстратыч, стоит… Вот как сейчас я их вижу! Она-то такая молоденькая да жиденькая, какой замуж вышла, смотрит это на меня таково жалостливо и головкой качает, а родитель глядит кудато вбок, потому совестно ему за меня, так надо полагать. Постояли и ушли – только и всего… Ну, тут-то я и понял, зачем ко мне родитель-то приходил. Кровь это сказалась, надо выкупать родительскую кровь. Все мне так ясно сделалось вдруг… Как я жил-то до этого случая? Какие у меня мысли были в голове? Обмануть, да пировать, да за девками гоняться, да из-за этих же девок чуть смертного часа не получил. Ведь это что же такое, если разобрать: родитель-то живот свой положил за правду, а я душегубством занялся. Наколотил всяким обманом копейку, ел сладко, пил, спал вволю, ну, накопил дикого-то мяса и давай дурить… Еще как выжимал, бывало, каждый грош из тех, кто победнее, потому придет такой бедный человек в лавку – он весь твой. То удивительно, что мне приятно было содрать с него этот вот самый распоследний грош, чтобы он, например, чувствовал, каков я человек есть. Тепло, светло, сытно – сидишь себе в горнице да радуешься, на дворе стужа, клящий мороз, а тебе еще приятнее, – потому, как в это время беднота колеет да зябнет. Жену постоянно обманывал, да еще Ульяну чуть не загубил из-за своего дикого-то мяса… И все-то было мне мало, все завидовал, как другие богатые купцы живут. Ей-богу, совестно даже рассказывать… От этой самой подлости и пировал. Ну, а как пришел я в себя, сейчас же себе зарок крепко-накрепко дал: первое, чтобы вина ни капли, а второе, что ежели господь подымет на ноги – беспременно родительскую кровь выкупать и охлопотать мужичкам землю. Отцы-то наши какую муку принимали за старую веру. Прибежали сюда, место было совсем дикое, зверовое – опять ихними же трудами все устроилось. А мы как живем? То-то вот и есть… Конечно, оно жалко, когда подумаешь, что надо вот все это бросать… жена ревет, ну, да как-нибудь. Вот меня только эта самая духовная весьма беспокоила, а теперь к нотариусу, и шабаш.
Мы расстались друзьями. Важенин вышел проводить меня на улицу и долго стоял за воротами без шапки, заслонив глаза рукой. Мне сделалось очень грустно, когда я припомнил слова Важенина: «Одно плохо: грамюта-то наша больно дубовая, надо, значит, к адвокату обратиться, например, а уж эти адвокаты… Ах, кабы не темнота-то наша, кажется… ну, да что об этом толковать!..» Моя почтовая пара тащилась по узким кривым улицам, уставленным старинными дворами, каких уж нынче не строят: высокие коньки, свесы под окнами и на воротах с узорчатой прорезью, шатровые крыльца – все это было поставлено крепко и плотно, как нынче не ставят изб. В центре завода разлегся довольно большой) пруд; на одном берегу стояла каменная церковь, у плотины в березовой роще потонул старинный господский дом. Он был выстроен в один этаж, как строились старинные помещичьи дома; маленькие окна вот уже пятьдесят лет как добродушнейшим образом смотрят кругом, как умеют смотреть очень хорошие старички, а между тем сколько драм разыгралось за этими окнами, когда царил Иван Антоныч… Сколько народа было перепорото насмерть, а Иван Антоныч любовался из окошечка на экзекуцию и приговаривал: «ангел мой», «миленький», «голубчик». Тут же и томилась, и чахла, и обманывала Ивана Антоныча «душенька» Харитинушка, вероятно, скоро выучившаяся печь «пирожки с осетринкой», и тут же стоял казачок Евстратушка в дареной шелковой рубахе.
Теперь в старом господском доме, полном еще крепостными слезами и напастями, поселился «сплошной немец», сразу напустивший сухоту на тридцатитысячное население всех Пластунских заводов, и «быша последняя горше первых». Вон на горке строят новые дома – это тоже для представителей выс" шей заводской администрации, которая быстро доведет заводы до полного краха и пустит население по миру, но – прежде чем доведет до этого – будет вытягивать правительственные субсидии, будет хлопотать о повышении пошлин на привозимые из-за границы дешевые металлы, будет донимать рабочих штрафами и т. д. Очень и очень невеселая картина.
– А знаете, сколько мы нынче взяли за кабаки-то? – говорил Важенин, уже стоя за воротами. – Двенадцать тысяч целковеньких… Давно бы нечем было платить подати, ежели бы, спасибо, кабаки не выручили: ими, можно сказать, только и держимся.
V
Важенин действительно начал дело о неправильном завладении Пластунскими заводами землей, принадлежащей деревне Боровки, постоянно приезжал в город, ходил по адвокатам, собирал какие-то справки, ездил в губернский город Мохов за Какими-то таинственными документами, писал какие-то «копии, с копии копии» и опять исчезал. Заходил он ко мне раза два «перевести дух», как говорил, садился в уголок и, оглядываясь, подавленным шепотом рассказывал свое хождение по мукам и мытарствам.
– Адвоката, слава богу, приспособил… – говорил он с счастливой улыбкой. – Ваше, говорит, дело правое, только сперва пожалуйте на пошлины и гербовую бумагу, вообче предварительные расходы. Очень обходительный человек и притом: пасть… По фамилии: Человеколюбцев.
– Кто вам его рекомендовал?
– Да уж я об них обо всех стороной наводил справки и вызнал вполне…
К особенностям Важенина принадлежала чисто мужицкая черта: величайшее недоверие к господам, даже совсем не заинтересованным в деле, как я, например. Он везде стал видеть подвох и обходил все рекомендации и советы, как очень опасные подводные камни: ему нужно было вызнать непременно самому, притом через каких-то темных «своих» людей, которым он доверял.
Пластунская заводская администрация с своей стороны тоже зашевелилась: и Баз, и Берх, и Барч, и Адельсон – все приняли участие в завязавшейся борьбе, как гудит шмелиное гнездо, когда в него ткнут палкой. Прежде всего, конечно, «сплошной немец» тоже поехал наводить справки, писать коТши, собирать документы и, пользуясь удобным» случаем, увеличил свою канцелярскую лестницу еще одной ступенькой, заграфленной под названием «Юрисконсульт Пластунских заводов», и на эту лесенку сейчас же влез присяжный поверенный N-ского окружного суда Бартельсон, который сделался таким образом) естественным противником Человеколюбцева, тоже состоявшего при N-ском окружном суде в качестве присяжного доверенного. Словом, каша заварилась.
– А мы все-таки покажем им>, как лягушки скачут… – говорил Человеколюбцев, человек очень строптивого и неуживчивого характера.
Человеколюбцев действительно повел дело самым энергичным образом, для первого раза совсем растворился во всех этих указах, данных, купчих крепостях, справках, протоколах, сенатских решениях, окладных листах, специальных планах и т. п., так что поддерживал свои слабевшие силы только тем, что в течение суток выкуривал полфунта табаку. Он несколько раз ездил в Боровки и производил осмотр самого места, из-за которого вышло все дело, а также вызвал официальный осмотр его от лица гражданского отделения N-ского суда. Но пластунская администрация тоже не дремала и даже хотела предупредить Человеколюбцева по части науки о скачущих лягушках, – она послала через урядника в надлежащее место довольно безграмотный донос на Человеколюбцева, который в качестве «странствующего неблагонамеренного адвоката» обвинялся в том, что он, Человеколюбцев, из-за корыстных видов возбуждает тлетворное волнение доверчивых умов, за что и заслуживает немедленного удаления в соответствующие прохладные Палестины. «Надлежащее место» навело справки, но Человеколюбцев оказался не только сыном отечества, а даже великим патриотом: в N-ске не было лавки и магазина, где он не был бы должен, затем выяснилось, что решительно все – даже гораздо больше, чем все, что он получал от своих клиентов, – он немедленно провинчивал, и, наконец, что у него в разных судах накопилось двенадцать дел о незаконном присвоении чужого имущества и подлоге в разных формах. Один остроумный чиновник особых поручений где-то сострил, что даже душа у. Человеколюбцева взята где-то в долг и давно просрочена. Невинность Человеколюбцева была очевидна, и дело пошло своим Порядком.
– Вот возьми-ка его, Аристарха-то Аристархыча, – торжествовал Важенин, оказавшийся очень проницательным человеком!. – Уж это такой человек, такой человек, что его ни с какого боку не уколупнешь: весь в щетине…
Бартельсон был несколько иного мнения о Человеколюбцеве и терпеливо ждал судьбища. N-ское общество приняло самое живое участие в этом деле, сейчас же разделилось на партии и в день суда наполнило собой почти всю залу гражданского отделения N-ского окружного суда, которая в обыкновенное время стоит совсем пустая или «черная» публика заходит в нее только погреться.
Мы не будем утомлять читателя подробностями всего происходившего в суде. Скажем только, что левую половину скамеек для публики занимали Баз, Берх, Барч, Адельсон а их сторонники, а правую – Важенин, четыре братана Мяконьких, знакомый уж нам Секрет и еще несколько любопытных, явившихся сюда из того любопытства, которое некоторых людей неудержимо тянет на пожары вообще к каждому месту, где собралась какая-нибудь публика. Бартельсон и Человеколюбцев стояли пред судом и усиленно строчили на своих пюпитрах с задумчивым видом людей, решившихся пожертвовать собой для общего блага. Пока шло чтение доклада, продолжавшееся битых часов шесть, я рассматривал Важенина и братанов Мяконьких, которые представляли собой в высшей степени типичную группу.
Глядя на братанов Мяконьких, я долго старался припомнить, где я раньше видал этих богатырей, настоящих людей «от пня», как выражался Важенин, – но память «захлестнуло», и конец. А между тем эти страшные руки, крепкие, как столбы, затылки, эти совершенно невероятные спины и могучие груди так были знакомы, точно вот я их видел где-то на днях. Каково было мое удивление, когда я, наконец, припомнил все: да ведь эти братаны точь-в-точь как те библейские братья, которые нарисованы во всех священных историях для детей – убийство Каином Авеля, сцена, как продает Исав за чечевичную похлебку свое первородство Иакову, продажа Иосифа братьями измаильтянам..: Положительно это они: такие же библейские руки, спины, затылки, ноги. У меня стояли в ушах слова благословения, которое дал престарелый Иаков библейским сыновьям!: «Ты, Рувим, первенец мой—ты крепость моя и начаток силы моей… Иуда, рука твоя на хребте врагов твоих…» Нужно было видеть, как теперь эти «рослые теревинфы» напрягали все свои силы, чтобы понять все происходившее у них перед глазами, – они делались жалки в своей физической силе, которая была придавлена их темнотой, как тяжелым камнем. Вот большак Михалко в сотый раз вытирает капающий с лица пот, точно на нем целый воз привезли; середняк Мяконькой сдвинул брови, наморщил лоб, уперся глазами в «суд» да так и застыл в одной позе; меньшаки потели, вздыхали и всё смотрели на спину Человеколюбцев а, который во фраке, в белом галстуке и в золотом пенсне был положительно великолепен. Важенин сидел впереди у самого барьера и ужасно походил на тех великопостных причастников, которые с благочестивым спокойствием ждут своей очереди; для него никого и ничего не существовало, кроме того, что было перед барьером. Меня поразило именно это спокойствие, которым дышало не одно лицо, а вся фигура Важенина, – не было больше ни прежнего недоверия, ни скрытного искательства, ни страха, потому что он один знал здесь, зачем он пришел сюда и что он прав. Именно, прав, и это сознание делало его неизмеримо выше торжествовавших заранее противников: он переживал великий психический момент, когда человек делается рабом известной идеи и больше не знает сомнений.
Сидевший рядом с Важениным Секрет был под хмельком и "больше зевал по сторонам, время от времени закручивая свои тараканьи усы чрезвычайно молодцеватым жестом. Он часто оглядывался к братанам Мяконьким, глупо подмигивал и делал какие-то необыкновенно таинственные знаки посредством пальцев. В суде Секрет был как у себя дома, потому что чувствовал непреодолимое тяготение ко всяким господам, – это был пропащий человек, счастливый собственным ничтожеством. Глядя на братанов Мяконьких, на Важенина и Секрета, я никак не мот представить себе ту дикую сцену, которая разыгралась около «сереДовины», когда Мяконькие «произвели» Важенина и Секрета «под один пузырь»; дальше выступали еще более дикие несообразности: «прилежание» Харитинушки, темный товар, вылущивание грошей и копеек из пластунских "мастерков, облава на могутную девку Ульяну… Действительно, нужно всю силу «родительской крови», чтобы довести Важенина до того, чем он был в настоящий момент.
После докладчика говорили сначала Человеколюбцев, потом Бартельсон, затем опять Человеколюбцев и опять Бартельсон. Нового они ничего не сказали и, кажется, больше всего заботились о том, чтобы показать противнику, «как лягушки скачут». Человеколюбцев в интересах своих доверителей ссылался на jus primae occupationis[6]6
Право первого захвата (лат.).
[Закрыть] и земскую давность; Бартельсон досказывал, что заводское дело имеет величайшее государственное значение в наш «железный век», перечислял бесконечные права заводовладельцев, выяснял юридическое значение права на «недра земли», значение посессионного права и в конце концов сказал, что если суд признает требования боровковского общества правильными, то тем самым подаст сигнал к бесконечным аграрным беспорядкам. Все это судоговорение закончилось тем, что суд признал требования боровковского общества правильными, хотя и с некоторыми оговорками. Оказалось, что Бартельсон и остальные «немцы» еще ранее предвидели такое решение суда, но зато надеются на большую справедливость следующей судебной инстанции; Важенин ничего не сказал, а только положил на свою широкую грудь широкий мужицкий крест.
– Теперь надо будет пластунские народы вызволять… – говорил он задумчиво, выходя из залы суда.
На другой день рано утром забежал ко мне Секрет; он иногда заходил поздравить с праздником или попросить на похмелье, но на этот раз лицо у него просто сияло.
– Ты уж здоров ли? – спросил я.
– Слава богу, как следовает быть: в полном составе, – ответил он молодцевато. – А ведь я, вашескородие, того, середовину-то, того, сфукал.
– Как так?
– А уж так… На, не доставайся же она Бацу – и шабаш. В лучшем виде… Железная дорога пройдет через середовинуТо, а я буду сторожем. Верно… Наехало теперь господ страсть: земипо меряют, столбы ставят, планты делают, орудуют вполне… Все-таки выходит, что я отстоял ее, середовину-то: никому Не доставайся! И только господа наехали… ах, какие господа!.. Набольший-то у них и говорит мне: «Ты прикармливай волков…» Ну, натурально насчет охоты. Как приду, он сейчас двугривенный: «На двугривенный, купи бараньих голов волкам…» Куплю я бараньих голов, брошу их в лесу, а потом опять к барину: «Съели, барин!» – «Ну, еще купи… вот тебе двугривенный». Ну, так-ту мы бились с ним цельный месяц: он мне деньги, я – бараньи головы волоку, а волки едят… Уж такие господа, такие господа прахтикованные! И жалованье обещают… Буду себе с зеленым флачком на рельсах постаивать, – вот оно какое дело-то подошло, вашескородие!..
– Что же, стреляли волков-то?
– Какое стреляли: мы им бараньи головы валим, а они лопают – только и всего…



![Книга Вендетта [Кровь за кровь] автора Ник Кварри](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-vendetta-krov-za-krov-174832.jpg)


