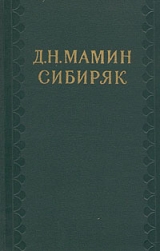
Текст книги "Том 10. Сказки. Воспоминания. Письма"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Наконец объявлен был и день. В аул Цацгая съехались со всех сторон. Вся степь покрылась народом. Брели старый и малый, чтобы посмотреть невиданное зрелище. Кто-то выиграет красавицу Мэчит? Кому аллах пошлет редкое счастье?
В поле была раскинута зеленая бухарская палатка, в которой собрались киргизские старшины из разных аулов, казы, и даже приехал сам бий. Простой народ усыпал все поле. Выехали скоро на чудных конях женихи Мэчит и много простых джигитов, а последним выехал Бухарбай на своей Ак-Бозат.
– Кто это на белой лошади? – спрашивали все.
– Это мой пастух, – неохотно отвечал Цацгай, обиженный тем, что простой пастух хочет спорить с женихами. – Только лошадь напрасно заморит…
Все наездники выровнялись перед палаткой в одну линию, и бий подал знак. Джигиты понеслись, а позади всех поехал Бухарбай. Он долго не решался принять участие в байге, потому что Ак-Бозат была еще молода. Благоразумие говорило, что не нужно этого делать, но молодая гордость перевесила. Недалеко от главной палатки стояла другая, в которой собрались женщины, и Бухарбай видел среди них красавицу Мэчит. Она весело позванивала золотыми монетами, которыми была у нее покрыта вся грудь, и еще веселее улыбнулась, когда увидела Бухарбая на его белой лошади. Чем больше женихов, тем сильнее поднималась гордость красавицы.
Байга шла на двадцать пять верст – вперед одна половина, а другая половина обратно. Хороши были кони у женихов, и далеко они унеслись вперед. На первой половине уже простые джигиты начали отставать. Бухарбай сдерживал горячившуюся Ак-Бозат и чувствовал, что в ней еще много силы. Только на обратном конце он постепенно начал давать волю благородному животному, и Ак-Бозат понеслась, все усиливая скорость. О, как она оставляла одного соперника за другим!.. Простые джигиты уже были все позади, а впереди летели только трое женихов. Особенно далеко ушел один на золотистом текинском скакуне. Ак-Бозат все прибавляла ходу и оставила двух женихов; остался впереди один. Бухарбай чувствовал, как под ним точно летела земля, а вдали уже пестрела толпа народа и зелеными точками выделялись палатки. Началась борьба между текинским скакуном и Ак-Бозат. Вот уже Ак-Бозат совсем настигает, и Бухарбай слышит, как тяжело дышит жениховский скакун. Вот они уже скачут голова в голову… Замерло сердце у Бухарбая: оставалось всего две версты. Трудно бороться с текинским скакуном, но он потрепал Ак-Бозат по шее, припал к луке седла, чтобы не связывать движений лошади, и дико гикнул. Как стрела, пущенная из лука могучей рукой, понеслась Ак-Бозат, как степной вихрь, и Бухарбай уже слышал, как неистово кричит тысячная толпа, торжествующая его победу.
Первым пришел Бухарбай, далеко оставив всех женихов. Все бросились к Ак-Бозат и не знали, как ее приласкать. Женщины целовали ее. Такого скакуна еще не видали в степи.
– Ты выиграл, Бухарбай, – сказал бий.
– Да, он выиграл, – согласился спокойно Цацгай. – Мэчит его, если он достанет калым… Хоть сейчас пусть берет ее. Я от своего слова не отказываюсь. Ведь все женихи обещали заплатить мне калым…
Никогда еще Бухарбай не чувствовал себя настолько несчастным, как в этот день своего торжества. Ему все завидовали, а он проклинал себя… Да, проклятую бедность не объедешь ни на каком скакуне. Даже гордая Мэчит подошла к Ак-Бозат и обняла за шею благородное животное.
– Прощай, Мэчит! – сказал Бухарбай.
Девушка ничего не ответила, а только опустила свои гордые глаза.
IV
Байга сделала Бухарбая несчастным. Он потерял свой покой, нажитый тяжелым трудом. Тяжела показалась ему теперь жизнь простого пастуха. Да и все другие ему завидовали. А он все думал о Мэчит, о красавице Мэчит с чудными глазами.
– Вот тебе год, – сказал Цацгай. – Я свое слово держу, а ты добывай калым. Если в течение года но добудешь, я выдам Мэчит за другого…
Если бы Бухарбая кто ударил ножом, ему, кажется, было бы легче, чем услышать такие слова. А тут еще Мэчит смотрит на него и опять улыбается. Она полюбила Ак-Бозат и часто приходила кормить ее из своих рук. Теперь ей нечего было стесняться: Бухарбай был ее жених, как это было всем известно.
– Бухарбай, ты очень любишь меня? – лукаво спрашивала красавица.
– Да…
– Даже больше, чем Ак-Бозат?
Этот вопрос смущал Бухарбая, и он не знал, что ответить, а Мэчит звонко смеялась и убегала.
Старый Цацгай тоже думал об Ак-Бозат. Все у него было – пятьсот лошадей, три тысячи баранов, красавица дочь, а такого скакуна не было. Далеко разлетелась слава Ак-Бозат по всей степи, и джигиты приезжали посмотреть на чудную лошадь. Эта слава не давала спать старому Цацгаю. Он только и думал об Ак-Бозат, как бы добыть ее от Бухарбая. Несколько раз скупой старик заводил такой разговор:
– Бухарбай, продай мне лошадь! Я тебе дам за нее двадцать лошадей – выбирай любых из всего табуна, да еще столько же баранов.
– Нет, – упрямо повторял Бухарбай.
– Дам тебе в придачу лучшую кибитку…
– Нет…
– Дам тебе серебряных денег, сколько можешь взять обеими руками.
– Нет…
– Дам тебе шелковый бешмет и два шелковых халата.
– Нет…
– Дам ружье, кинжал, саблю…
– Нет.
– Чего же тебе нужно?
– Мне ничего не нужно, Цацгай…
Впрочем, раз Бухарбай сам сказал:
– Давай все, что обещаешь, и Мэчит в придачу.
– Ого, ты не дурак… Только этого никогда не будет.
– Как знаешь. А мне и так хорошо…
Начал Цацгай сердиться на упрямого пастуха. Уж очень он зазнался со своею лошадью… Мало ли в степи хороших скакунов? Но как Цацгай ни успокаивал себя, но чудная лошадь но выходила у него из головы. Что ему, в самом деле, теперь нужно: все у него есть. Даже новую жену не нужно… А если бы была у него Ак-Бозат, он стал бы ездить по степи и на каждой байге всех бы обгонял. Нет другой такой лошади… Старик даже похудел, потерял сон и так заскучал, что не знал, куда ему деваться. И собственное богатство сделалось не мило…
Кончилось тем, что Цацгай серьезно разнемогся. Лежит у себя в кибитке и стонет. Ни есть, ни пить не может. Наконец он сказал Мэчит:
– Иди и позови сюда этого упрямого осла… Я хочу с ним говорить.
Когда в кибитку вошел Бухарбай, старик сказал:
– Я захворал из-за твоего упрямства… Ты глуп, как четыре осла! Да… Если бы я был молод, я украл бы твою Ак-Бозат! А теперь… Слушай, упрямый человек, что я тебе скажу: бери, что хочешь, и… Мэчит в придачу.
Поклонился Бухарбай и отвечал:
– Ты много даешь, Цацгай, а хочешь взять у меня все… Ак-Бозат – благородной крови Исэк-Кырган. Когда я уходил из своего аула нищим, мать мне сказала, чтобы я не отдавал Ак-Бозат ни за что. Но я подумаю…
– Убирайся, худой человек, и думай! – стонал старик.
Когда Бухарбай выходил из кибитки, он встретил Мэчит; она стояла у входа, слышала весь разговор и теперь горько плакала.
– Ты меня не любишь, Бухарбай… – шептали девичьи губы, еще так недавно смеявшиеся над ним.
Не тронули Бухарбая просьбы и обещания старого Цацгая, а тронули девичьи слезы. Он вернулся в свою кибитку, как пьяный. Все у него кружилось в голове, и он не знал, что ему делать.
Лежит у себя в пастушьей дырявой и грязной кибитке Бухарбай, лежит и думает, а перед ним заплаканное девичье лицо, и девичий сладкий голос, и своя собственная жалость. Слышит он, как ходит недалеко от кибитки его сокровище Ак-Бозат, и опять не знает, что ему делать. Другие пастухи спят, а он мучается, как преступник. Молодое сердце так и бьет тревогу… Наконец оно взяло перевес, и Бухарбай решился уступить Ак-Бозат старому Цацгаю.
Но только он это подумал, как слышит, что Ак-Бозат заржала. Не успел он выскочить из кибитки, как послышался громкий топот. О, как знал Бухарбай этот топот… Вор подкрался ночью и теперь летел, как ветер. Бросился Бухарбай в табун, выбрал лучшую лошадь и полетел в погоню. Гонит он час, гонит другой, и опять он слышит знакомый топот. Дрогнуло сердце в груди Бухарбая, и погнал он лошадь еще сильнее. Начинало светать, когда он завидел вдали Ак-Бозат: неужели это его Ак-Бозат, и неужели он ее догонит на простой табунной лошади? Еще никто не обгонял Ак-Бозат. Еще час гонится Бухарбай, – вор уже совсем близко. Облилось кровью сердце Бухарбая, когда он настигал его. Не утерпел джигит и крикнул:
– Эй, ты, шайтан, не умеешь ездить… Потрепли лошадь по шее!..
Вор так и сделал. Ак-Бозат полетела, как стрела. Скоро пропала совсем из виду. Бухарбай загнал насмерть свою лошадь, упал на землю и горько заплакал. Это аллах его наказал за то, что он хотел уступить благородную Ак-Бозат старому Цацгаю. Любовь его ослепила…
V
В свой аул Бухарбай вернулся только через три дня. Его сначала даже не узнали, так он похудел, а глаза были совсем дикие.
– Если бы ты отдал мне Ак-Бозат, я сумел бы ее сберечь, – карал его старый Цацгай. – Ты упрямый осел, Бухарбай… Ты глуп, Бухарбай, как четыре барана.
– Меня наказал аллах… – ответил Бухарбай. – Отпусти меня, Цацгай.
– Куда же ты пойдешь, несчастный байгуш?
– Пойду искать Ак-Бозат… Я не могу без нее жить.
Не так думала Мэчит. Очень она полюбила джигита, а девичье сердце не ищет богатства. Она сама пришла к Бухарбаю и сказала:
– Бухарбай, куда ты – туда и я… Я тебя люблю.
Заплакал Бухарбай, а Мэчит положила его голову к себе на колени и утешала ласковыми девичьими словами. Тут она узнала, как Бухарбай сделался байгушом, и еще больше его жалела. Из-за нее аллах его наказал. Пошла смелая девушка к отцу и сказала, что ни за кого больше не пойдет замуж, как только за джигита Бухарбая; он не простой пастух, а настоящий джигит.
– Не надо мне богатства, – говорила смелая девушка. – Лучше я буду женой простого пастуха.
Рассердился Цацгай, прогнал от себя дочь; но она пришла в другой раз и повторила то же самое. Разве что нибудь поделаешь с упрямыми женскими словами? Еще сильнее рассердился Цацгай и сказал:
– Хорошо, упрямая коза… Бери своего Бухарбая, только я ничего не знаю. И тебя не знаю… А этот упрямый осел пусть не показывается мне на глаза, если хочет быть цел.
Много страшных слов наговорил старый Цацгай, как говорят и другие отцы, когда сердятся на непослушных дочерей, а потом смилостивилось отцовское сердце.
«Дам я кибитку Мэчит, – решил Цацгай. – Не жить же ей на самом деле вместе с пастухами… Упрямая девчонка не стоит этого, ну да уж так и быть…»
После кибитки дал Цацгай лошадей, потом баранов, потом уж надавал всего. Он дает, а Бухарбаю все равно. Ничего не нужно джигиту.
Сыграли свадьбу, а Бухарбай все тоскует. Ласки молодой красавицы жены не утешали горя. По ночам Бухарбай часто просыпался и вскакивал, как сумасшедший. Ему все слышался топот Ак-Бозат… Вот-вот она уже совсем близко. Это она летит по степи, как ветер… Выскакивал Бухарбай из кибитки, брал лучшую лошадь и летел в погоню, а потом возвращался домой грустный-грустный.
Не мило было Бухарбаю и богатство, не милы ласки красавицы жены, ее молодой смех и песни. А тут еще новая беда: в аул пришел слепой байгуш с бандурой и запел песню про Ак-Бозат. В степи уже складывали ей песни.
С ветром спорила Ак-Бозат,
А крылья взяла у птицы…
Белая красавица, ты летала,
Как стрела, оперенная лебединым крылом.
– Слышишь, Мэчит? – стонал Бухарбай. – Это про нее поют, значит, она жива… О, я несчастный!.. И я не умел сберечь это сокровище…
А слепой байгуш сидит и поет:
Нет цены хорошей лошади,
Она все для джигита:
И дом, и богатство, и честь.
Без лошади нет и джигита!
Пришел Бухарбай к старому Цацгаю и сказал:
– Я ухожу, старик…
– Куда?
– Не знаю. Не могу больше терпеть…
– А жена?
– Жена подождет… Ничего мне не нужно.
Отправился Бухарбай странствовать по степи, из аула в аул, от одного колодца к другому. Где завидит в табуне белую лошадь, так у него сердце и упадет. Подъедет, посмотрит, – нет, не Ак-Бозат. И опять дальше, точно кто его гонит.
Когда вечером Бухарбай ложился спать, ему каждый раз слышался топот Ак-Бозат. Да, он слышал, как она делала широкий круг, а близко не подходила. О, это была она, Ак-Бозат… Бухарбай весь трепетал и молился аллаху. С каждым днем Ак-Бозат делала круги все меньше и меньше. Бухарбай перестал есть и похудел, как скелет.
«Скоро уж…» – говорил он самому себе.
А в степи между тем разнеслась весть, что бродит сумасшедший джигит и все ищет какую-то белую лошадь. Матери начали пугать им своих детей, а большие побаивались ночной встречи. Его видали разом в нескольких местах.
Собрались степные джигиты вместе и пробовали ловить Бухарбая; но он каждый раз уходил от них.
Наконец совсем обессилел Бухарбай и целых три дня лежит у степного колодца. У него не было сил подняться на лошадь, А как наступала ночь, опять являлась Ак-Бозат и начинала делать свои круги. Теперь она была уже совсем близко, и Бухарбай только не мог открыть глаз, чтобы посмотреть на лошадь. Однажды, – это была четвертая ночь у колодца, – он лежал как мертвый. Вдруг топот уже совсем близко, тут… Бухарбай открывает глаза, а над ним стоит Ак-Бозат. Он хотел крикнуть, но только застонал…
Степные джигиты нашли Бухарбая мертвым у колодца. Он прижимал окоченевшими руками к груди свою белую войлочную шляпу.
В глуши
I
Деревня Шалайка засела в страшной лесной глуши, на высоком берегу реки Чусовой. Колесная дорога кончалась в Шалайке, а дальше уже некуда было и ехать. Да никто и не приезжал в Шалайку, за исключением одного священника, жившего в Боровском заводе, до которого считали тридцать верст. Когда он приезжал, то постоянно удивлялся, что у всей деревни одна фамилия – Шалаевы. Собственно, даже фамилии не было, а только прозвище по деревне.
– Как же я вас буду в книге записывать? – говорил священник.
– Вот в нынешнем году три Ивана Шалаевых умерли и три Ивана Шалаевых родились, а в прошлом году было то же самое с Матренами, – две Матрены умерли и две Матрены родились! Всех перепутаешь как раз.
– Уж так с испокон веку, – объяснял староста, – все Шалаевы, и делу конец! Значит, прадед-то наш прозывался Шалаем, вот и вышли все Шалаевы, по прадеду, значит. От начальства тоже прижимки бывают… Как-то лет с пять назад возил я сдавать в солдаты наших парней, и, как на грех, подвернулись три Сидора и все Иванычи. Воинский начальник даже обиделся…
– Надо бы все-таки фамилии придумывать, – советовал священник. – Оно для вас же удобнее.
– А для чего нам, батюшка, фамилии? Живем в лесу с испокон веку и друг дружку знаем… А покойников на том свете господь-батюшка разберет и без нас, кто чего стоит.
Издали Шалайка была очень красива, особенно если смотреть с реки, – избы стояли на самом солнцепеке, как крепкие зубы, и какие были избы: одна другой лучше, – благо лес был под рукой и обошел деревушку зеленой зубчатой стеной. Пашен было совсем мало, потому что шалаевцы промышляли главным образом лесом, да и в горах лета стоят холодные и земля плохо родила. Вот сено было нужно, и его косили по лесным еланям* или по мысам на реке Чусовой и заливным побережьям. Всех дворов в Шалайке насчитывали двадцать семь, и все шалаевцы составляли одну громадную семью, связанную родственными отношениями.
______________
* Елани – широкие поляны в лесу. (прим. автора)
Изба Пимки стояла на самом юру, то есть почти на обрыве. Летом из окошек можно видеть разлив реки Чусовой верст на пять.
Сейчас за рекой шел нескончаемый лес, и никто в Шалайке не знал, где он кончался, точно деревня стояла на краю света.
Пимке шел уже десятый год, и он нигде не бывал и ничего не видал, кроме своей деревни. Нужно сказать, что шалаевцы ужасно любили свою деревню и даже гордились ею. Когда молодых парней сдавали в солдаты, они расставались с родным гнездом с такими слезами, каких, вероятно, не проливают рекруты из Москвы или Петербурга. Можно было подумать, что только и можно было жить на белом свете, как в Шалайке. Пимка помнил, как провожали в солдаты его старшего брата Ефима и других парней, и тоже ревел вместе со всеми.
– Перестаньте вы, глупые! – уговаривал дядя Акинтич, отставной солдат. – О чем вы плачете? Не с волками будет жить, а с добрыми людьми; по крайней мере, всего посмотрит, как другие живут, ну, и поучится на людях. В Шалайке-то всю бы жизнь в лесу прожил… Невелика радость!
Солдату Акинтичу никто не верил. Хорошо было говорить, когда сам отслужил свою службу. Если бы уж было так сладко на чужой стороне, так зачем солдат вернулся опять к себе в Шалайку?
Акинтич жил у отца Пимки, потому что своя семья как-то разошлась: старики примерли, сестры повыходили замуж, а о женатыми братьями солдат не ладил. Пимка ужасно любил солдата Акинтича, который так хорошо рассказывал и знал решительно все, рассказывал даже лучше баушки [13]13
На Урале вместо «бабушка» говорят «баушка», вместо «девушка» – «деушка». (прим. автора)
[Закрыть]Акулины, которая знала только сказки да «про старину». Когда брат Ефим ушел в солдаты, Акинтич занял его место. Семья была хоть и большая, но настоящих работников оставалось всего двое: отец Егор да второй брат Андрей. Был еще дедушка Тит, только он уже не мог идти за работника, потому что жил больше в лесу и домой редко выходил. Бабы в счет не шли. Мать, Авдотья, управлялась по дому, а старшая сестра, Домна, была «не совсем умом». С этой Домной вышел такой случай. Летом бабы пошли за малиной на старый Матюгин курень [14]14
Курень – место выжига угля в лесу.
[Закрыть], и Домна с ними. Она была еще подростком и как-то отбилась от партии. Искали-искали ее бабы и не могли найти. Потом целых три дня искали по лесу всей деревней и тоже не нашли. Так и решили, что Домну задрал медведь. Разыскал ее уж на пятый день дедушка Тит. Забилась Домна на сосну, уцепилась и голосу не подает. Едва старик отцепил ее от дерева и привел домой еле живую. С тех пор Домна стала «не совсем умом». Все молчит, что ей ни говорят. Работать работала, когда мать заставляла, а так – все равно что дитя малое. Деревенские ребятишки любили ее дразнить. Обступят гурьбой и кричат:
– Домна, покажи, как лешак хохочет…
Стоило ей сказать это, как Домна принималась дико хохотать, выкатывала глаза и делалась такой страшной. Все говорили, что она видела «лешака» и что он пугал ее своим хохотом. Кроме Домны, были еще ребятишки, но те – совсем малыши и ни в какой счет не шли.
Вся Шалайка промышляла лесной работой, и семья Пимки тоже. Еще дед Тит работал в курене, и отец Егор принял его работу. Другие рубили дрова, вывозили лес на Чусовую, где вязались плоты и сплавлялись бревна на нижние пристани. Работа была не легкая, но все привыкли к ней и ничего лучшего не желали. Да и чего же можно желать, когда человек сыт, одет и в тепле? Пимка тоже знал, что будет работать в курене, и часто говорил отцу:
– Тятя, а когда ты возьмешь меня в курень?
– Погоди, твое время еще впереди, Пимка… Успеешь и в курене наработаться, дай срок.
И Пимка ждал. Ему казалось, что как только он уедет в курень, так сейчас же сделается большим. До куреня считали верст тридцать, и проехать туда можно было только зимними дорогами. Дедушка Тит оставался там иногда и на лето. Пимку беспокоило немного только одно, – в лесу «блазнит» [15]15
Блазнит – кажется (местное уральское слово).
[Закрыть], как поблазнило Домне. Того и гляди, что лешак глаза отведет и в лесу запутает. Впрочем, лешак и около самой Шалайки пошаливал, особенно за Чусовой. Баушка Акулина не раз слыхала, как он ухает по ночам, а одну бабу на покосе лешак совсем было задушил. Еще страшнее была лешачиха, которая жила прямо в воде, на Чусовой. Ее и большие мужики боялись; когда по ночам лешачиха шлепалась в воде, по всей реке гул шел. Лешачиха любила подкарауливать в жаркие летние дни маленьких ребятишек, когда они выходили купаться в Чусовой, и утаскивала их к себе в омут. Все знали, что она жила в омуте, всего с версту от Шалайки, где стояла высокая скала, а под ней в реке и дна не было. Дед Тит своими глазами видел лешачиху, только не любил об этом рассказывать: вся черная, обросла мокрой шерстью, а глаза, как у волка. Только один солдат Акинтич не боялся ни лешака, ни лешачихи и даже ездил по ночам ловить рыбу в омуте.
– Пустые слова это старухи болтают, Пимка, – коротко объяснял он. – А ты, главное, ничего не бойся… ни-ни! И никогда тебе страшно не будет… Понимаешь ты это самое дело?
– А ежели лешачиха за ногу сцапает? – спрашивал Пимка.
– Не сцапает… А ежели что – ты ее в морду. И лешак тоже пустое дело… Он ухнет, а ты еще пуще ухни. Он ребенком заплачет, а ты опять ухни… Хорошо ему баб пугать. Говорю: ничего не бойся, Пимка, и не будет страшно.
Мы уже сказали, что в Шалайку никто не приезжал, да и ехать дальше было некуда. Из «чужестранных» людей изредка появлялись только куренные подрядчики да охотники, промышлявшие поздней осенью рябчиков и белку. Солдат Акинтич тоже «ясачил» в свободное время и водил дружбу со всеми охотниками. Они и останавливались в избе Егора. Пимка, лежа на полатях, любил послушать охотничьи рассказы, особенно когда заходила речь о проказах косолапого Мишки. Дедушка Тит убил не один десяток медведей, но не любил об этом говорить. Он бросил совсем охоту, когда последний медведь так помял ему ногу, что дедушка остался хромым на всю жизнь. Акинтич, выпивши, любил похвастаться своей удалью и рассказывал охотникам небывалые вещи про свои подвиги, пока брат Егор не останавливал его:
– Будет тебе врать, Акинтич… Как раз подавишься.
Самое веселое время в Шалайке было весной, когда по Чусовой проходил сверху караван. Вешняя полая вода подымалась в реке сажени на две, и по ней быстро летели сотни барок. Вся деревня высыпала на берег посмотреть. Пимка тоже смотрел и думал о том, куда плывут барки и какие люди на них плывут. Акинтич один из всей деревни плавал на барке и рассказывал разные страсти о том, как неистово играет в камнях река, как бьются о скалы барки, как тонет народ. Акинтич знал решительно все на свете и называл какие-то мудреные места, куда сгоняют все барки.
– Там, брат, народ богатый живет, – объяснял он Пимке. – И все покупают, что ни привези… И лес, и железо, и медь, и белку, и рябчика – только подавай. Дома там каменные, а по реке бегут пароходы.
II
Пимке шел одиннадцатый год, когда отец сказал:
– Ну, Пимка, собирайся в курень… Пора, брат, и тебе мужиком быть.
Это было в начале зимы, когда встала зимняя дорога. Пимка был и рад, но и побаивался. В курене, – конечно, лешачихи не было, а зато были медведи. Он никому не сказал про свой страх, потому что настоящие мужики ничего не боятся. Мать еще с лета заготовила будущему мужику всю необходимую одежду: коротенький полушубок из домашней овчины, из собачьего меха ягу [16]16
Яга – шуба шерстью наружу. (прим. автора)
[Закрыть], пимы, собачьи шубенки [17]17
Шубенки – рукавицы. (прим. автора)
[Закрыть], такой же треух-шапку – все, как следует настоящему мужику. По зимам стояли страшные морозы, когда птица замерзала на лету, – недели по две, и спасал только теплый собачий мех. Особенно доставалось углевозам, которые возили уголь с куреня в Боровский завод. Редкий не отмораживал себе щек и носа. Мать почему-то жалела Пимку и на проводинах всплакнула.
– Ты смотри, Пимка, не застудись… В балагане [18]18
Балаган – широкая низкая изба, вросшая в землю, крытая дерном, без окон, с очагом из камней вместо печи, с земляным полом. (прим. автора)
[Закрыть]будешь жить, а там вот какая стужа.
– Ничего, мамка! – весело отвечал Пимка. – Я с Акинтичем буду жить, а он все знает… Мы еще медведя с ним залобуем [19]19
Залобовать – убить. (прим. автора)
[Закрыть].
– Ладно… Вот уши себе не отморозь.
– Мы его в кашевары поставим, – объяснял отец. – Чего ему дома-то зря болтаться, а там дело будет делать. Тоже кошку не заставишь кашу варить… Так, Пимка? Дед тебе обрадуется… Старый да малый – будете жить в балагане.
– Я, тятя, ничего не боюсь.
– А чего бояться? С людьми будешь жить.
Пимке ужасно понравилась дорога в курень, которая шла все время лесом. Снег только что выпал, и болота еще не успели замерзнуть по-настоящему. Ехали в большом угольном коробе, сплетенном дедушкой Титом из черемуховых прутьев. Старик целое лето оставался в курене, гнул березовые полозья для саней, дуги и плел коробья. Он все умел делать, что было нужно для куренной работы и для домашности. Мужикам – топорища, бабам – корыта и вальки – все нужно. Лес только еще был запушен первым снегом. Дремучие ельники стояли стена стеной, точно войско. На месте старых куреней росли осинники и березняки. Зимой они имели такой голый вид. Отец правил лошадью и время от времени говорил Пимке:
– Смотри, вон заячий след… Видишь, какие петли наделал по снежку. Такие узоры поведет, что и не распутаешь. А вон лиса прошла… Эта, как барыня, идет и след хвостом заметает.
В одном месте Егор остановил лошадь, долго рассматривал след и объяснял:
– Волчья стая прошла… Они, брат, как солдаты, шаг в шаг ступают. Прошла стая, а след точно от одного… Наш лесной волк не страшен, потому как везде ему по лесу пища: зайца поймает, рябчиком закусит, а то и целого глухаря раздобудет. Смышлястый зверь…
В другом месте Егор показал Пимке большой след. На молодом снегу отпечатались точно коровьи копыта.
– Это зверь сохатый прошел… Вон как отмахивал. В самый бы раз нашему солдату его залобовать… Весь бы курень был сыт, а кожу продал бы в заводе. Надо будет ему сказать… Пусть по следу его ищет.
В курень приехали уже ночью. Было совсем темно, и Пимка задремал, свернувшись калачиком на дне короба. Место куреня можно было заметить издали по зареву, которое поднималось над горевшими «кучонками», то есть кучами из длинных дров, обложенных сверху дерном. Немного в стороне стояли четыре балагана. Егор подъехал к тому, в котором жил дедушка Тит. Еще издали гостей встретила лаем пестрая собака Лыско, которая очень сконфузилась, когда узнала свою лошадь. На лай изо всех балаганов показались мужики.
– Это ты, Егор?
– Верно, я… Вот я вам какого зверя привез. Пимка, вылезай…
Выскочил из балагана Акинтич и вытащил Пимку, который никак не мог проснуться. Когда Акинтич его встряхнул, Пимке показалось очень холодно. В балагане сидел дедушка Тит и наблюдал за кипевшим на очаге из камней железным котелком, в котором варилась просяная каша на ужин. Увидав внука, старик обрадовался.
– Ну, ну, садись, гость будешь, – говорил он. – Что, озяб? Погоди, вот поешь каши и согреешься.
Балаган представлял собой большую низкую избу, без окон и без трубы. Заднюю половину занимали сплошные полати на старых еловых пнях. Налево от низенькой двери в углу был устроен из больших камней очаг. Вместо трубы в крыше чернела дыра, и дым расстилался по всему балагану, так что стоять было невозможно, и Пимка сейчас же закашлялся, наглотавшись дыму. Потолок и стены были покрыты сажей.
– Что, не понравилось наше угощение? – шутил Акинтич. – А ты пока садись на пол, Пимка, вот к дедушке…
Старый Тит ужасно был рад внучку и посадил его рядом с собой на обрубок бревна. Старику было под восемьдесят, и его седая борода превратилась в желтую, но он еще держался крепко, а в работе, пожалуй, не уступал и молодым мужикам. Только, к несчастью, у дедушки Тита начинала болеть спина и «тосковали» застуженные ноги.
– Вот тебе, дедушка, и помощник, – галдели набравшиеся в балаган мужики. – Он, брат, этот самый Пимка, ежели до каши, так первый работник…
Все дроворубы и углежоги благодаря жизни в курных балаганах походили на трубочистов. Все равно, мойся не мойся, а от дыма и сажи не убережешься. Теперь все были рады новому человеку и шутили над малышом, как кто мог придумать. Пимка был совершенно счастлив. Мужики были все свои, шалайские, и он всех знал в лицо. Отец Пимки привез из деревни всякой всячины и теперь делил – кому хлеба, кому шубу, кому новый топор, кому приварок ко щам, кому новую рубаху.
Пимка наелся горячей каши с таким удовольствием, как никогда не едал, и тут же заснул, сидя на обрубке около деда.
– Ну, надо малыша на перину укладывать, – шутил Акинтич, устраивая на нарах для Пимки постель из сена. – Вот мы тут зеленого пуху настелем, – спи только.
Сонного Пимку Акинтич перенес на руках, уложил на нарах и прикрыл своей ягой.
– Ишь ты, как малыша сон-то забрал! – удивлялись мужики. – Это он намерзся дорогой-то да прямо в тепло и попал, ну и разомлел…
Один по одному мужики разошлись из балагана деда Тита. Утром всем надо было рано вставать.
Утром на другой день Пимка проснулся рано, проснулся от страшного холода. В балагане было тепло, пока горел огонь на очаге; а только огонь гас – все тепло уходило частью кверху в дымовую дыру, частью – в плохо сколоченную дверь. Плохо было то, что приходилось выжидать, пока огонь прогорит дотла и выйдет дым; потом уже дедушка Тит поднимался на крышу и прикрывал дымовую дыру еловой корой, а сверху заваливал хвоей. В балагане было или страшно жарко, или страшно холодно.
Работа на курене уже кипела, когда Пимка вышел из балагана. Дедушка Тит у самого балагана налаживал новые дровни. Где-то в лесу трещали топоры, рубившие застывшее дерево, а на свежей поруби сильно дымили до десятка кучонков. Это были кучи больше сажени в высоту и шириной сажен до трех. Внутри уложены были дрова стоймя и горели медленным огнем, вернее, не горели, а медленно тлели. Весь секрет состоял в том, чтобы дерево не истлело совсем, а получился крепкий уголь. Такой кучонок горел недели две, пока не превращались в уголь все дрова. У каждого кучонка был свой «жигаль», который должен был следить за всем. Вся работа пропадала, если огонь где-нибудь пробивался сквозь дерн, и тогда весь уголь сгорал. «Жигали» не отходили от своих кучонков ни днем, ни ночью. Это была самая трудная и ответственная работа. Дроворуб ничем но рисковал, и углевоз тоже, а «жигаль» отвечал за все. В «жигали» поступали самые опытные рабочие. Издали эти кучонки походили на громадные муравейники, с той разницей, что последние не дымятся, а от кучонков валил день и ночь густой дым. Выгоревший кучонок должен был еще долго отдыхать, пока окончательно не остынет весь уголь. Дедушка Тит «ходил в жигалях» лет сорок, а теперь его заменил сын Егор. Куренные мужики на этом основании сразу прозвали Пимку «жигаленком».
В первый же день Пимка освоился со всеми порядками куренной жизни. Вставали до свету, закусывали, чем бог послал, а потом шли на работу до обеда. После обеда немного отдыхали и потом работали, пока было светло. Работа была тяжелая у всех, и ее выносили только привычные люди. Дроворубы возвращались в балаган, как пьяные, – до того они выматывали себе руки и спину. Углевозы маялись дорогой, особенно в морозы, когда холодом жгло лицо. А всего хуже было жить в курных, всегда темных балаганах, да и еда была самая плохая: черный хлеб да что-нибудь горячее на придачу, большей частью – каша. Где же мужикам стряпню разводить!
– Уж и жизнь только, – ворчал солдат Акинтич, отвыкший за все время своей солдатчины от тяжелой куренной работы. – Брошу все и уйду куда глаза глядят. Главная причина, что нет бани. Весь точно из трубы сейчас вылез.
Все куренные мечтали о бане и завидовали каждому, кто отправлялся в деревню; поехал, значит, и в бане побывает. Ездили по очереди, а в целую зиму другому придется побывать всего два раза.
Пимка прожил несколько дней в курене, и его страшно потянуло домой. Очень уж тяжело было жить в лесу, и мальчик совершенно был согласен с дядей Акинтичем, что надо отсюда уходить куда глаза глядят. Пимка даже всплакнул потихоньку ото всех.








