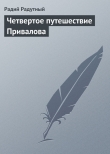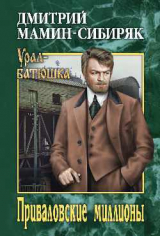
Текст книги "Приваловские миллионы"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Дмитрий Мамин-Сибиряк
Приваловские миллионы
Часть первая
I
– Приехал… барыня, приехал! – задыхавшимся голосом прошептала горничная Матрешка, вбегая в спальню Хионии Алексеевны Заплатиной. – Вчера ночью приехал… Остановился в «Золотом якоре».
Заплатина, дама неопределенных лет с выцветшим лицом, стояла перед зеркалом в утреннем дезабилье. Волосы цвета верблюжьей шерсти были распущены по плечам, но они не могли задрапировать ни жилистой худой шеи, ни грязной ночной кофты, открывавшей благодаря оторванной верхней пуговке высохшую костлявую грудь. Известие, принесенное Матрешкой, поразило Заплатину как громом, и она даже выронила из рук гребень, которым расчесывала свои волосы перед зеркалом. В углу комнаты у небольшого окна, выходившего на двор, сидел мужчина лет под сорок, совсем закрывшись последним номером газеты. Это был сам г. Заплатин, Виктор Николаич, топограф узловской межевой канцелярии. По своей наружности он представлял полную противоположность своей жене: прилично полный, с румянцем на загорелых щеках, с русой окладистой бородкой и добрыми серыми глазками, он так же походил на спелое яблоко, как его достойная половина на моченую грушу. Он маленькими глотками отпивал из стакана кофе и лениво потягивался в своем мягком глубоком кресле. Появление Матрешки и ее шепот не произвели на Заплатина никакого впечатления, и он продолжал читать свою газету самым равнодушным образом.
– Матрена, голубчик, беги сейчас же к Агриппине Филипьевне… – торопливо говорила Заплатина своей горничной. – Да постой… Скажи ей только одно еловое «приехал». Понимаешь?.. Да ради бога, скорее…
Матрешке в экстренных случаях не нужно было повторять приказаний, – она, по одному мановению руки, с быстротой пушечного ядра летела хоть на край света. Сама по себе Матрешка была самая обыкновенная, всегда грязная горничная, с порядочно измятым глупым лицом и большими темными подглазницами под бойкими карими глазами; ветхое ситцевое платье всегда было ей не впору и сильно стесняло могучие юные формы. В руках Заплатиной Матрешка была золотой человек, потому что обладала счастливой способностью действовать без рассуждений.
– Ах, господи… что же это такое?.. Да Виктор Николаич… Ах господи!.. – причитала Заплатина, бестолково бросаясь из угла в угол.
– Чего тебе?..
– Да ведь ты слышал: при-е-хал…
– Что же из этого?
– Болван! Да ведь Привалов – миллионер, пойми ты это… Мил-ли-онер!.. Ах, господи, где же мой корсет… где мой корсет?
– Отстань, пожалуйста…
– Дурак!.. Ах, господи… Ведь говорила я Агриппине Филипьевне, уже сколько раз говорила: «Mon ange,[2]2
Мой ангел (франц.).
[Закрыть] уж поверьте, что недаром приехал этот ваш братец…» Да-с!.. Вот и вышло по-моему. Ах! вот пойдет переполох: Бахаревы, Ляховские, Половодовы… Я очень рада, что Привалов посбавит им спеси, то есть Ляховским и Половодовым. Уж очень зазнались… даром, что рыльце-то у них в пушку. Вот ужо, погодите, подтянет вас, голубчиков, наследничек-то… Ха-ха… Виктор Николаич, дерево ты этакое, слышишь: Привалов приехал!
– Да отвяжись ты от меня, ржавчина! «Приехал, приехал», – передразнивал он жену. – Нужно, так и приехал. Такой же человек, как и мы, грешные… Дайка мне миллион, да я…
– Отчего же он не остановился у Бахаревых? – соображала Заплатина, заключая свои кости в корсет. – Видно, себе на уме… Все-таки сейчас поеду к Бахаревым. Нужно предупредить Марью Степановну… Вот и партия Nadine. Точно с неба жених свалился! Этакое счастье этим богачам: своих денег не знают куда девать, а тут, как снег на голову, зять миллионер… Воображаю: у Ляховского дочь, у Половодова сестра, у Веревкиных дочь, у Бахаревых целых две… Вот извольте тут разделить между ними одного жениха!..
– Бабы – так бабы и есть, – резонировал Заплатин, глубокомысленно рассматривая расшитую цветным шелком полу своего халата. – У них свое на уме! «Жених» – так и было… Приехал человек из Петербурга, – да он и смотреть-то на ваших невест не хочет! Этакого осетра женить… Тьфу!..
– Ничего ты не понимаешь, – с напускным равнодушием проговорила Заплатина, облекаясь в перекрашенное шелковое платье травяного цвета и несколько раз примеривая летнюю соломенную шляпу с коричневой отделкой. – Разве мужчины могут что-нибудь понимать? По-твоему, например, Привалов заберется с Иваном Яковлевичем к арфисткам в «Магнит» и будет совершенно счастлив? Да? Как Лепешкин, Ломтев… Ведь и ты не прочь бы присоединиться к их компании. Пожалуйста, не трудитесь отпираться… Все вы, мужчины, одинаковы, и меня не проведете! Нет… Насквозь всех вас вижу: променяете на первую танцовщицу.
Заплатина круто повернулась перед зеркалом и посмотрела на свою особу в три четверти. Платье сидело кошелем; на спине оно отдувалось пузырями и ложилось вокруг ног некрасивыми тощими складками, точно под ними были палки. «Разве надеть новое платье, которое подарили тогда Панафидины за жениха Капочке? – подумала Заплатина, но сейчас же решила: – Не стоит… Еще, пожалуй, Марья Степановна подумает, что я заискиваю перед ними!» Почтенная дама придала своей физиономии гордое и презрительное выражение.
– А ты вот что, Хина, – проговорил Заплатин, наблюдавший за последними маневрами жены. – Ты не очень тово… понимаешь? Пожалей херес-то… А то у, тебя нос совсем клюквой…
– У меня… нос клюквой?!
Хиония Алексеевна выпрямилась и, взглянув уничтожающим взглядом на мужа, как это делают драматические провинциальные актрисы, величественно проговорила:
– Если без меня приедет сюда Агриппина Филипьевна, передай ей, что я к ней непременно заеду сегодня же… Понял?
– Как не понять: вам с Агриппиной Филипьевной теперь работа, в чужом пиру похмелье…
Семья Заплатиных в уездном городке Узле, заброшенном в глубь Уральских гор, представляла оригинальное и вполне современное явление. Она являлась логическим результатом сцепления целой системы причин и следствий, созданных живой действительностью. Эта семья, как истинное дитя своего века, служила выразителем его стремлений, достоинств и недостатков. Виктор Николаич был сын сторожа, отставного солдата Кое-как, с грехом пополам, выучился он грамоте и в самой зеленой юности поступил в уездный суд, где годам к тридцати добился пятнадцати рублей жалованья По тому времени этих денег было совершенно достаточно, чтобы одеваться прилично и иметь доступ в скромные чиновничьи дома. Последнее, ничтожное в своей сущности обстоятельство имело в жизни Заплатина решающее значение. На одной из чиновничьих вечеринок он встретился с чрезвычайно бойкой гувернанткой. Она заинтересовала маленького чиновника. Правда, у гувернантки была довольно сомнительная репутация, но это совершенно выкупалось тремя тысячами приданого. Заплатин был рассудительный человек и сразу сообразил, что дело не в репутации, а в том, что сто восемьдесят рублей его жалованья сами по себе ничего не обещают в будущем, а плюс три тысячи представляют нечто очень существенное. Этот брак состоялся, и его плодами постепенно явились двадцать пять рублей жалованья вместо прежних пятнадцати, далее свой домик, стоивший по меньшей мере тысяч пятнадцать, своя лошадь, экипажи, четыре человека прислуги, приличная барская обстановка и довольно кругленький капитальчик, лежавший в ссудной кассе. Одним словом, настоящее положение Заплатиных было совершенно обеспечено, и они проживали в год около трех тысяч. А между тем Виктор Николаич продолжал получать свои триста рублей в год, хотя служил уже не в уездном суде, а топографом при узловской межевой канцелярии. Все, конечно, знали скудные размеры жалованья Виктора Николаича и, когда заходила речь об их широкой жизни, обыкновенно говорили: «Помилуйте, да ведь у Хионии Алексеевны пансион; она знает отлично французский язык…» Другие говорили просто: «Да, Хиония Алексеевна очень умная женщина». И далекая провинция начинает проникаться сознанием, что умные люди могут получать триста рублей, а проживать три тысячи. Это вполне современное явление никому не резало глаз, а подводилось под разряд тех фактов, которые правы уже по одному тому, что они существуют.
Домик Заплатиных был устроен следующим образом. Довольно приличный подъезд вел в светлую переднюю. Из передней одна дверь вела прямо в уютную небольшую залу, другая – в три совершенно отдельных комнаты и третья – в темный коридор, служивший границей собственно между половиной, где жили Заплатины, и пансионом. Центром всего дома, конечно, была гостиная, отделанная с трактирной роскошью; небольшой столовой она соединялась непосредственно с половиной Заплатиных, а дверью – с теми комнатами, которые по желанию могли служить совершенно отдельным помещением или присоединяться к зале. В зале стояли порядочный рояль и очень приличная мебель. В других комнатах мебель была сборная, обои не первой молодости, занавески с пятнами и отпечатками грязных пальцев Матрешки. В домике Заплатиных кипела вечная ярмарка: одни приезжали, другие уезжали. Преобладающий элемент составляли дамы. Они являлись сюда за последними новостями, делились слухами и уезжали, нагруженные, как пчелы цветочной пылью, целым ворохом сплетен. Idee fixe[3]3
Навязчивая идея (франц.).
[Закрыть] Хионии Алексеевны была создать из своей гостиной великосветский салон, где бы молодежь училась хорошему тону и довершала свое образование на живых образцах, люди с весом могли себя показать, женщины – блеснуть своей красотой и нарядами, заезжие артисты и артистки – найти покровительство, местные таланты – хороший совет и поощрение и все молодые девушки – женихов, а все молодые люди – невест. Чтобы выполнить во всех деталях этот грандиозный план, у Заплатиных не хватало средств, а главное, что было самым больным местом в душе Хионии Алексеевны, – ее салон обходили первые узловские богачи – Бахаревы, Ляховские и Половодовы. Нужно отдать полную справедливость Хионии Алексеевне, что она не отчаивалась относительно будущего: кто знает, может быть, и на ее улице будет праздник – времена переменчивы. Так ткет паук паутину где-нибудь в темном углу и с терпением, достойным лучшей участи, ждет своих жертв…
– Эта Хиония Алексеевна ни больше ни меньше, как трехэтажный паразит, – говорил частный поверенный Nicolas Веревкин. – Это, видите ли, вот какая штука: есть такой водяной жук! – черт его знает, как он называется по-латыни, позабыл!.. В этом жуке живет паразит-червяк, а в паразите какая-то глиста… Понимаете? Червяк жрет жука, а глиста жрет червяка… Так и наша Хиония Алексеевна жрет нас, а мы жрем всякого, кто попадет под руку!
Что касается семейной жизни, то на нее полагалось время от двух часов ночи, когда Хиония Алексеевна возвращалась под свою смаковницу из клуба или гостей, до десяти часов утра, когда она вставала с постели. Остальное время всецело поглощалось приемами гостей и разъездами по знакомым. Виктор Николаич мирился с таким порядком вещей, потому что на свободе мог вполне предаваться своему любимому занятию – политике. Сидеть в мягком кресле, читать последний номер газеты и отпивать небольшими глотками душистый мокка – ничего лучшего Виктор Николаич никогда не желал. Его мысли постоянно были заняты высшими соображениями европейской политики: Биконсфильд, Бисмарк, Гамбетта, Андраши, Грант – тут было над чем подумать. Относительно своих гостей Виктор Николаич держался таким образом: выходил, делал поклон, улыбался знакомым и, поймав кого-нибудь за пуговицу, уводил его в уголок, чтобы поделиться последними известиями с театра европейской политики.
– Мне нужно посоветоваться с мужем, – обыкновенно говорила Хиония Алексеевна, когда дело касалось чего-нибудь серьезного. – Он не любит, чтобы я делала что-нибудь без его позволения…
Это, конечно, были только условные фразы, которые имели целью придать вес Виктору Николаичу, не больше того. Советов никаких не происходило, кроме легкой супружеской перебранки с похмелья или к ненастной погоде. Виктор Николаич и не желал вмешиваться в дела своей жены.
Что касается пансиона Хионии Алексеевны, то его существование составляло какую-то тайну: появлялись пансионерки, какие-то дальние родственницы, сироты и воспитанницы, жили несколько месяцев и исчезали бесследно, уступая место другим дальним родственницам, сиротам и воспитанницам. Можно было подумать, что у Хионии Алексеевны во всех частях света бесконечная родня. Чему учили в этом пансионе и кто учил – едва ли ответила бы на это и сама Хиония Алексеевна. Пансион имел сношение с внешним миром только при посредстве Матрешки.
Чтобы довершить характеристику той жизни, какая шла в домике Заплатиных, нужно сказать, что французский язык был его душой, альфой и омегой. Французские фразы постоянно висели в воздухе, ими встречали и провожали гостей, ими высказывали то, что было совестно выговорить по-русски, ими пускали пыль в глаза людям непосвященным, ими щеголяли и задавали тон. В жизни Хионии Алексеевны французский язык был неисчерпаемым источником всевозможных комбинаций, а главное – благодаря ему Хиония Алексеевна пользовалась громкой репутацией очень серьезной, очень образованной и вообще передовой женщины.
II
Бахаревский дом стоял в конце Нагорной улицы. Он был в один этаж и выходил на улицу пятнадцатью окнами. Что-то добродушное и вместе уютное было в физиономии этого дома (как это ни странно, но у каждого дома есть своя физиономия). Под этой широкой зеленой крышей, за этими низкими стенами, выкрашенными в дикий серый цвет, совершалось такое мирное течение человеческого существования! Небольшие светлые окна, заставленные цветами и низенькими шелковыми ширмочками, смотрели на улицу с самой добродушной улыбкой, как умеют смотреть хорошо сохранившиеся старики. Прохожие, торопливо сновавшие по тротуарам Нагорной улицы, с завистью заглядывали в окна бахаревского дома, где все дышало полным довольством и тихим семейным счастьем. Вероятно, очень многим из этих прохожих приходила в голову мысль о том, что хоть бы месяц, неделю, даже один день пожить в этом славном старом доме и отдохнуть душой и телом от житейских дрязг и треволнений.
Каменные массивные ворота вели на широкий двор, усыпанный, как в цирке, мелким желтым песочком Самый дом выходил на двор двумя чистенькими подъездами, между которыми была устроена широкая терраса, затянутая теперь вьющейся зеленью и маркизою с крупными фестонами. Эта терраса низенькими широкими ступенями спускалась в красивый цветник, огороженный деревянной зеленой решеткой В глубине двора стояли крепкие деревянные службы. Между ними и домом тянулась живая стена акаций и сиреней, зеленой щеткой поднимавшихся из-за красивой чугунной решетки с изящными столбиками Параллельно с зданием главного дома тянулся длинный деревянный флигель, где помещались кухня, кучерская и баня.
Внутри бахаревский дом делился на две половины, у которых было по отдельному подъезду. Ближайший к воротам подъезд вел на половину хозяина, Василья Назарыча, дальний – на половину его жены, Марьи Степановны Когда вы входили в переднюю, вас уже охватывала та атмосфера довольства, которая стояла в этом доме испокон веку. Обе половины представляли ряд светлых уютных комнат с блестящими полами и свеженькими обоями. Потолки были везде расписаны пестрыми узорами, и небольшие белые двери всегда блестели, точно они вчера были выкрашены; мягкие тропинки вели по всему дому из комнаты в комнату. Была и разница между половинами Василья Назарыча и Марьи Степановны, но об этом мы поговорим после, потому что теперь к второму подъезду с дребезгом подкатился экипаж Хионии Алексеевны, и она сама весело кивала своей головой какой-то девушке, которая только что вышла на террасу.
– Ах, mon ange! – воскликнула Хиония Алексеевна, прикладываясь своими синими сухими губами к розовым щекам девушки. – Je suis charmee![4]4
Я восхищена! (франц.).
[Закрыть] Вы, Nadine, сегодня прелестны, как роза!.. Как идет к вам это полотняное платье… Вы походите на Маргариту в «Фаусте», когда она выходит в сад. Помните эту сцену?
Надежда Васильевна, старшая дочь Бахаревых, была высокая симпатичная девушка лет двадцати. Ее, пожалуй, можно было назвать красивой, но на Маргариту она уже совсем не походила. Сравнение Хионии Алексеевны вызвало на ее полном лице спокойную улыбку, но темно-серые глаза, опушенные густыми черными ресницами, смотрели из-под тонких бровей серьезно и задумчиво. Она откинула рукой пряди светло-русых гладко зачесанных волос, которые выбились у нее из-под летней соломенной шляпы, и спокойно проговорила:
– Вы находите, что я очень похожа на Маргариту?
– О! совершенная Маргарита!..
– Как же вы недавно сравнивали меня с кем-то другим?
– Ах да, это совсем другое дело: если вы наденете русский сарафан, тогда… Марья Степановна дома? Я приехала по одному очень и очень важному делу, которое, mon ange, немного касается и вас…
– Опять, вероятно, жениха подыскали?
– Что же в этом дурного, mon ange? У всякой Маргариты должен быть свой Фауст. Это уж закон природы… Только я никого не подыскивала, а жених сам явился. Как с неба упал…
– И не ушибся?
Хиония Алексеевна замахала руками, как ветряная мельница, и скрылась в ближайших дверях Она, с уверенностью своего человека в доме, миновала несколько комнат и пошла по темному узкому коридору, которым соединялись обе половины. В темноте чьи-то небольшие мягкие ладони закрыли глаза Хионии Алексеевны, и девичий звонкий голос спросил: «Угадайте кто?»
– Ах! коза, коза… – разжимая теплые полные руки, шептала Хиония Алексеевна. – Кто же, кроме тебя, будет у вас шутить? Сейчас видела Nadine… Ей, кажется, и улыбнуться-то тяжело. У нее и девичьего ничего нет на уме… Ну, здравствуй, Верочка, ma petite, chevre!.[5]5
моя маленькая козочка!.. (франц.).
[Закрыть]. Ax, молодость, молодость, все шутки на уме, смехи да пересмехи.
– Да о чем же горевать, Хиония Алексеевна? – спрашивала Верочка, звонко целуя гостью. Верочка ничего не умела делать тихо и «всех лизала», как отзывалась об ее поцелуях Надежда Васильевна.
– Ах, ma petite,[6]6
моя крошка (франц.).
[Закрыть] все еще будет: и слезки, может, будут, и сердечко защемит…
– Ну и пусть щемит: я буду тогда плакать. Мама в моленной… Вы ведь к ней?
– О да, мне ее непременно нужно видеть, – серьезно проговорила Хиония Алексеевна, поправляя смятые ленты. – Очень и очень нужно, – многозначительно прибавила она.
– Я сейчас, – проговорила Верочка, бойко повернулась на одной ножке и быстро исчезла.
«Вот этой жениха не нужно будет искать: сама найдет, – с улыбкой думала Хиония Алексеевна, провожая глазами убегавшую Верочку. – Небось не закиснет в девках, как эти принцессы, которые умеют только важничать… Еще считают себя образованными девушками, а когда пришла пора выходить замуж, – так я же им и ищи жениха. Ох, уж эти мне принцессы!»
Хиония Алексеевна прошла в небольшую угловую комнату, уставленную старинной мебелью и разными поставцами с серебряной посудой и дорогим фарфором. Китайские чашечки, японские вазы, севрский и саксонский сервизы красиво пестрели за большими стеклами. В переднем углу, в золоченом иконостасе, темнели образа старинного письма; изможденные, высохшие лица угодников, с вытянутыми в ниточку носами и губами, с глубокими морщинами на лбу и под глазами, уныло глядели из дорогих золотых окладов, осыпанных жемчугом, алмазами, изумрудами и рубинами. Неугасимая лампада слабым ровным светом теплилась перед ними. Небольшие окна были задрапированы чистенькими белыми занавесками; между горшками цветов на лакированных подоконниках стояли ведерные бутыли с наливками из княженики и рябины. Хиония Алексеевна прошла по мягкому персидскому ковру и опустилась на низенький диванчик, перед которым стоял стол красного дерева с львиными лапами вместо ножек. Совершенно особенный воздух царил в этой комнатке: пахло росным ладаном, деревянным маслом, какими-то душистыми травами и еще бог знает чем-то очень приятным, заставлявшим голову непривычного человека тихо и сладко кружиться. Темно-синие обои с букетами цветов и золотыми разводами делали в комнате приятный для глаза полумрак. Писанная масляными красками старинная картина в тяжелой золотой раме висела над самым диваном. Молодой человек и девушка в костюмах Первой французской революции сидели под развесистым деревом и нежно смотрели друг другу в глаза. Направо от диванчика была пробита в стене небольшая дверь, замаскированная коричневыми драпри. Это была спальня самой Марьи Степановны.
– Добрые вести не лежат на месте! – весело проговорила высокая, полная женщина, показываясь в дверях спальни; за ее плечом виднелось розовое бойкое лицо Верочки, украшенное на лбу смешным хохолком.
– Ах! Марья Степановна… – встрепенулась Хиония Алексеевна всеми своими бантами, вскакивая с дивана. В скобках заметим, что эти банты служили не столько для красоты, сколько для прикрытия пятен и дыр. – А я действительно с добрыми вестями к вам.
Марья Степановна была в том неопределенном возрасте, когда женщину нельзя еще назвать старухой. Для своих пятидесяти пяти лет она сохранилась поразительно, и, глядя на ее румяное свежее лицо с большими живыми темными глазами, никто бы не дал ей этих лет. Одета она была в шелковый синий сарафан старого покроя, без сборок позади и с глухими проймами на спине. Белая батистовая рубашка выбивалась из-под этих пройм красивыми буфами и облегала полную белую шею небольшой розеткой. Золотой позумент в два ряда был наложен на переднее полотнище сарафана от самого верху до подола; между позументами красиво блестели большие аметистовые пуговицы. Русые густые волосы на голове были тщательно подобраны под красивую сороку из той же материи, как и сарафан; передний край сороки был украшен широкой жемчужной повязкой. В этом костюме Марья Степановна была типом старинной русской красавицы. Медленно переступая на высоких красных каблучках, Марья Степановна подошла к своей гостье и поцеловалась с ней.
– Ты бы, Верочка, сходила в кладовую, – проговорила она, усаживаясь на диван. – Там есть в банке варенье… Да скажи по пути Досифеюшке, чтобы нам подали самоварчик.
Верочка нехотя вышла из комнаты. Ей до смерти хотелось послушать, что будет рассказывать Хиония Алексеевна. Ведь она всегда привозит с собой целую кучу рассказов и новостей, а тут еще сама сказала, что ей «очень и очень нужно видеть Марью Степановну». «Этакая мамаша!» – думала девушка, надувая и без того пухлые губки.
– Зачем вы ее выслали? – говорила Хиония Алексеевна, когда Верочка вышла.
– Молода еще; все будет знать – скоро состарится.
– Ах, Марья Степановна, какую я вам новость привезла! – торжественно заговорила Хиония Алексеевна, поднимая вылезшие брови чуть не до самой шляпы. – Вчера приехал При-ва-лов… Сергей Александрыч Привалов… Разве вы не слыхали?.. Да, приехал.
У Марьи Степановны от этого известия опустились руки, и она растерянно прошептала:
– Как же это… Где же он остановился?
– В «Золотом якоре», в номерах для приезжающих. Занял рублевый номер, – рапортовала Хиония Алексеевна. – С ним приехал человек… три чемодана… Как приехал, так и лег спать.
– Зачем же это Привалов в трактире остановился?
– Не в трактире, а в номерах для приезжающих, Марья Степановна, – поправила Хиония Алексеевна.
– Ах, матушка, по мне все равно… Не бывала я там никогда. Отчего же он в свой дом не проехал или к нам? Ведь не выгнала бы…
– Вот уж это вы напрасно, Марья Степановна!.. Разве человек образованный будет беспокоить других? Дом у Привалова, конечно, свой, да ведь в нем жильцы. К вам Привалову было ближе приехать, да ведь он понимает, что у вас дочери – невесты… Знаете, все-таки неловко молодому человеку показать себя сразу неделикатным. Я как услышала, что Привалов приехал, так сейчас же и перекрестилась: вот, думаю, господь какого жениха Nadine послал… Ей-богу! А сама плачу… Не знаю, о чем плачу, только слезы так и сыплются. И сейчас к вам…
– Да, может быть, Привалов без нас с вами женился?
– Ах, Марья Степановна!.. Уж я не стала бы напрасно вас тревожить. Нарочно пять раз посылала Матрешку, а она через буфетчика от приваловского человека всю подноготную разузнала. Только устрой, господи, на пользу!.. Уж если это не жених, так весь свет пройти надо: и молодой, и красивый, и богатый. Мил-лио-нер… Да ведь вам лучше это знать!
– Ну, миллионы-то еще надо ему самому наживать, – степенно проговорила Марья Степановна, подбирая губы оборочкой…
– Ах, помилуйте, что вы?!. Да ведь после матери досталось ему пятьсот тысяч…
– Убавьте триста-то, Хиония Алексеевна.
– Ну, что же? Ну, пусть будет двести тысяч. И это деньги.
– Да ведь он их, наверно, давно прожил там, в своем Петербурге-то.
– И нисколько не прожил… Nicolas Веревкин вместе с ним учился в университете и прямо говорит: «Привалов – самый скромный молодой человек…» Потом после отца Привалову достанется три миллиона… Да?
– Это, Хиония Алексеевна, еще старуха надвое сказала… Трудно получить эти деньги, если только они еще есть. Ведь заводы все в долгу.
– Ах, господи, господи!.. – взмолилась Хиония Алексеевна. – И что вам за охота противоречить, когда всем, решительно всем известно, что Привалов получит три миллиона. Да-с, три, три, три!..
Последняя фраза целиком долетела до маленьких розовых ушей Верочки, когда она подходила к угловой комнате с полной тарелкой вишневого варенья. Фамилия Привалова заставила ее даже вздрогнуть… Неужели это тот самый Сережа Привалов, который учился в гимназии вместе с Костей и когда-то жил у них? Один раз она еще укусила его за ухо, когда они играли в жгуты… Сердце Верочки по неизвестной причине забило тревогу, и в голове молнией мелькнула мысль: «Жених… жених для Нади!»
– Что с тобой, Верочка? – спрашивала Марья Степановна, когда дочь вошла в комнату раскрасневшаяся как пион.
– Я… я, мама, очень скоро бежала по лестнице, – отвечала Верочка, еще более краснея.
– Ах, молодость, молодость! – шептала сладким голосом Хиония Алексеевна, закатывая глаза. – Да… Вот что значит молодость: и невинна, и пуглива, и смешна Кому не было шестнадцати лет!..
Верочка в эту минуту в своем смущении, с широко раскрытыми карими глазами, с блуждающей по лицу улыбкой, с вспыхивавшими на щеках и подбородке ямочками была Действительно хороша. Русые темные волосы были зачесаны у нее так же гладко, как и у сестры, за исключением небольшого хохолка, который постоянно вставал у нее на конце пробора, где волосы выходили на лоб небольшим мысиком. Тяжелая коса трубой лежала на спине. Только светло-палевое платье немного портило девушку, придавая ей вид кисейной барышни, но яркие цвета были страстью Верочки, и она любила щегольнуть в розовом, сиреневом или голубом. «А… радуга», – говорил Виктор Васильич, брат Верочки, когда она одевалась по своему вкусу. Теперь ей только что минуло шестнадцать лет, и она все еще не могла привыкнуть к своему длинному платью, которое сводило ее с ума. Фигура у Верочки еще не сформировалась, и она по-прежнему осталась «булкой», как в шутку иногда называл ее отец.
Эта немая сцена была прервана появлением Досифеи, которая внесла в комнату небольшой томпаковый самовар, кипевший с запальчивостью глубоко оскорбленного человека. Досифея была такая же высокая и красивая женщина, как сама Марья Степановна, только черты ее правильного лица носили более грубый отпечаток, как у всех глухонемых. Косоклинный кубовый сарафан облегал ее могучие формы; на голове была девичья повязка, какие носят старообрядки. Длинный белый передник был подвязан под самые мышки. Марья Степановна сделала ей несколько знаков рукой; Досифея с изумлением посмотрела кругом, потом стремительно выбежала из комнаты и через минуту была на террасе, где Надежда Васильевна читала книгу. Глухонемая бросилась к девушке и принялась ее душить в своих могучих объятиях, покрывая безумными поцелуями и слезами ее лицо, шею, руки.
– Что это с тобой? – удивилась Надежда Васильевна, когда пароксизм миновал.
– Ммм… ааа… – мычала Досифея, делая знаки руками и головой.
– Вот еще где наказание-то, – вслух подумала Надежда Васильевна, – да эта Хина кого угодно сведет с ума!
Девушка знаками объяснила глухонемой, что над ней пошутили и что никакого жениха нет и не будет. Досифея недоверчиво покачала головой и объяснила знаками, что это ей сказала «сама», то есть Марья Степановна.