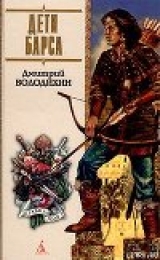
Текст книги "Дети Барса"
Автор книги: Дмитрий Володихин
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Да ведь иначе Царство не стоит!
– Не знаю. Не знаю... Мне... я не знаю. Я хочу, чтобы все они меня любили. Чтобы были счастливы. Чтобы никому не было тяжело, плохо. К чему выжимать из них все соки?
«Эх, матушка» матушка! Неужели трудно было простить отцу, что он мечется по границам с войском и дома его вечно нет?» – Рано было еще царевичу понимать, как спорят друг с другом мужчина и женщина, вкладывая каждый свою правду в головы детей.
– Соки выжимать не надо. Но любой, когда понадобится, должен дать тебе столько, сколько велит закон. И служить так, как велит закон.
– Да любишь ли ты всех их, Балле? Бабаллонцев. Весь народ земли Алларуад? Ты их – любишь?
– Да, Они – то же, что и я.
– Я не понимаю, Ты, наверное, прав. И она права, конечно. Нельзя править, не любя своих людей. Но как любить – и принуждать? Вы все правы, а мне от этого худо.
– Алле! Ты так и войску не сможешь приказать, если понадобится: вот враг, идите на него!
– Нет. Все-таки смогу.
Губы у него тряслись. Слава Творцу, братья подъехали к стене Старого города. Жилые кварталы остались позади, и некому было видеть волнение молодого государя.
Еще Уггал-Банад I возвел эту стену. Тогда, девять сотен солнечных кругов назад, казалось: город никогда не выйдет за ее пределы. Не может быть такого большого города! Ан нет, теперь новые стены ограждают раз в десять или в двадцать раз больше, чем прежние. А в Старом городе давным-давно пустырь, и лишь редкие домики для караульных солдат рассыпаны тут и там. После того как был построен внешний пояс стен, здешние кварталы понемногу переселили и снесли. Теперь до самой стены Цитадели, Внутреннего города, – поле, голое, как стол. Если какой-нибудь неприятель, от чего упаси Творец, преодолеет два прочных и высоких барьера, выстроенных из лучшего кирпича, на этом поле ему негде будет прятаться от стрел и метательных снарядов из Цитадели.
Головные отряды миновали ворота Старого города. Солдатские сандалии, копыта лошадей и онагров ударили в неровные серые плиты. Кан II Хитрец успел вымостить привозным горным камнем только эту дорогу. Очень дорого. Очень красиво. Ногам, непривычным к такой дороге, очень неудобно.
Победители дошли по пустырю до Цитадели. Воротная башня с давних пор была украшена изображением льва, хищной молнией распластавшегося в прыжке; золотые пластины вмурованы прямо в стену.
У самых ворот – первосвященник Сан Лагэн в окружении слуг. Он опередил армию на несколько дней. Дряхлый белобородый старик, все выцвело в нем, только глаза необычного, пронзительно-желтого цвета, смотрят остро и внимательно. Стоит простоволосый. Как и все те, кто встал полукругом на шаг позади него. Сан Лагэн пел благодарение Творцу за всех, кто остался жив и вернулся домой. Он начал петь, едва завидев царственных братьев и передовой отряд. Старик. Дрожащий голос его скоро иссяк, и тогда благодарение затянули все прочие. Как видно, Сан Лагэн заранее приказал свите петь с ним по очереди: он один – все остальные, он один – все остальные... Подъехав к Лагэну, Апасуд и Бал-Гаммаст спешились и разом опустились на колено. Первосвященник благословил обоих, потом погладил Апасуда по голове как маленького ребенка, а его брату положил руку на плечо.
– Аппе... ничего не бойся. Творец не оставит нас без помощи, все будет хорошо... Голос его, ровный и высокий, напоминал теплый ветер, какой бывает после истощения дождливых лун: в первые дни месяцев суши с утра пасмурно и холодно, даже очень холодно, а к полудню развиднеется, припечет ласковое дуновение, покроет лицо сухими ласковыми поцелуями...
Царевичу Саи Лагэн сжал плечо несильными старческими пальцами. Бал-Гаммаст еще в детстве научился понимать значение этого жеста. Ты должен быть тверд, мальчик, говорил ему первосвященник.
– Сразу после заката жду в храме вас обоих. Старик шагнул вперед и оставил их за спиной. Младшие офицеры поворачивали армию в двадцати тростниках от стены Цитадели. Отряд за отрядом описывали широкую петлю, отправляясь к другим воротам, чтобы покинуть Старый город. Сан Лагэн благословлял солдат и улыбался им. Потом он велит принять в храмовые приюты одиноких калек, вылечить в храмовых больницах раненых, наградить всех, кого должно, серебром, тканями, вином... Храм всегда поровну делил это бремя с Дворцом. Но повеления начнут срываться с уст Лагэна не ранее завтрашнего утра. Потом. Потом. Все потом. А сегодня он мог только петь, улыбаться и благословлять...
Наверху, меж двух зубцов толстостенной воротной башни, стояла Та, что во Дворце. Ее плечи и грудь покрывал дорогой платок из Элама. Ветра почта не чувствовалось, и лишь ничтожный сквознячок едва-едва пошевеливал углы платка. Лица государыни снизу было не разглядеть. Вся ее фигура в лучах жестокого полуденного солнца выглядела литым черным силуэтом, а легчайшее движение ткани придавало сходство с огромной птицей, которая уселась на стене и лениво чистит перья.
Апасуд произнес:
– Матушка горюет об отце.
Это был тот миг, когда Бал-Гаммаст восхитился милосердием брата. Сам он ощущал в себе немножечко тоски по матери – ровно столько, сколько приличествует испытывать юноше, который вернулся только что из похода, а там занимался настоящим делом; еще он чувствовал досаду: ей стоило бы тоже спуститься вниз и встать рядом с Лагэном. С такого расстояния трудно различить лица воинов и невозможно заглянуть им в глаза. А солдат надо любить. Особенно этих. Братец сумел понять, простить и оправдать ее. У Бал-Гаммаста не получалось...
Победители вглядывались в силуэт царицы Лиллу. У всех было времени на три-четыре удара сердца, чтобы взглянуть на черное пятно. Каждый надеялся увидеть нечто особенное, необыкновенное – Творец знает почему. Царица издалека... странная почесть, а все-таки должен сыскаться и в ней какой-нибудь смысл.
Апасуд, похлопав кобылу по боку, повел ее к воротам.
В этот миг у Бал-Гаммаста перехватило дыхание. Что-то не так... Как трудно дышать! Как будто гроза собралась обрушиться на них и ждет сигнала... Что-то не так. Само место, где они стояли, дохнуло на царевича вызывающе наглой неправильностью.
– Подожди! – Он схватил брата за руку. Апасуд удивился:
– Что? Что такое? – И царевич не знал, как ему ответить. Он чувствовал, как трещит и едва ли не переламывается какая-то тонкая дощечка, а ей не надо бы ломаться. Ей совсем нельзя ломаться.
– Давай... постоим здесь. Давай постоим, Аппе. Тот молча сжал пальцы Бал-Гаммаста, кивнул, мол, – давай, и встал рядом. Оба не знали, что это, и оба знали, как это бывает. Обоим кровь нашептывала время от времени: «Вот так будет правильно...»
Они стояли среди слуг первосвященника, смотрели на его спину и на бесконечные ряды солдат, все искавших гладами смысл где-то наверху, на башне. Цветные значки отрядов приближались, описывали полукруг и уходили дальше, дальше... Армия видела перед собой темную птицу, Лагэна с улыбкой на лице, его поющих слуг и царственных братьев, уважительно приветствовавших победителей. Все – как надо. И Творец с ним, с тайным смыслом царицыной почести, если все – как надо. Солдаты шли и шли; взгляд армии понемногу перемещался книзу. Никто уже не вспоминал, что Апасуд и Бал-Гаммаст были в походе, а младший даже и нашпиговал кого-то бронзой, говорят... Эти двое – как будто оставались здесь, в самом сердце Царства, а теперь вышли, чтобы встретить победителей и постоять от них в одном всего десятке шагов, без охраны; всякий поймет, для чего они тут. Показывают: вот, мол, видим вас, труд ваших мечей драгоценен, с вами земле Алларуад некого бояться... Ну и баба какая-то наверху, то ли птица... то ли еще что... не разберешь. Все – как надо.
Бал-Гаммаст смотрел на Лагэна. Старик стоял прямо, и подбородок его был гордо приподнят. «Да, все вышло правильно... Все правильно. Нам не следовало уходить от него. Отец бы не ушел. Отец точно не ушел бы, чем угодно клянусь! Нам надо стоять рядом с ним». Недомогание оставило царевича. Гроза, так и не разразившись, ушла. Рассеялась.
Воины Баб-Аллона текли нескончаемым потоком. Отряд Асага осаждал Барсиппу, Лан Упрямец и Рат Дуган носились по всему полдневному краю Царства, занимаясь великим очищением, Уггал-Банад стоял под Уруком. И все-таки их было очень много – воинов, вернувшихся домой. Копейщики и лучники, всадники и пешцы, офицеры и солдаты совершали медленный поворот, оказывая своим присутствием почесть Дворцу. А потом уходили.
Все, кроме пехоты ночи. Ибо здесь был дом черных. Эти прошли внутрь, и за ними потянулся обоз. На последней повозке в ворота Внутреннего города въехал Уггал Карн. Бледный, с ввалившимися глазами, весь в повязках. С утра он дважды пытался сесть на коня или хотя бы на онагра, но не смог. Потом произнес: «Ну, хватит. Эта война – не первая и не последняя». На повозку забрался сам и сейчас же принялся рассылать бегунов с поручениями. Посмотрел на Бал-Гаммаста, стоявшего тут же, поодаль. Усмехнулся. «Не веришь, – спросил эбих, – что такой мешок с дерьмом еще может командовать?» Царевич не знал, как ответить ему, и сделал лишь нейтральное движение бровью, мол, а ты сам-то знаешь? Уггал Карн сказал: «Если ты умеешь это делать здоровым, то сумеешь и полудохлым. Некоторые повелевают, даже с той стороны. Видишь, твоего отца мы до сих пор слушаемся...» Царевич не обиделся. Эбиху черных позволительно и большее. Намного большее.
Братья зашли в Цитадель, следуя за повозкой полководца.
Во внутреннем дворе деловито сновала челядь. Склады, мастерские, конюшни, домики для слуг... Сверху по узкой каменной лестнице медленно спускалась мать. На ней не было украшений. И драгоценный эламский платок на ее плечах, и длинные юбки были серыми, ибо таков цвет траура в Баб-Аллоне. Иначе, наверное, и быть не могло: здесь так любят яркие цвета...
Сбоку от нее с той же степенной неторопливостью шествовала вниз серая Аннакят – любимая кошка царицы. Кто у кого перенял походку? Аннакят изнывала под панцирем собственной шерсти, глаза ее были томно прикрыты до половины.
Царица Лиллу неотрывно смотрела на Апасуда. Так получилось, что он был в безраздельном ее владении семь солнечных кругов, в ту пору детства, когда душа впитывает все самое важное, чтобы из этого впоследствии соткать первые узоры на полотне мэ. Царь Донат воевал тогда на полночной границе, война выдалась тяжкой и кровавой. В столицу он наведывался ненадолго, сына видел мало, а потом... Потом ему оставалось признать: Апасуд – собственность матери, и тут ничего не изменишь. Должно быть, государь счел это ошибкой, а повторять ошибки было не в его характере. Так что второго сына вела по жизни его рука и держала прочно, не отпуская понапрасну ни на один день. Бал-Гаммасту и походов досталось больше, чем брату, и воинской науки, и отцовых поучений и... всего, чем мог и чем успел с ним поделиться царь-полководец, то и дело латавший прорехи в границах великого Царства. Та, что во дворце, и Тот, что во дворце, боролись за сыновей со всею силой и ловкостью, какая только возможна, когда мать и отец любят друг друга. Царевич помнил, как спорили, бывало, его родители: «Лиллу! Тот даже не нюхал походной пыли. Этот обязан знать, что такое быть воином... – Нет, Донат. Важнее быть человеком. Настоящим человеком, я имею в виду, то есть умным, милосердным, образованным и... – ...И сидеть во дворце у мамкиной юбки! И ничего не знать, кроме дворца! – Стать воякой – невелик труд. Успеет. – Лиллу, подумай о том, что им придется когда-нибудь меня заменить. Во всяком случае, одному из них. А второй должен быть ему верным помощником. И что же? Оба не умеют простых вещей... – Зато они знают толк в сложных вещах, Донат. – Нет, Лиллу. Этому я дам другую мэ...»
Так вот, мать, конечно же, смотрела на Апасуда. Спустилась, подошла и... обоих прижала к груди.
– Живы... Слава Творцу, хоть вы-то у меня живы... Мои мальчики...
– Мру-ук... – потянулась Аннакят.
* * *
Вечером, после службы в храме, Сан Лагэн принял их там для доверительной беседы. Так же, как принимал обоих братьев с самого раннего детства. Обычно вместе с ними там бывала и Аннитум, но она день назад вывихнула ногу, а потому не вышла из своих покоев ни на стену – встречать армию, – ни в храм.
Бал-Гаммаст не ведал, о чем разговаривал с первосвященником старший брат, на какие беды жаловался, что в своей жизни счел неправильным и грешным. Апасуд тоже не узнал, о чем беседовали Сан Лагэн и царевич. Доверительная беседа – величайшая тайна. Сам Бал-Гаммаст, хоть и не чувствовал особенной горечи, рассказал о двух убитых им мятежниках. Первосвященник ответил, что это не столь уж страшно, ведь шло сражение. Царевич получил от него священный долг в пятьсот утренних молитв с земными поклонами. «Проси Его, чтобы простил, и Он простит, как все любящие...» – заключил Сан Лагэн. Бал-Гаммаст хотел было уйти, но первосвященник остановил царевича»
– Балле, твой старший брат вскоре взойдет на престол баб-аллонский. Готов ли ты быть щитом и копьем в его руках?
– Да, отец мой первосвященник. Напрасно ты спрашиваешь. Тут не о чем говорить.
– В твоем сердце не должно быть ни зависти, ни гнева, ни укора...
– Да ты же меня всю жизнь знаешь!
Сан Лагэн смущенно потер пальцем переносицу, И ведь действительно – знает. Как-то нехорошо получилось.
– Прости меня, Балле, мальчик! Я очень беспокоюсь за вас обоих.
– Ну... ты тоже извини, отец мой... Просто я... все и так, кажется, понятно...
– Старый я становлюсь, – произнес Сан Лагэн и пошевелил гармошкой морщин на лбу то ли удивленно, то ли с огорчением. – Ладно, ступай.
...Старший брат, оказывается, ждал его. Апасуд схватил царевича за локоть:
– Послушай! Послушай! – Глаза Апасуда блеснули в храмовой сумраке сумасшедшинкой. Как у загнанного зверя. На миг Бал-Гаммаст растерялся: да что за глупости сегодня творятся, Господи?
– Балле... я боюсь... царствовать. Я никогда не хотел царствовать.
– Я знаю.
– Как?! Я держал это в самых глубоких тайниках своей души... Я никому... даже матушке... Я решил открыться только тебе...
– Аппе! Об этом знают и мать, и все отцовы эбихи, и первосвященник, и еще много кто.
– И все-таки – как?
– Да это сразу видно, стоит только поговорить с тобой, посмотреть на тебя: как ты ходишь, как с людьми себя ведешь. Это видно, братец. Так же легко, как отличить добычливых рыбаков от тех, кто вернулся без улова. Тут и объяснять ничего не надо.
Безо всякого перехода медный жар тревоги на лице невенчанного государя отлился в твердь покоя. Как если бы иссиня-черная дождевая туча разом вся, от грозных глубин до клубящейся поверхности, превратилась в легчайший утренний туман. Творец... Наверное, Творец так умеет: провести рукой сверху вниз, и все, что под рукой, – тяжелая мгла, в то время как все над нею – ласковая дымка; дымки становится больше, больше, больше, а когда движение завершено и пальцы прикоснулись к бедру, уже и нет ничего, кроме дымки, все прочее исчезло. Ровно то же произошло и с лицом Апасуда.
– Так мне будет легче говорить с тобой, Балле... Ну что ж, знают и знают. Я теперь весь на виду. Все рассматривают. Это даже хорошо. Теперь я с радостью все расскажу, а сначала так боялся, милый мой Балле.
– Ты не можешь отказаться, Апасуд. Вот и весь разговор.
– Послушай... Тебе не стоит торопиться. Я... всем как будто чужой. Я не такой, как все, Балле. Я как иноземец, нашедший ночлег в бит убари у какой-нибудь дальней, давно меня забывшей родни. Мать любит меня, но она точно так же любит и свои драгоценности. Ты... ты мне как товарищ, но ты иногда очень груб и тороплив. Ты... почти никогда не понимал меня до самого конца. Вот сейчас, хотя бы сейчас постарайся, потому что, если ты не пожелаешь понять, никто другой просто не сможет, Балле.
Бал-Гаммаст потрясение молчал. Он едва сумел выдавить:
– Да, Апасуд.
– Это хорошо, очень хорошо, мой любимый брат. Ты совсем как взрослый человек – хочешь выслушать и берешься отвечать за все, что произойдет, когда ты выслушаешь и поймешь меня...
«Как он сложно говорит. Уж очень сложно. Тут вроде бы и думать не о чем...
– Балле! Я больше всего на свете люблю три вещи. Во-первых, бывать здесь, вдыхать запах благовоний, которые курятся под храмовой крышей, радоваться чистой прохладе и полумраку, любоваться солнечными зайчиками, запрыгнувшими на пол из окон, внимать стройному пению... И молиться Ему, молиться с нежностью и любовью, Балле. Потому что Его я люблю намного больше, чем кого-либо из людей...
– Да мы все Его любим. А Он – нас. Что тут такого...
– Не перебивай меня, Балле! Я люблю Его, как должно быть, любят женщин и как я не любил ни одну из них, Ты не знаешь, какое счастье представлять себе, что Он где-то рядом, совсем близко, может быть, за колонной, вон там... разговаривать с Ним... задавать Ему вопросы и за Него же придумывать ответы, какие мог бы от имени Его дать мне первосвященник... Иногда я целыми днями беседую с Ним. Кажется, порой я все-таки слышу Его настоящий голос, но... не головой, что это не игра моего воображения. Мне так хотелось бы остаться в Храме на всю жизнь! Здесь так чисто! Нигде не видел места чище...
– Аппе...
– Прошу тебя, заклинаю тебя всем святым, не перебивай меня. Я, должно быть, длинно говорю. Но этого в двух словах не выскажешь, Балле. Второе, что я люблю, – это выбраться вечером перед каким-нибудь праздником из дворца и уйти на берег Еввав-Рата. Особенно в безлунную и безветренную ночь. И не в паводок, конечно, ибо ярость великой реки сильна, а я не желаю ничего яростного, сильного, ничего грозного... Мой брат! Я слушаю, притаившись в кустах, как мастера тростниковой флейты болтают у самого берега под пальмами и испытывают собственное искусство. Это так красиво! Назавтра все это будет звучать приглаженно, приятно и... не знаю, с чем сравнить... словно женщина привела в порядок одежду. Но тут они извлекают из своих дудочек воистину божественные звуки. Ты только представь себе, Балле: темнейшая темнота, тишь, только река шепчет свои смешные рассказики да во дворце немножечко пошумливают... и... тончайший звук – тончайший. Это так невозможно у нас, здесь! Мне иногда кажется, только в чертогах у Творца такое имеет право на жизнь...
Апасуд кусал губы, борясь со слезами. Ему хотелось выдержать и не заплакать, он еще сказал далеко не все. Царевич молчал, подчинившись воле царственного брата.
– И еще, в-третьих, Балле, я люблю взять в руку какой-нибудь плод и рассматривать его, рассматривать долго, со всех сторон, не упуская ни одной трещинки в кожуре, ни одного пятнышка, ни одного бугорка. Знаешь ли, на поверхности смоквы я научился различать двадцать восемь оттенков! Как совершенно все то, что создал Господь! Нет ничего лучше и прекраснее его творений. Балле, Балле! Разве весь этот дворец краше одного-единственного ячменного колоса? Мой брат!
Тут он обнял Бал-Гаммаста и все-таки заплакал. Этого не случалось уже с полтора солнечных круга... Царевич шепнул Апасуду на ухо одну короткую фразу, которая как раз и нужна была в подобных случаях:
– Я жалею тебя, Аппе.
Брат взглянул ему в глаза и просиял:
– Кажется, ты все-таки поймешь меня.
– Я стараюсь, Аппе.
– Где ты видел других людей, похожих на меня? Я не похож на других, и это очень плохо для царя. Я предпочитаю целый день провести, вдумываясь в прелести древнего гимна «Анкимт», сочиненного неизвестным умельцем в эпоху царицы Гарад... а не разбираться в варварских спорах энси казначейства с доверенными гурушами какого-нибудь лугаля сиппарского, входят у них там полночные пригороды в зону кидинну или не входят... Мне это неинтересно, не нужно, неприятно, в конце концов!
– Не горюй, Аппе. Ты ведь не один. Я с тобой, мама, советники, а их еще отец подбирал... – Бал-Гаммаст теперь не понимал, что ему делать и какие слова говорить. Выходило так: мало будет успокоить брата, видно, и впрямь нечто должно измениться... Апасуд был выше его почти на локоть. Тем не менее царевич протянул руку и погладил его по голове совершенно так же, как это сделал первосвященник у ворот Цитадели.
– Пустые слова, Балле! Моему сердцу тяжелее, чем если, бы на него взвалили десять ослиных нош. Я... боюсь этих людей. Советников отца, я, например, боюсь. А в походе я боялся всех, кроме батюшки и тебя, мой брат. Я опасался подойти и заговорить, а еще того больше я пугался, когда кто-нибудь подходил, чтобы заговорить со мной. Все эти солдаты, советники, чиновники! Да они так грубы! Они очень, очень грубы! Кое-кто из них понимает, в чем состоит правда и справедливость, хотя, наверное, не многие... Но никто ни разу в жизни не дал себе труда задуматься, в чем состоит вежливость, тонкость... Балле... я часто думаю о нашей жизни: почему один взрослый человек никак не возьмет в толк, что ему надо бы оставить в покое другого взрослого человека и не дергать его по мелочам? Балле! Балле! Какое у тебя сейчас лицо! Чего ты больше боишься – меня или за меня?
– И тебя... и за тебя тоже. Ты... ты... тебе ведь придется править до самого конца жизни, пока мэ не наполнится до краев... Мне жаль тебя. Творец свидетель, тут нет ничего плохого, просто... как же ты будешь мучиться!
Апасуд вновь обнял его.
– Ты понял меня! Как я рад. Та все-таки понял меня. Знаешь, я так рад, что сумел все это высказать тебе, мой брат! Мой любимый, умный, славный брат. Хочешь, скажу, какая у меня самая большая мечта? Хочешь?
– Скажи, Аппе.
– Вот если бы однажды Творец спустился на нашу землю и ходил между людей, облаченный в простые одежды. Как какой-нибудь рыбак или плотник... Конечно, я бы узнал Его. Не мог бы не узнать! Он отыскал бы меня, взял за руку и увел отсюда. Мне неуютно здесь, Балле, совсем неуютно. Он отвел бы меня в страну, которая мягче нашей...
В этот миг Бал-Гаммаст чуть было не перебил брата, едва-едва удержался. Начни он спорить – упрямству Апасуда не было бы конца. Спорить с ним бесполезно, это знают все, и даже матушка, власть которой над братом почти безгранична, – и та не станет оспаривать его мнение. Апасуд либо примет тебя сразу, либо, может быть, примет потом, умом или душой привязавшись к тому, что ты ему сказал, но только сам; и никогда не подчинится, возжелай кто-нибудь громогласно его вразумлять... обманчива мягкость нового царя баб-аллонского. Он мягок с теми, кто мягок с ним, Бал-Гаммасту захотелось рассказать брату, как он сам любит свою землю, великую и веселую земляную чашу Алларуад, рай земной, где золотой ячмень обилен, женщины ласковы, хоть и насмешливы, мужчины трудолюбивы и отважны, чистая вода течет по искусно устроенным каналам, а гнилые болота остались только в самых глухих местах; где города гостеприимны для мирных путников и неприступны для врагов; где дороги давным-давно очищены от разбойников и странствующий добрый человек может встретить ночную пору на пути между двумя селениями, не опасаясь ничего, кроме непогоды и диких зверей... Славная и богатая земля Алларуад! Базары твоих городов пахнут пряностями и благовониями, искусные мастера выведут любой, самый сложный узор по ткани и по металлу, глубокие реки твои, спокойно катят волны к морю, сады твои цветут ярче солнца и плодоносят щедрей осеннего дождя воистину вечное лето в твоих пределах! Как можно – не любить тебя? Бал-Гаммаст иной раз, отправляясь куда-нибудь с отцом, испытывал желание целовать сам воздух над дорогой... Заговори царевич обо всем этом со старшим братом, и придется ему припомнить сон, с детства посещающий его хотя бы два или три раза на протяжении солнечного круга: бородатый солдат в пылающем шлеме, с мечом и луком, обнимает ослепительную красавицу – высокую, тоненькую, как птичий голос, с распущенными черными волосами до колен... они стоят в поле, под ноги им постелены травы и луговые цветы в самую пору звенящего роскошества соцветий. Сон о солдате и красавице стал являться Бал-Гаммасту в тот месяц, когда отец только-только принялся объяснять ему, что такое Царство, кого можно отыскать на его просторах, с кем за него следует драться и как им управлять.
Разумеется, ничего не ответил царевич брату. Неподходящий был вечер, чтобы объясняться в любви к собственной стране. Следовало действовать... но как?
– Балле! Мне тяжело и не хочется править. И еще. По нашим законам я не могу быть царем более двух солнечных кругов, если со мною рядом нет Той, что во дворце... А для меня такое соседство, брат мой, совершенно несносно. Творец свидетель, я не лгу. Не подумай...
– Не подумаю, Аппе. Я же знаю тебя. Мальчики тебе ни к чему.
– Ни мальчики, ни девочки, Балле. Никто. Мое одиночество мне нужнее. По правде говоря, я не знаю ничего более ценного, чем одиночество...
– Ты не намного старше меня, братец. А я еще ни разу не притрагивался к женщине...
– Мне говорили...
– Говорили – и хорошо. Мне нравится. Пусть так говорят. Ты только одно учти: пройдет солнечный круг-другой, и все в тебе переменится.
– Нет! В тебе говорит мальчишка! Неужели не видишь! Это — мне нужно чем дальше, тем меньше.
Оба замолчали.
Бал-Гаммаст утомленно опустился на пол. Поесть, как следует, он сегодня успел, но отоспаться не получилось. Апасуд взволнованно расхаживал между колоннами, не глядя на брата. Царевич почувствовал необыкновенную усталость. Словно не он, а отец разговаривает с Апасудом., и надо бы решиться на что-то, но отцовство одно, а Царство – другое, и повредить нельзя ни тому ни другому. Бал-Гаммаст еще ничего не решил и даже не почувствовал, что именно придется ему решать, куда повернуть дело и как закончить странную беседу с братом, но странная тяжесть уже пала ему на плечи каким-то неясным предсказанием.
– Хорошо. Чего ж ты хочешь, Апасуд?
Оба взглянули друг на друга с изумлением: фраза прозвучала точь-в-точь, как если бы ее произнес Донат, а не Бал-Гаммаст.
– Я? Я... Я желаю отдать тебе Царство. А свою мэ отдам Храму. Никому не зазорно быть слугой у первосвященника.
– Сан Лагэн не примет тебя.
– Этого мы не знаем оба, ведь так, Балле?
И точно. Решения первосвященника никто и никогда не брался предугадывать. Сколько в них от решений самого Творца? Наверное, много, если не все. Что ж, гадать о воле Творца? Совсем нестоящее дело. Тут Апасуд был прав.
– И все-таки ты не уверен, Аппе, что он примет тебя.
Старший брат уныло вздохнул:
– Да. Это так. Но если не примет, я смогу просто жить во дворце, как и раньше. Разве плохо быть братом царя?
– Ты желаешь отсутствия мэ для себя, Аппе?
– Я кое-что умею, Я пригожусь тебе и Царству. – Он печально улыбнулся. – Хочешь, я буду бледной, почти прозрачной птицей, сяду к тебе на плечо и стану услаждать твой слух негромкими песнями... А если ты утомишься мною, надеюсь, мне найдется местечко на плече у матушки или Аннитум...
Бал-Гаммаст не ответил. Он размышлял о вещах, бесконечно далеких от птичьего пения. Царство, доставшееся Апасуду от отца, только что миновало великую смуту. Лишь пять дней назад лугаля кишского, поставленного мятежниками, выбили из города, эбихи гонялись за шайками иноземцев или стояли у крепких стен старых городов... Как там еще пойдет дело у щеголеватого Асага, тяжеловесного Упрямца и страшного Дугана? Нового эбиха Уггал-Банада он почти не видел, но его мэ тоже задело краешком сознания царевича: как там сложится под Уруком у этого? Нет, в такую пору царский дом не должен колебаться. Будь сейчас мир, будь тишь над землей Алларуад, он, наверное, согласился бы. Мэ государя чуть-чуть пугала и манила его одновременно. Бал-Гаммаст чувствовал в ней что-то бесконечно родное, как будто ему возвращали его же собственную вещь, взятую без спроса. Но...
– Ты должен быть венчан, Апасуд. Я не приму Царство из твоих рук.
– Но почему? Ты ведь лучше меня приспособлен к правлению, хотя и юн... Все так говорят...
– Значит, уже начались разговоры?
– Разговоры! Да разве я сам не вижу? Сначала тебе помогут те же самые советники, а потом из тебя, Балле, выйдет...
– Нет. Ничего из меня не выйдет, Аппе. Просто я не буду царем вместо тебя. И разговаривать нечего.
– Но как... почему... ты... ты разве не понял меня?! Что я такое.
– Да не в том дело! Кто из нас моложе, Аппе? Кто первым выбрался из мамы Лиллу? Ты говоришь так, будто из нас двоих старше я. Подумай не о себе. Война кругом. Нам повезло, но война еще не кончилась, нам нужна твердость. Царство должно перейти из рук в руки тихо, правильно, как исстари водилось. Если оно перейдет ко мне, многие подумают: вот, вышло мимо закона, все досталось мальчишке, а первенца лишили наследства. Ты рискнешь поручиться, что не начнется кутерьма, что не будет новых мятежей против меня – самозванца?
– Ты говоришь как отец! Какая чушь! Все – чушь. Зачем ты не хочешь мне помочь? Я же знаю, я же чувствую, я вижу, я... я... да я всем, чем только можно, чую: у тебя, дурака, мэ царя! А ты... а ты... Дурак! Дурак! Упрямый онагр! Доска! Бесчувственная доска! И это ты – мой брат... Доска! Доска... Апасуд зарыдал.
– Аппе...
Старший брат заговорил сквозь слезы, раскачиваясь из стороны в сторону и не отнимая ладоней от лица:
– Ты... ты... разве ты не почувствовал ночью, там... у отцова шатра... ночью... после сражения... разве... ты не почувствовал... время переломилось... грядет зябкое время, и мне ни за что не удержать... не сохранить...
Выходит, и Апасуда опалило морозом. Выходит, и он узнал зной холода.
Наконец Апасуд опустил руки.
– Ты не осознал до конца, Балле... Ты обязательно будешь царем, потому что... потому что, брат, за два солнечных круга я не найду для себя Той, что во дворце... а заставить меня жениться никто не волен. Тогда ты будешь царем по закону... тебе не миновать...
– Да ты все продумал... Хитрый, как мытарь в базарный день!
– Зачем ты так, Аппе... Пожалей меня. За два круга солнца я... я просто убью себя. Моя душа заболеет... И Царству не будет лучше.
«Уступить ему, – думал царевич, – и смута запросто усилится. Я ведь читал. При Донате I так было. И еще раньше, при царице Гарад тоже так было. Нет, это нехорошо, очень нехорошо... А если не уступить? Как тогда? Певчая птица на престоле... прости, Творец, я не должен так думать о родном брате. Царь, которому не ужно Царство. Не нужна жена, не нужны дети. Дела и к чему. Да что за царь такой! Его никто не будет любить. Это плохо кончится. Так тоже было – при Кане IV Молодом. Такой же безбрачник попался... Легко говорить: „Никогда не выбирайте между плохим и плохим..." А если не предлагают ничего хорошего, тогда – как? Господи, ты посоветуй мне что-нибудь...»
Тогда, в храме, сидя на холодном каменном полу, Бал-Гаммаст первый раз в жизни пожалел, что он не старше, что ему всего-навсего четырнадцать солнечных кругов, что на него свалились вещи, которые отцу достались за двадцать вторым солнечным кругом, а деду – за сороковым... Заводить такие речи и искать ответа на такие вопросы должен бы человек постарше, да-да, постарше! Как бы не вышло ерунды... он ведь совсем не постарше, он – то, что он есть.








