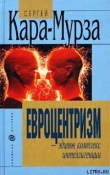Текст книги "Эдипов комплекс"
Автор книги: Дмитрий Липскеров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Липскеров Дмитрий
Эдипов комплекс
Дмитрий Липскеров
Эдипов комплекс
Милой В. Г.
Гуппи. Она плывет. Ее хвост, словно разводы бензина в воде. Крохотное тельце отдается водному течению, уклоняясь то вправо, то влево. Рыбке приятны слабые потоки. Она доверчива, легка и изящна. Слишком красивая и очень маленькая для широкой реки с жаркими водами. Наверное, она глупа, и почти бездарна ее жизнь.
Она скоро родит. Ее живородящее пузико набухло и тянет ко дну. Ротик в постоянном движении, как будто рыбка жует маленькую жвачку. За ней тянется черная веревочка, тоненькая, а где-то потолще. Гуппи дергается, пытаясь освободиться, но веревочка становится все длиннее, извивается змейкой, больше и больше мешая рыбке плыть, отчего та начинает злиться. Либо от веревочки освобождаться, либо рожать!.. Сквозь прозрачную пленочку животика видны маленькие глазки и хвосты. Надо роженице напрячься и прибавить корма для рыб телом побольше. Конечно, не все новорожденные им станут, но часть, искалеченная во время родов, все же будет проглочена и переродится в веревочки...
Если посмотреть на реку сверху, то окажется, что таких готовых родить рыбок плывет великое множество. Непосвященный решит, что в воду слили большое количество бензина. Тысячи, десятки тысяч гуппи, экзотических рыбок, готовы в слаженном порыве родить. Еще сотни тысяч таких же, как они, готовы в своей глупости заполнять круглые, квадратные аквариумы, подыхать несметными партиями от неумелости рыбоводов-любителей, рожать в ограниченном пространстве, так же, как и в безбрежных просторах. И все они выделяют веревочки, ложащиеся на дно стеклянных водоемов черными паутинками, замутняющими воду...
Когда мне было два с половиной года, моя мать пережила тяжелейшее потрясение.
Как-то лежа в своей кровати и искусно делая вид, что сплю, я с удовольствием наблюдал, как родительница наказывает мою старшую сестру за то, что та в свои неполные четыре года, не удержавшись от фантастических сновидений, пустила под утро кратковременную струю и замочила не только свою половину тахты, но и затронула неприкосновенную материнскую. Мать от души нахлопала ее по мокрому заду.
Уж не знаю, что приснилось сестричке. Может, огромный леденцовый петух, а может, и обнаженный Федор Михалыч, плетущийся из ванной в свою комнату. Надо сказать, что он не на шутку пугал своим синюшным животом маленькую девочку, жадно глазеющую на соседа. В общем, не буду гадать – от счастья или от ужаса не выдержал мочевой пузырь ребенка, но наказание последовало незамедлительно... Когда всхлипывания сестры почти прекратились и я, насладившись зрелищем, сладко зевал, дверь в комнату открылась, и вошли двое. Оба были молоды, интеллигентны на вид. У одного даже были тоненькие усики, закрученные кверху, и краешек платочка торчал из пиджачного кармашка. Другой был попроще. Он и начал свою речь, несколько стесняясь моей оторопевшей матери. Она была одета в несвежую ночную рубашку с дурацкими рюшечками на плечах, а правая подмышка изрядно запотела.
– Вы извините нас, – сказал который попроще. – Мы вторглись в вашу квартиру... У нас и ключи от нее есть. – Он достал из кармана точно такой же ключ, как и наш.
У нас дом дореволюционный, и замок сохранился с тех незапамятных времен, так что удивительно было видеть копию ключа. Сколько мать ни обращалась в металлоремонт, ей всегда говорили, что такие болванки кончились еще до празднования шестидесятилетия Сталина.
А тот, у которого усики кверху закручены, достал из кармана пистолет. У нас такого никогда не было.
– Вам предоставляется на выбор две возможности, – продолжил тот, который попроще, и зажал ключ в руке наподобие пистолета. – Либо мы дочь вашу убиваем, либо сына. Есть несколько минут подумать.
– Альтернативы нет, – добавил усатый и протер пистолет платочком от пиджака. – Себя в жертву не предлагайте. Не примем. Деньги нам не нужны... А тело ваше нас не прельщает! – скороговоркой произнес он, глядя на мать, откинувшую одеяло.
Мать так вспотела, что сквозь рубашку отчетливо проступили груди, как будто ее целиком окатили водой. А правая подмышка просветилась чернотой. Сестрица моя, теперь уж наверняка от страха, пустила под себя еще порцию и засучила от дискомфорта ногами. Откуда что берется! Вроде бы и не пила много на ночь.
– Вы только, пожалуйста, не задерживайте нас, – попросил мужчина с ключом. Он повертел его на пальце и заверил, что после сделанного матерью выбора отдаст ей дубликат и они никогда больше не вернутся в нашу квартиру.
– А то придется всех вас убить! – уточнил второй и уставил дырочку пистолета в мое непонимающее лицо, Мне внезапно тоже захотелось опростаться. Я не боялся наказания по причине своего малолетства, а потому незамедлительно освободил кишечник, к большому неудовольствию гостей. Они сразу засуетились, занервничали. Усатый то и дело переводил пистолет с меня на сестру, буркая сквозь зубы: ну же, ну же, решайте – а тот, который попроще, сжал ключ так, что пальцы побелели. А за окном уже светало, вот-вот первый луч скользнет с самой высокой крыши в наше окно и начнет работать винный завод, расположенный в подвале нашего дома. У усатого при утреннем свете обнаружилось на руке волосатое родимое пятно, точно такое же, как у Федора Михалыча на животе.
– Даю минуту!
Дырочка пистолета совместилась с дырочкой пупка моей сестры.
– Сына или дочь?! – был поставлен в который раз вопрос.
Все смешалось в материнской постели. И пот, и детский страх, и ужас, и отчаяние, и неизбежность выбора, и последующее за ним горе.
– Сына или дочь?! И мать ответила:
– Сына.
И закрыла в обмороке глаза.
Не знаю, почему она так решила. Может быть, потому, что дочь как-то ближе, вырастет помощницей, объединится в едином мышлении против мужчин... Может, потому, что я слишком еще мал и мне легче будет умирать, непонятливому, не знаю. Но как засветились неподдельной радостью глаза моей сестры! Она раскрыла их пошире, приподнялась на локтях, чтобы не пропустить момента, когда меня будут наказывать. Она совсем еще дурочка. Не догадывается, что это наказание будет самым строгим и последним. Что не будет у нее больше младшего братца и не с кем будет поиграть в дочки-матери. И тогда в свои два с половиной года я понял, что нельзя желать зла ближнему, что воздается мне по заслугам. Не радуйся, когда наказывают твою сестру, ведь сам каждую ночь мочишь простыни и даже сейчас лежишь, прилипший к матрацу.
Усатый приставил пистолет к моему лбу и нажал на спусковой курок. Раздался выстрел, и все погрузилось в печаль.
С тех пор в моем лбу четырехугольная вмятина с неровными краями. С помощью провидения я выжил, но с той ночи мать уже не любила меня. Наверное, потому, что меня выбрала, а не сестру.
Да нет, конечно. Любит меня мать, как и всякая мать своего ребенка. Никто ночью к нам не приходил и не предлагал такой идиотский выбор. Сестры у меня нет и никогда не было, о чем я всегда жалел и грустил. Отчего такие фантазии? Может быть, от тоски.
А вот четырехугольная вмятина в моем лбу есть на самом деле. Глубина ее – с фалангу указательного пальца. Когда женщины меня целуют, то непременно интересуются природой происхождения такой впадины. А когда узнают мою очередную фантазию, то засовывают в ямку свои мокрые язычки. Никому в этом мире, кроме меня, мозгов не облизывают...
В два с половиной года у меня не было солдатиков. Вместо них были обыкновенные гвозди. Я расставлял их на шляпки в коридоре и лениво играл. Федор Михалыч говорил, что я мальчик плохой, потому-то мне настоящих солдат не покупают. Один раз он наступил на гвоздь, но выпороть меня побоялся. Отец приехал в город на два месяца и содержал свой пистолет в шкафу, потому наш сосед, идя в ванную, временно прикрывая свою срамоту вафельным полотенцем меня не порол.
– Злорадный вы человек, – говорил я Федору Михалычу. – Не злорадствуйте, – приговаривал, убивая один гвоздь другим. – Вот моя сестра злорадствовала, когда меня убивали, потому и вовсе никогда на свет не родилась.
Однажды я споткнулся о порог и со всего маху упал лбом на гвоздь, который ушел по самую шляпку в мозги. Но вместо того чтобы почувствовать боль, испытал величайшее наслаждение, ни с чем не сравнимое ни до, ни после случившегося. Как будто тысячи любовных окончаний слились воедино. Все то, что испытывают мужчины и женщины, цветки, опыляемые шмелями, нарождающиеся звезды – и досталось все это мне одному. Я закатил глазки, высунул язычок и захрипел. Таким меня застали родители, вернувшиеся с кухни. Вдобавок мое бледное личико затекло струйкой крови. Видимо, гвоздь, попав в какую-то точку мозга, отвечающую за наслаждения, по пути задел кровеносный сосуд. В общем, родители подумали, что моя невинная душа устремилась прямиком в рай. Мать шмякнулась головой о стену, а отец достал из шкафа пистолет. Но, видимо, мою душу, что называется, пригвоздило, и я застонал от удовольствия подавая надежды на свою бесценную жизнь. Отец засунул пистолет в штаны, мать коротко выдохнула, схватила меня в охапку и, словно кенгуру, запрыгала по лестнице к выходу. За ней с перекосившимся лицом отец. Федор Михалыч тоже бы поскакал, но в тот роковой момент находился в неглиже. Про себя он поклялся, что на совершеннолетие подарит мне оловянных солдатиков. Впрочем, промышленность перестала их выпускать задолго до моего созревания, а потому сосед освободил себя от взятых обязательств.
Мать стояла посреди пустого шоссе, держа меня на опущенных руках, как мадонна мертвого младенца. С прядки светлых волос капала на асфальт кровь. На тротуаре сидел убитый горем отец, а даль оставалась пустой. Только прошуршал по дороге вечерний велосипедист, и застыл в покое горизонт. Отдавшись материнским рукам, я не дышал грудью, охваченный волной удовольствий. Я отстранился от внешнего мира, и даже волчий вой матери и собачий скулеж отца не могли вернуть меня в мир общий.
Через несколько минут на дороге все же показался крытый военный грузовик. Отец вытащил пистолет и, словно под танк, бросился ему под колеса. Машина успела затормозить, из кабины вывалился зашедшийся в мате сержант, а через мгновение мы уже мчались в Филатовскую.
– Какой голубоглазый ангелочек! – причитала пожилая медсестра. – Какой красавчик, а не дышит.
Сквозь тонкие перегородки, отделяющие операционную от предбанника, слова медсестры послужили сигналом к действию. Мать открыла окно и отчаянно шагнула в бездну.
Гвоздь удачно извлекли из моей головы, но сердце в знак протеста на несколько минут остановилось. Зачем жизнь, которая лишена наслаждений?.. Врачи знали свое дело, и после электростимуляции сердце застучало с удвоенной силой. Я искренне разрыдался, недовольный возвращением в реальность, а матери пришлось накладывать на ногу шины. Ее падение с первого этажа было неудачным, и она сломала лодыжку.
Выписали нас в ту же ночь, заверив, что со мной будет все в порядке. Родители на радостях до рассвета пытались любить друг друга, но я в злобной мстительности в самые ответственные моменты подавал голос. То и дело из-за двери раздавался взволнованный вопрос Федора Михалыча:
– Не вызвать ли скорую?
Вот достаточно правдивая история возникновения вмятины в моей голове,
– Приезжай! – услышал я в телефонной трубке голос своего друга. – Есть кое-что для тебя интересное. Только не задерживайся, у меня еще операция.
– Еду.
Я натянул на себя штаны, выскочил на улицу и помчался в "Склифосовского". Время было еще совсем раннее, транспорт ходил редко, и в больнице я оказался только через час. Друга в комнате для отдыха персонала не оказалось, он был в операционной. Это "кое-что интересное" так волновало меня, что я достал из шкафа стерильный халат, напялил бахилы и в маске прошел в операционную. Все столы были пусты за исключением дальнего, за которым сидел мой друг. Его глаза увеличивались роговыми очками, а желтые руки, затянутые в резиновые перчатки, обмазывали йодом бритую голову лежащего на операционном столе.
– Извини. Транспорта не было.
– Я понял.
Возникла пауза, в которую Казбек, так зовут моего друга, сделал скальпелем разрез на бритой голове.
– Будет жить? – спросил я, внутренне сочувствуя больному. Может быть, он испытывает то же самое, что и я в детстве, а его насильно...
– Черт его знает, – ответил Казбек, беря со столика инструментов сверло и примеряя его к голове. – Слава богу, на сегодня это последняя. Через час спать поеду, и никакие силы меня не разбудят.
– Ну что? – с нетерпением спросил я.
– Подожди.
Сверло удачно прошло черепную коробку, и Казбек складывал на специальную тряпочку кусочки кости. Затем он засунул в образовавшуюся дырку палец и на несколько минут застыл, как будто всасывал мозги. Потом, очнувшись, вытащил палец, осмотрел его – красный, с налетом мозгового вещества – и сказал:
– Жить не будет.
– Почему?
– Видишь жидкость мозговую? – и зашевелил пальцем возле моего носа. – У нас в отделении почти все умирают. Травматология, видишь ли... А у меня ночная смена. Этого, – он указал на дыру в голове, – бампером...
– Может, попытаешься?
– Да там не мозги уже, а каша. Будем его поддерживать, но минут через тридцать умрет...
И Казбек стал собирать голову. Смазал кусочки черепа специальным клеем, сложил их, словно мозаику, в дыру, зашил кожу и, позвонив в звонок, зашагал из операционной. Навстречу нам семенила операционная сестра. Она улыбнулась казахской физиономии трепанатора и стала засовывать в рот умирающему дренаж.
Глотнув из грязного стакана остатки чая, Казбек закрыл свои раскосые глаза.
– Мне приятель вчера звонил из Чолпон-Аты... Там газопровод построили. А один сварщик за три часа до его пуска разварил кусок трубы и залез в нее, вдобавок мини-мопед с собой захватил. Заварил трубу обратно и стал на мопеде гонять по газопроводу. Два часа гонял, пока газ не пустили. Потом, соответственно, взрыв и все такое... Вот все, что я имел тебе сообщить...Трепанатор открыл глаза. – Ну, и какое это у тебя по счету?
– Сорок девятое, – без промедления ответил я. – Одно из самых впечатляющих самоубийств... Потрясающе!.. Спасибо тебе огромное... Сегодня же внесу его в картотеку. В наше время все реже и реже отыщешь самоубийцу с фантазией. А это просто подарок для меня.
– Уйду я отсюда, – уверенно сказал Казбек и зевнул. – Чего я здесь забыл? Пойду в нейрохирургию. В Алма-Ату зовут. Сдалась мне ваша Москва!.. Там хоть помирать на столе реже будут. Обратно же все раскосые там живут, как и я.
Я не слушал Казбека, а представлял, как внесу в свою картотеку столь прелестный случай, так украсивший мою коллекцию. Давно в нее не попадал столь ценный бриллиант, а от этого на душе у меня стало легко и прекрасно...
Собрав свои вещички в рюкзачок, затянув груди в походный лифчик, чтобы не колыхались, отправилась в Москву. Восемь тысяч километров перед ней простирались, и поездом, и пароходом предстояло ехать. Шесть суток в поезде и еще двое на пароходе...
Огромного роста девица с бетонными бедрами, с огненно-рыжей косой толщиной с березу, огромными грудями, каждая величиной с круглый аквариум, она села в поездок и покатила к центру России. Ей исполнилось восемнадцать, и плоть звала к действию. В будущем она станет моей матерью, а пока она девственно чиста, и стучит колесами поезд, все приближая ее к настоящему.
Крутые яйца, унылый пейзаж за окном, храпящие соседи по плацкарту, она сама, немытая уже четверо суток, и ползут по голове прежирные вши, и отрезается коса, вольно росшая с рождения. И нечем прикрыть гиревой зад, и слезы текут по лицу, смывая веснушки. И кто-то деньги вдобавок спер... Такая знакомая история всем матерям, пробирающимся в юности с периферии в Москву. А потом корабль, и все скопом сидят на палубе, а у нее от волнения все началось раньше, не в срок. Воды нет, хотя за бортом ее море, а вымыться нужно, иначе умрет от стыда. И идет она в трюм, где режутся в карты мотористы, и, косноязычная от несчастья, объясняет матершиным харям свою беду, а те гогочут, трогают ее руки, раздают карты, объявляя девицу выигрышем, и начинают играть на нее всерьез, вдруг сразу ставшие потными и злыми. А она стоит, мертва от страха, застывшая, будто слон на жаре, и вдруг прекращается у нее, так же внезапно, как началось. А маленький доходяга-счастливчик, выигравший кон, крадется к ней с ведром воды и толкает за машину своими сухими ручками. Предлагает полить ей, вкрадчивым голосом таким, и похоть льется из его глаз, как перестоявший мед из сот. А она, словно во сне, медленно раздевает свое большое тело, открывая рыжую наготу, свое раненное естественной раной тело, и напрягаются ее сильные ноги, способные вытаптывать поля, и чувствует сквозь немоту скотские взгляды на своем животе... И славный старый Бог, сохраняя ее для светлого будущего, сажает корабль на песчаную мель. И все рушится вокруг, все валится. Ломаются сухонькие ручки мотористов, сыплется на них из печи раскаленный уголь, гаснут их похотливые глаза... А она стоит одна среди хаоса на своих литых ногах, голая, с остриженной головой и моет свое сохраненное тело. Словно замешенная на сгущенном молоке, цельная, не разбавленная цивилизацией, как глыба льда, позолоченная солнцем, плывет, спасенная, к желанному берегу будущая женщина.
А потом она привыкала к Москве, целый год разгружая вагоны. Искала любовь, но не оголтело, как тысячи ее сверстниц, полагаясь на свои могучие инстинкты, веря, что та единственная, неповторимая не пройдет стороной, незамеченная, а во всеуслышание заявит; вот она я! пришла! И действительно, поступив на библиотечный факультет, отписав матери, что становится интеллигентной, она познакомилась с Яшей, комсоргом института. И завертелась любовь с чернявеньким пареньком, едва достающим ей до грудей. И не было в той любви греха, не было даже прикосновений к чувствительным местам, лишь повествования о Крайнем Севере, где осталось ее детство, рассказы Яши об общественной работе и всякая другая мелочь, заедаемая мороженым и вдыхаемая вместе с весенним ветром их лет. А потом, когда наступили первые каникулы, Яша тайком от всех исключил себя из комсомола, о чем сам же написал протокол, тиснув на нем печать, послал в газету очерк о человеке без родины и, передав все вышеперечисленное в ОВИР, вскоре получил разрешение, с коим и выехал в Израиль насовсем. Она долго переживала, получая от Яши вызовы, плакала ночами, тосковала, но ехать к нему решительно не было сил. Ей на севере надо жить. Такая уж у нее судьба!..
В нее не часто, но влюблялись, был даже восторженный фигурист, питающий страсть ко всему гипертрофированному, а она опять ждала, отказывая всем напропалую, и вновь дождалась. Обыкновенного, не очень красивого, и в первую же ночь отдалась ему. Спокойно, как все большие женщины, как все большие корабли, плыла она по волнам наслаждений, концом которых и наградой, надо полагать, стал я. Она носила свой большой живот, как другие носят привычные сумки, и родила меня спокойно и легко. Я вышел, словно пуля из хорошо смазанного ружья.
– Какая молодец! – заулыбался старый акушер, но, глядя на то, как мать сводит ноги, рассердился. – Вам же нельзя! Что ж вы, ей-богу!
А что если ей стыдно, развороченной, лежать перед мужчиной! Подумаешь, нельзя!
Отец по полгода пропадал на Сахалине, командуя геологической партией, а мать допоздна засиживалась в библиотеке, так что меня после приобретенной во лбу вмятины отдали в детский сад-пятидневку, где я успешно получал общественное воспитание. Пятидневка в саду переросла в шестидневку-интернат, но с немецким языком, а отец в то время был на Кольском полуострове. Мать из-за этого злилась и была чересчур строга со мной, забирая на выходные. Я отнюдь не отличался успешной учебой, да и характер мой был далеко не ангельский. Забирая меня в субботу, она еще в автобусе проверяла дневник, и весь остаток пути я психологически настраивался на порку. Мы входили в свою комнату, мать доставала из шкафа офицерский ремень, вытаскивала за волосы меня из угла, мощным движением сдергивала с меня брюки вместе с трусами и наносила первый удар по мальчишеским ягодицам. Я, вытаращив глаза, заходился в безмолвном крике, второй удар рождал невероятный вопль, а третий заставлял маленький кулачок отчаянно бить по материнской ноге. Был четвертый, пятый и так далее... Пока я корчился от боли, мать сидела на полу, уложив голову на батарею и уставив глаза в потолок. Наверное, она вспоминала отца, а потом меня, в это время испытывающего сладостное чувство проходящей боли, и словно зверь, бросалась к дитяти. Целовала мой худосочный зад, роняла горячие слезы, а я ей говорил, что теперь мне опять будет стыдно появляться на физкультуре и что я ее не люблю. Хотя в тот момент безрассудных ласк я ее обожал, но с высоты оскорбленного и поруганного был по-детски жесток и называл ее фашисткой гитлеровской, а она все горше плакала в ночи в одеяло, и я смотрел на ее расплывшиеся по телу груди, и представлялись они мне прозрачными, стеклянными, доверху наполненными водой. А в той воде плыли маленькие экзотические рыбки гуппи, и тыркались они в веснушчатую кожу, мечтая о большой реке. И тогда я шел на кухню, брал кусок хлеба, возвращался и кормил рыбок. Мать глухо стонала, рыбки куда-то уплывали, и внимание мое приковывало то место, из которого я появился на свет. Я трогал его, теплое и странное, и удивлялся, что у нее все по-другому, будто я ей не родной, а она просыпалась и со сна подставляла мне горшок. Мой живот с наслаждением сдувался, и я засыпал, уткнувшись в подмышку, пахнущую вермишелевым супом.
А когда приезжал отец, меня с тахты перекладывали на кресло-кровать, в котором жили клопы. Они меня кусали, на следующее утро я был в красных пятнах и целую неделю оставался дома по причине внезапно возникшей аллергии. Мать считала, что это на нервной почве. Что это я так реагирую на приезд отца: мол, очень рад. А мне было наплевать на папашу, так как видел его очень редко и запомнить не мог. К тому же он занимал мое место на тахте, целыми ночами тискал мать, а меня в это время жрали кровопийцы.
В один из своих приездов отец на премиальные подарил матери крохотный "Запорожец" – божью коровку. Сначала она восприняла это как издевку. Куда с ее волшебными телесами в спичечную коробку! А потом, когда залезла и проехалась по двору, радости ее предела не было. Я тоже, конечно, был рад, хотя на все сто процентов понимал, что мне поводить не дадут. Зато буду ездить в интернат на машине, а вонючий общественный транспорт будет перевозить всех остальных. А потом отец стал приезжать все реже и реже, ссылаясь на свою занятость, а когда все же приезжал, то каждый день напивался. Напившись, тащил меня в ванную мыть. Напускал кипятка спьяну, сажал в него и принимался вести теологические разговоры.
– Эх, плохо мне, – говорит.
– Что ж поделаешь, – отвечает сам себе. – Неси свой крест и веруй!
– А я и несу... – и, тяжело вздыхая, добавлял: – Но не верую.
А я смотрел на него осоловелыми глазами и просил заканчивать с баней. Он спохватывался, выуживал меня неверными руками из воды и, как-то по-собачьи улыбаясь, нес меня голого в комнату. Навстречу попадался Федор Михалыч и, встав в картинную позу, произносил:
– Сами голые ходят, а мне запрещают! Где же равенство?! Равенство где?!
Отец извинялся, говорил, что я еще маленький, что несет меня прямо в постель.
– И бабенку поди ему уже приготовили! – набирался смелости сосед. Маленький! Вон какая уже пипирка!
Отец доносил меня до постели, клал, возвращался в коридор и, зажав Федора Михалыча в угол, бил того кулаками в живот. После этого старый эксгибиционист долго плакал. Я слышал его горькие всхлипывания через стену и жалел непутевого, злясь на папашу и его крест. Отец уже не тискал мать, я быстро засыпал, и снилось мне, что за рулем "Запорожца" я давлю всех интернатских учителей подряд.
А потом отец перестал приезжать вовсе. Последний раз позвонил и сказал, что будет искать месторождение без отпуска, пока не найдет. А какая-то приятельница матери нашептала, что он уже нашел месторождение с двумя сиськами и приличным задом... Тогда было воскресенье. На следующее утро мать отвела меня в интернат, попросила, чтобы меня оставили на воскресенье, взяла на работе отпуск за свой счет и заправила до отказа бак "Запорожца" бензином. Уложив груди на руль, поставив платформы ног на педали, запустив мотор, она поехала на Сахалин.
К тому времени у нее уже была больная щитовидка и глаза, некогда обычные, повылазили из орбит. Она давила на педали и, словно бегемот, оседлавший жука, неслась вперед. Средняя полоса России с ее церквями, непогодой и остатками железа в полях наматывалась на колеса рутиной километров. Останавливалась лишь что-то съесть, чем-то утолить жажду, справить естественную нужду под какой-нибудь елью. А волки, находившие эти места, отшатывались в испуге от запахов могучей суки и бежали без оглядки к своей лежке. И только когда в ночном небе появлялась бляха луны, она сбрасывала скорость, катила медленно, смотрела куда-то внутрь себя и будто в этот момент была на луне... А потом вновь дорога, форсирование больших и малых рек, звуки джаза, воспоминания о Яше... Толкала километрами сломавшуюся машину к ближайшей техстанции, худела, расставаясь с северной плотью, иной раз жалела, что пустилась в столь дальний путь, но с каждым днем была все ближе к Сахалину... Каким-то образом отыскала крупное начальство, сообщившее ей, что геологическая партия находится совсем недалеко от какой-то там сопки, где когда-то, в суровые годы войны, человек съел человека, и вот она уже различает палатки, возле одной из которых стоит отец, оперевшись ногой о тушу только что убитого медведя. И видит он, как останавливается подаренный им "Запорожец", как выходит из него женщина-солдат, как спешно подходит к нему и, коротко замахнувшись, дает пощечину, эхом пролетевшую по сопкам. А потом так же спешно садится обратно и, газанув, скрывается от памятника каннибализму. Она не видит, как только что стоявший героем отец, вдруг переламывается пополам и, уткнувшись в вонючую шкуру мертвого медведя, горько, не по-мужски, плачет. А у палатки стоит женщина в волчьей шапке. У нее плоская грудь и зад с детский кулачок. Она смотрит на отца и тоже плачет, и вообще вся природа плачет сахалинским дождем...
Уставший "Запорожец" не выдерживает и в самом начале обратного пути разваливается на части. Матери его не жалко. Она бросает отцовский подарок на дороге и вновь, как в юности, опять поезд, опять корабль... Но все это уже без вшей, без внезапных дел и надежд, просто возвращается домой усталая, постаревшая женщина с вытаращенными глазами.
В субботу мать забрала меня из интерната и в первый раз не порола. Я не мог простить ей утерянного "Запорожца", а вследствие этого – нераздавленных учителей. Но зато она мне обещала, что заберет из интерната и отдаст бабушке. Что ж, к бабушке, так к бабушке, буду курить перед ее длинным носом. Бабушка – папина мама – будет чувствовать передо мною вину.
Потом у мамы появился карлик Жорик. Ну не совсем карлик, но человечек маленького роста. Зато он был божественно красив. Хлопал кукольными глазами на мать и работал в театре артистом. Известно, что в старину было изыском любить всяких уродцев. Даже королевы забавлялись с карликами. Так что же говорить о моей матери. К тому же говорят, что Жорик был талантливым артистом, но слишком охоч до женского пола. Всех артисток в театре перетоптал и гордился этим, маленький бесенок... С матерью он прожил полгода. Потом ему дали репетировать главную роль в пьесе о Французской революции. Репетировал блистательно. В финале пьесы на сцене должна была появляться гильотина, и герою Жорика толпа беснующихся женщин отрубала голову. Вместо Жорика в последний момент подставлялся манекен, и сцена выглядела необыкновенно натуральной, с кровью и обмороками в зале. Но на премьере перетоптанные артистки вместо манекена сунули под острый нож голову настоящего Жорика, и, отделившаяся от туловища, она покатилась со сцены и упала на колени матери, сидевшей в первом ряду. Зал шумел, а работники морга долго трудились, пришивая голову обратно. Мать же после этого безнадежно загрустила и устроилась в секцию парашютного спорта. Почти год изучала теорию, а на первом прыжке прыгнула из самолета без парашюта. Уж какие она делала пируэты в воздухе, как сальто крутила, как птица порхала в поднебесье. Очевидцы говорят, что если бы это были официальные соревнования, то прежний мировой не устоял бы...
Первый прыжок матери стал первым делом о самоубийстве с фантазией в моей коллекции.
– Так-то вот, Галя... Такова история...
– И этих двоих не нашли?
– Куда там...
– А сестра твоя?
– Сестра?.. А что сестра... Выросла, вышла замуж и укатила за границу...
– Как же тебя твоя мама так могла?..
– А ты бы как поступила?..
Галя. Маленького роста женщина с голубиной грудкой. Она слушает меня, ухватив пальчиками мочку своего уха и приоткрыв неровные зубки, грустно вздыхает. Ей больше лет, чем мне, но шея у нее совсем девичья – с мягкой ровной кожей. Лишь когда она волнуется, на шее с двух сторон проступают жилки. По ним я понимаю, что она старше, что была у нее судьба, а сейчас только отголоски. Она грустно вздыхает, и по ее глазам не видно, верит она моим фантазиям или нет. Главное, что не обвиняет меня во вранье и малолетстве. Что ж, опыт – штука важная... Она лежит, свернувшись калачиком. На ней маечка и трусики. С ними она расстается, когда идет в душ и когда в них нельзя вовсе. Это ее причуда или привычка. Потому что никаких изъянов на ее теле нет или я их пока не отыскал. Мужчине необходим изъян в женщине, дающий ей отличие от других. Когда он отыщет такой, то старается скрыть. Одна мысль, что кто-то, кроме него, может увидеть изъян, подвергает в яростную ревность. Представьте женщину с совершенным телом, и станет ясно, что скрывать нечего. Совершенная женщина – манекен.
– Что-то тебе не нравится во мне? – спрашивает Галя.
– Что-то мне не нравится во всех женщинах, – отвечаю.
– Что?
– Я сам.
– Как это?
– То, что они думают обо мне, всегда хуже, чем я есть на самом деле. А я не нравлюсь себе хорошим, потому что на самом деле хуже...
– Я не понимаю.
– И я.
Она меняет позу, отвернувшись к стене. Ее плечи оттянулись назад и стали остренькими. Жаль, что я любуюсь, как художник. Ничто плотское во мне не дрогнет. Дорогой гвоздик сослужил службу и открыл источник наслаждений, перед которым женщина – лишь милое удовольствие. И совершенная она манекен, и несовершенная. За это они меня и любят, за такое мнение о них. Жаль только, что гвоздик открыл, а хирург закрыл...